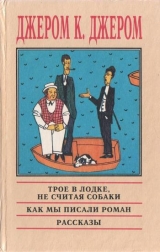
Текст книги "Веселые картинки"
Автор книги: Клапка Джером Джером
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Зверь в человеке
Между младшим учителем 21 года и мальчиком учеником 15 лет лежит непроходимая пропасть. Между борющимся за успех журналистом 31 года и доктором медицины 25 лет, с блестящей репутацией и с высшей степенью, обещающей карьерой впереди дружба вполне позволена.
С Кириллом Гарджоном меня познакомил священник Чарльс Фауерберг.
– Наш молодой друг, – сказал Чарльс Фауерберг, приняв очень важную позу и положив руку на плечо своего ученика, – наш молодой друг был в некотором пренебрежении, но я вижу в нем признаки, подающие надежду, и, могу даже сказать, большую надежду. В настоящее время он находится и будет еще находиться под моим особенным надзором. Поэтому нечего вам заботиться о его занятиях. Он будет спать вместе с другими мальчиками в спальне № 2.
Мальчик полюбил меня. Я думаю, что помог ему прожить в «Альфа Гаузе» не так скучно, как пришлось бы ему в другое время. Метод Чарльса для обучения неспособных был тот же, какой употребляли для кормления гусей. Он набивал их всякого рода знаниями, как откармливают гусей всякого рода пищей. Процесс этот приносит пользу хозяевам, но очень неприятен гусям.
Молодой Гарджон и я оставили «Альфа Гауз» в конце одного и того же семестра. Он отправился в коллегию Брезеность Оксфордского университета, а я остановился в Блюмсбюри. Всякий раз, когда он бывал в Лондоне, он заходил ко мне и в таком случае мы обедали в одном из многочисленных, но не совсем опрятных ресторанов Сого, а затем обсуждали свою жизнь за бутылкой дешевого вина. Когда он поступил в госпиталь Гая, я оставил улицу Святого Иоанна и нанял квартиру недалеко от него в Стапль-Ине. Это были славные дни. Детство слишком хвалят, но в нем больше печалей, чем радостей. Я не взял бы детства назад, если бы даже мне дали его в подарок, но я отдал бы остаток моей жизни, чтобы пережить вновь двадцатые годы.
Для Кирилла я был опытным человеком, и он обращался ко мне за советами, которые, я боюсь, он не всегда получал от меня; а я заимствовал от него энтузиазм и учился тому, какое благо доставляет человеку сохранение его идеалов.
Часто во время наших разговоров я чувствовал, будто какой-то видимый свет исходит из него и окружает его лицо сиянием какого-то древнего святого. Природа ошиблась, поместив его в наш XIX век. Ее победы закончены, ее армия героев, из которых некоторые живут в песнях, другие забыты навсегда, распущена. На земле воцарился долгий мир, выигранный их кровью и трудами. А все-таки она создала Кирилла Гарджона для того, чтобы он был одним из ее солдат. В былые дни, когда выражение моего мнения было равносильно смерти, он, как мученик, пошел бы на жертву, чтобы биться за правду. Бороться за цивилизацию было бы для него настоящей работой, а судьба заставила его торчать в благоустроенной больнице. Однако, на свете есть еще много работы, хотя эта работа находится теперь в делах мира, а не на поле битвы. Незначительное, но вполне достаточное состояние дало ему некоторую самостоятельность в работе. Для большинства людей, определенный доход убивает их честолюбие, но у Кирилла это было только основанием желаний. Освобожденный от необходимости работать для того, чтобы жить, он мог позволить себе такую роскошь, как жить для того, чтобы работать. Его профессия была для него страстью; он смотрел на нее не с холодным любопытством ученого, но с полной преданностью ученика. Помогать расширению ее границ, нести ее флаг в непосещенные пустыни за постоянно движущимися пределами человеческого знания – было его сном наяву.
В один прекрасный вечер, как я помню, сидели мы в его комнате и во время молчания до нас донесся сквозь открытое окно стон города, похожий на стон утомленного ребенка. Он поднялся и протянул руки, как бы желая собрать все мучения мужчин и женщин, чтобы утешить их.
– О, если бы я мог помочь вам мои братья и сестры! Возьми мою жизнь, Боже, для общей пользы!
Для молодого человека такие слова вовсе не смешны, Но для нас, стариков, это звучит немножко театрально.
Само собою разумеется, он влюбился и как раз в такую женщину, какая ему соответствовала. Эльсперт Грант принадлежала к тому типу, с которого люди скорее инстинктивно, чем сознательно, срисовывали своих Мадонн и своих святых. Описать женщину словами невозможно. Ее красоту нельзя расписать по заказу, ее можно было только чувствовать, как чувствуют красоту летнего восхода, сгоняющего тени со спящего города. Я очень часто встречал ее, и когда говорил с ней, то чувствовал себя, – я маленький журналист, посетитель кабаков Флит Стрита, рассказчик разных легких историй, – чувствовал себя полным джентльменом, неспособным совершить низкий поступок, и готовым на всякое благородное дело. В ее присутствии жизнь становилась прекрасной и доброй вещью, школой вежливости, нежности и простоты. Я раздумывал впоследствии, рассмотрев немного яснее пути людей, не было ли лучше, если бы она имела в себе менее духовного, если бы в ее характере было больше земли, которая делала бы ее более годной для борьбы мира сего. Но в то время мне казалось, что эти два моих друга были созданы один для другого. Она затронула все высшие черты характера Кирилла, а он любил ее с нескрываемым обожанием, которое показалось бы аффектацией в человеке с меньшим умом, и которое она принимала вполне спокойно.
Между ними не было никакого формального обручения, и, как казалось, Кирилл не хотел грязнить свою любовь мыслью о браке. Для него она была скорее идеалом женственности, чем женщиной по крови и плоти. Ее любовь была для него религией. В ней не было и следа земной страсти. Если бы я лучше знал мир, то скорее мог бы предвидеть результат всего этого, так как в жилах моего друга текла горячая кровь; но мы, увы, только видим наши поэмы во сне, а не переживаем их наяву, и в то время мысль о другой женщине, которая может заменить ее, не приходила мне в голову, а мысль о том, что этой другой женщиной может быть Джеральдина Фаулей, я счел бы безумием. И вот этого-то места во всей истории я и не понимаю до сих пор. Другим и вполне понятным делом было то, что он был увлечен ею, что он останавливался около нее, следя, как темный румянец появлялся и исчезал на ее лице и стараясь вызвать огонь в ее темных глазах.
Девушка была замечательно красива, и именно чувственной красотой привлекающей людей, но если на нее посмотреть при другом освещении, она отталкивала. По временам, когда это соответствовало ее целям, она имела даже некоторую слащавость в обращении, но ее действия были всегда неуклюжи и преувеличены и могли обмануть только дурака.
Кирилл, во всяком случае, попался не на эту удочку. В один прекрасный вечер, на цыганском сборище, они говорили друг с другом довольно долгое время, и в это-то время я подошел к ним, желая ему что-то сказать. По мере того, как я приближался, она отходила, так как она меня так же не любила, как и я ее и, быть может, это было для меня счастьем.
– Мисс Фаулей предпочитает компанию вдвоем, – заметил я, смотря на ее удаляющуюся фигуру.
– Мне кажется, что она считает вас тем, что мы называем антисимпатичным элементом, – сказал он смеясь.
– Нравится ли она вам? – несколько откровенно спросил я.
Его глаза остановились на ней, тогда как она стояла в дверях, говоря с небольшим темнобородым господином, которого ей только что представили; спустя несколько минут, она ушла с ним под руку, а Кирилл повернулся ко мне.
– Я считаю ее, – сказал он очень тихо, как и нужно было, – воплощением всего того, что есть дурного в женщине. В старину она была бы Клеопатрой, Феодорой или Далилой; сегодня, не имея другого исхода, она умная женщина, добивающаяся права входа в хорошее общество и, кроме того, дочь старого Фаулей. Я утомился, пойдемте домой.
Его намек на ее родителя имел значение. Немногие думали о том, чтобы соединить воедино умную, красивую Джеральдину Фаулей с плутом Фаулей, евреем-перекрещенцем, беглецом из тюрьмы и плутоватым маклером, который, надеясь на свою дочь, старался не мешать ей, когда бывал в ее обществе. Никто, раз видавший ее папеньку, не мог забыть этого родства дочки. Лицо старика со всею его жестокостью, хитростью и жадностью стояло здесь воспроизведенным черта в черту, линия в линию. Казалось, будто природа задалась целью создать безобразие и красоту из того же самого материала. Где была разница между ядовитой усмешкой старого маклера и мягкими улыбками дочери? Найти такую разницу, никто бы не мог, а все же от одной холод пробегал по спине, а за другую многие мужчины отдали бы все.
Ответ Кирилла на мой вопрос удовлетворил меня на некоторое время. Было вполне естественно, что он встречал эту девушку довольно часто. Она была довольно известной певицей, участвовавшей в нашем кружке, а наш кружок был, что обыкновенно называется, – литературно-артистическим. Нужно, однако, сказать правду, она никогда не старалась очаровать его или даже быть особенно любезной с ним. Казалось даже, что она старается показать ему свой естественный характер, другими словами, свои самые неприятные качества.
В один прекрасный вечер, выходя из театра, мы встретили ее в фойе. Я шел за Кириллом на некотором расстоянии, но когда он остановился поговорить с ней, движение толпы заставило меня стать как раз позади них.
– Будете ли вы завтра у Литон? – спросил он ее тихим голосом, как я слышал.
– Да, – ответила она, – но я хотела бы, чтобы вы не приходили.
– Почему нет?
– Потому, что вы дурак, и мне с вами скучно.
При обыкновенных обстоятельствах я счел бы эти
слова за простую болтовню. Эта женщина могла шутить таким образом, но лицо Кирилла покрылось краской негодования и мучения. Я ничего не сказал ему, я не хотел, показать ему, что подслушал их разговор. Я старался убедить себя, что он просто забавляется ею, но мое объяснение не удовлетворило меня. На следующий вечер я пошел к Литонам сам.
Гранты были в городе и Кирилл обедал с ними. Я нашел, что многих не знал, а о тех, которых знал, мало заботился. Я хотел было уйти, как вдруг, возвестили о приходе мисс Фаулей. Я стоял как раз около двери, и она вынуждена была остановиться и поговорить со мною. Мы обменялись несколькими общими фразами. Она или обходилась с человеком очень любезно или была с ним довольно груба. Обыкновенно она говорила со мною несмотря на меня и в то же время кивая головою и улыбаясь стоящим вокруг. Я встречал много также дурно воспитанных женщин, и это меня не удивляло. С минуту, однако, ее взор остановился на мне.
– Где ваш друг, мистер Гарджон? – сказала она. – Я думала, что вы неразлучны.
Я посмотрел на нее с удивлением.
– Он обедает не дома, – ответил я, – и не думаю, что он придет сюда.
Она засмеялась и сказала:
– О, он придет.
Кажется, что этот смех был самой худшей чертой в этой женщине. В нем звучало столько жестокости, что это меня разозлило. Она собралась уходить, но я загородил ей дорогу!
– Почему вы так думаете? – спросил я ее, зная, что мой голос выдал то беспокойство, которое я чувствовал относительно ее ответа.
Она поглядела мне прямо в лицо. У нее было хоть одно хорошее качество, качество, которым животные обладают в большей степени, чем люди, а именно – правдивость. Она знала, что я ее не люблю, вернее даже, ненавижу, и не думала скрывать этого.
– Потому, что я здесь, – ответила она. – Почему вы его не спасаете? Разве вы над ним не имеете никакого влияния? Прикажите святой удержать его, мне он не нужен. Вы слышали, что я ему сказала в прошлую ночь. Я выйду замуж за него только ради его положения и денег, которые он может заработать, если захочет работать, а не мечтать, как дурак передайте это ему; я от этого не откажусь.
Она прошла далее, чтобы поздороваться с каким-то старым лордом, а я стоял, смотря ей вслед, с несколько глупым выражением лица, пока какой-то молодой дурак, не подошел ко мне и, улыбаясь, спросил меня, – не видел ли я привидения или не проиграл ли пари.
Ждать не было никакой надобности; что-то говорило мне, что женщина эта сказала правду. Я видел, как он пришел, видел, как он, как собака, ходил около нее, ожидая доброго слова или пинка. Я знал, что она меня видит, и знал, что мое присутствие только прибавляет ей смелости. Я заговорил с ним только тогда, когда мы вышли на улицу. Ни один из нас не был хорошим актером. Он много прочитал на моем лице, а я увидел, что он прочитал это. Мы молча шли рядом, причем я соображал, что сказать, сомневался, сделаю ли я добро, и желал, чтобы мы были, где угодно, только не на этих тихих улицах. Мы заговорили только тогда, когда дошли почти до театра «Альберт».
Он сказал:
– Разве вы думаете, что я не предвидел всего этого? Не думаете ли вы, что я не знаю, что я дурак, негодяй, лгун! Ну, что за толк будет из того, что мы об этом переговорим?
– Но я этого понять не могу.
– Нет, – ответил он, – потому что вы дурак, и потому что вы видели одну только сторону в моем характере. Вы сочли меня великим джентльменом, потому что я возвышенно говорю и полон благородного чувства. Да ведь вы идиот. Сам черт может таким образом очаровать вас. Он, наверное, обладает хорошими манерами и говорит, как святой, и, кроме того, со всеми нами, наверно, готов молиться. Помните вы первую ночь у старого Фауерберга. Вы всунули вашу глупую голову в спальню и смотрели, как я стоял на коленях у кровати и молился, а другие стояли по сторонам и смеялись. Вы тихо заперли дверь и думали, что я вас не видал. Я не молился, а только хотел молиться.
– Это показывает, что у вас была смелость, но вы не могли ничего сделать. Большинство мальчиков и не попробовало бы, а вы продолжали стараться.
– О, да, я обещал матери. Бедная, старая женщина, она была так же глупа, как и вы: она в меня верила. А, помните, вы как-то раз в субботу нашли меня одного и надавали мне пирожных и сладостей.
Я рассмеялся при этом воспоминании, хотя, право, я совсем не был расположен смеяться. Я застал его за целым блюдом пироженого, которого было совершенно достаточно, чтобы заболеть на целую неделю. Я надрал ему уши и вышвырнул все это на улицу.
– Мать давала мне полкроны в неделю, – продолжал он, – а я говорил товарищам, что у меня был только шиллинг, так что я мог есть на остальные полтора шиллинга без всякого препятствия. Ба! Я был маленькой скотиной даже в те дни.
– Это была обыкновенная школьная уловка, – настаивал я, – и вполне естественная.
– Да, – ответил он, – а это – только уловка мужчины и тоже достаточно естественная, но она разобьет мою жизнь и превратит меня из человека в скотину. Боже правый! Да разве вы думаете, что я не знаю, что со мною сделает эта женщина? Все мои идеи, все мое честолюбие, вся работа моей жизни будет обменена на практику среди богатых пациентов. Я должен буду думать о том, как составить большое состояние, так как мы должны жить, как пара жирных животных, пышно одеваться и выставлять на показ наше богатство, но ее ничто не удовлетворит. Такие женщины только и кричат: «Давай, давай!» И до тех пор, пока я в состоянии буду давать ей деньги, она будет переносить меня. Чтобы достать для нее денег, я должен буду продать сердце, ум и душу. А она нагрузит себя бриллиантами и будет ходить из дома в дом наполовину раздетая, чтобы смотреть на каждого мужчину, который попадется ей на дороге, и показывать всем себя. Вот жизнь таких женщин. А я буду ходить позади нее и служить предметом насмешки, презираемый каждым человеком.
Мне нечего было говорить ему. Что мог я добавить к тому, что он уже сам высказал? Я знал его ответ на все, что мог сказать. Моя ошибка состояла в том, что я вообразил его не таким человеком, как все люди, а теперь увидел, что он как и все мы, наполовину ангел, наполовину черт. На нем я даже мог убедиться, что чем выше ангел в человеке, тем ниже в нем черт. Казалось, что природа должна уравновешивать свою работу. Чем ближе листья к светлому небу, тем глубже во мрак удаляются корни дерева. Я знал, что его страсть к этой женщине не делает никакой разницы в его более чистой любви. Та любовь была духовной, эта была простой животной страстью.
Воспоминания о случаях, удивлявших меня, теперь приходили мне в голову. Я вспомнил, как часто по ночам, когда я долго сидел за работой, он тяжелыми и неясными шагами проходил перед моими дверьми; как однажды в грязном квартале города я встретил человека, очень похожего на него. Я пошел за ним, но отекшие глаза этого человека с негодованием посмотрели на меня. Теперь, взглянув на него, я узнал это лицо, с отекшими глазами, и понял все. А затем перед моими глазами встало другое лицо, которое я лучше знал, – благородное лицо, смотреть на которое доставляло мне всегда удовольствие.
Мы дошли до небольшой грязной улицы, которая вела с Лейстерсквера прямо к Гольборну. Я схватил его за плечи, повернул и прислонил к углу какой-то церкви. Не помню, что я сказал, – мы странная смесь. Я думаю о том застенчивом, неспособном мальчике, которого я учил и наказывал у старого Фауерберга, потом о смеющемся молодом человеке, который на моих глазах превратился в мужчину. Тот самый ресторан, который мы так часто посещали во время его пребывания в Оксфорде, и где мы изливали друг другу душу, был на той самой улице, где мы стояли в этот момент. Я испытал в то время такие же чувства, какие могли быть только у его матери. Я надеялся заставить его поплакать, хотел обнять его, встряхнуть. Я его упрашивал, называл всеми именами, какие мог придумать. Это могло показаться странным, и проходивший в это время мимо нас полицейский направил на нас свой фонарь и строгим голосом посоветовал нам идти домой. Мы рассмеялись; при этом смехе, Кирилл вновь овладел собою и мы отправились домой. Он обещал мне уехать с первым же поездом на следующий день провести в путешествии три-четыре месяца. Все необходимые объяснения я принял на себя. Мы оба чувствовали себя лучше после нашего разговора. И когда около двери я пожелал ему доброй ночи, он вновь был Кириллом Гарджоном, потому что лучшее и есть настоящее в человеке. Если для человека есть будущность за пределами этого мира, то только то, что есть в нем хорошего, переживет его; другая часть его земля – и на земле останется.
Он сдержал свое слово и наутро уехал. Я никогда больше не видал его. Я получал от него много писем, сначала полных надежд и планов. Он сообщал мне, что написал Эльспет, не говоря ей всего, потому что всего она не могла понять, но дал ей необходимые объяснения, и получил в ответ от нее нежные, женственные письма. Я боялся, что она будет холодной и строгой, потому что часто хорошие женщины, которых искушение не трогает, недостаточно нежны для тех, кто борется. Ее доброта была однако чем-то большим, чем обыкновенная пассивная единица. Она любила его тем более, чем более он нуждался в ней. Я думаю, что она спасла бы его, если бы судьба не вмешалась в это дело. Женщины способны на большие жертвы. Я думаю, что эта женщина рада была бы унизиться, если бы, таким образом, она могла возвысить его. Но этому не суждено было случиться.
Из Индии он написал, что скоро приедет назад. Я не встречал мисс Фаулей некоторое время и совершенно забыл о ней, пока не наткнулся однажды на старую газету, сообщавшую, что мисс Фаулей отправилась в Калькутту для исполнения давно данного обещания.
Имея в кармане его последнее письмо, я сел и разобрал вопрос о времени. Она приедет в Калькутту за день до его отъезда. Было ли это случаем или намерением – я не мог знать, но вполне вероятно, что это было случаем, потому что в этом мире фатализм часто решает наши дела.
О нем я больше не слыхал и не надеялся, что-нибудь услыхать, но, спустя три месяца, наш общий знакомый остановил меня на ступеньках клуба.
– Слышали вы новость, – сказал он, – о молодом Гарджоне.
– Нет, – ответил я. – Он женился?
– Женился? – сказал он, – нет, бедный, он умер.
– Слава Богу! – сорвалось было у меня, но, к счастью, я спохватился.
– Как это случилось? – спросил я.
– На охоте в имении какого-то раджи. Должно быть его ружье зацепилось за какую-то ветку. Пуля как раз прошла сквозь голову.
– Боже мой, какая печальная история! – В этот момент я более ничего не мог придумать.
Духи во плоти и крови
Многие найдут, что настоящая история неправдоподобна. Ее план не искусственен, а подробности искусственны, однако, должен признаться, что дело это действительно случилось и не так как я описываю. Истинный артист оставил бы эту историю в стороне, или, в самом лучшем случае, хранил бы ее для того, чтобы дразнить свой кружок, но я решаюсь пустить ее в свет.
Рассказал мне эту историю очень старый человек. Он был хозяином единственного трактира в небольшом, защищенном скалами селении на северо-восточном берегу Корнвалля. Трактир назывался Кромлеч-Армс и существовал уже сорок девять лет. Теперь этот трактир называется Кромлечь-отелем и находится под новым управлением. Но я говорю о тех днях, когда теперешний дворец был простым убежищем для рыбаков, не помещенным еще в путеводители. Старый хозяин рассказал мне ее, пока мы пили эль из глиняных кружек, сидя в поздний летний вечер на скамейке, под окнами, укрепленными железными перекладинами. Он часто останавливался и молча курил трубку; тогда до нас доносился неясный голос океана; иногда он смешивался с торжественным шумом широких волн, раздававшихся вдали, и нам слышался раскатистый смех маленькой волны, которая, быть может, подкралась послушать историю старого хозяина.
Первой ошибкой Чарльса Сибона, молодого партнера фирмы гражданских инженеров в Лондоне и Нью-Кастле, и Миванвей Эванс, младшей дочери священника Эванса, было то, что они повенчались слишком молодыми. Чарльсу Сибону вряд ли было двадцать лет от роду, а Миванвей было немногим старше семнадцати, когда они в первый раз встретились на скалах в двух милях от трактира.
Молодой Чарльс Сибон, наткнувшись на деревушку во время прогулки пешком, решил провести здесь день или два, чтобы осмотреть красивые берега; а отец Миванвей нашел в этом году находившийся недалеко отсюда домик, чтобы провести в нем летние каникулы. Когда в одно прекрасное утро молодой Чарльс лежал на скалах и смотрел, как белые волны набегали и убегали с черных скал, он заметил внизу фигуру, подымающуюся из волн. Фигура была слишком далеко от него, но судя по костюму, эта была женщина. Чарльс, поэтически настроенный в этот момент, тотчас же подумал о Венере (или Афродите, как он предпочитал называть ее в качестве джентльмена с утонченным вкусом). Он увидал, как фигура скрылась за выступом скалы. Через десять минут или четверть часа она вновь показалась, одетая в платье того времени, и подошла к нему.
Невидимый за группой скал, он мог свободно наблюдать, как она поднималась по обрывистой тропинке, и любоваться ее прекрасной фигурой. Насколько мне известно, морская вода не может заменить щипцы для завивки волос, но она придала волосам самой молодой мисс Эванс крайне увлекательный изгиб. Природный румянец играл на ее лице, а полудетские глаза, казалось, искали, над чем бы посмеяться паре ее очаровательных губок. Окаменевшее от восхищения поднятое лицо Чарльса был как раз такого рода предмет, который она искала.
Ах! Вырвалось из раздвинутых губ, а затем последовал веселый смех, внезапно прерванный густым румянцем. Затем самая младшая мисс Эванс хотела выразить негодование, как будто бы Чарльс был во всем виноват, как и всегда делают женщины. А Чарльс, чувствуя под этим взглядом негодования, что он действительно виноват, неуклюже поднялся и смиренно извинился, хотя сам не мог бы сказать, извинился ли он за то, что был на скалах или за то, что встал так рано.
Мисс Эванс милостиво приняла это извинение и прошла дальше, а Чарльс стоял и смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в долине. Это было началом всего. Я говорю все в том смысле, в каком понимали мир Чарльс и Миванвей.
Спустя шесть месяцев они были мужем и женой, правильнее говоря, мальчиком и женушкой.
Сибон старший советовал подождать, но не мог справиться с нетерпением своего младшего товарища. Достопочтенный мистер Эванс, подобно всем теологам, имел достаточное число незамужних дочерей и очень ограниченный доход, и поэтому не видел никакой надобности отстрочить брак.
Медовый месяц был проведен в Новом Лесу. Это было первой ошибкой. Новый Лес очень неприятен в феврале, а они выбрали самое скучное место, какое можно было найти. Недели две в Париже или Риме было бы гораздо лучше. До сих пор им не о чем было говорить, кроме любви, а об этом они переписывались и говорили всю зиму. На десятое утро Чарльс зевнул, а Миванвей поплакала об этом в своей собственной комнате. На шестнадцатый вечер Миванвей, будучи в очень раздражительном настроении и недоумевая, отчего попросила Чарльса не трогать ее волос, а Чарльс, онемевший от удивления, вышел в сад и поклялся всеми звездами, что он никогда не станет гладить Миванвей по голове, пока жив.
Одну глупость они ухитрились сделать еще до начала медового месяца.
Чарльс, по примеру очень молодых влюбленных, серьезно попросил Миванвей положить на него какой– нибудь обет. Ему хотелось сделать что-нибудь великое и благородное, чтобы доказать свою преданность. Битье? с драконом – было в его уме, хотя он и не знал этого. О драконах, конечно, подумывала и Миванвей, но, к несчастью для влюбленных, драконов не было. Миванвей, однако, подумала и решила, что Чарльс должен перестать курить. Она поговорила об этом со своей любимой сестрой, и девушки ничего другого не могли придумать.
Лицо Чарльса вытянулось. Он предложил найти что-нибудь более геркулесовское, какую-нибудь жертву более достойную, чтобы положить ее к ногам Миванвей. Но Миванвей сказала свое слово. Она, может быть, придумает и другую задачу, но, во всяком случае, запрещение курить останется в силе.
Таким образом, табак, добрый ангел всех людей, перестал приходить учить Чарльса терпению и любезности, и он сделался нетерпеливым и эгоистичным.
Они заняли квартиру в предместье Нью-Кастля. Это тоже было для них несчастьем, потому что общество было невелико и немолодо и, следовательно, они должны были больше всего зависеть друг от друга. Они мало знали жизнь, еще меньше друг друга и совершенно не знали самих себя. Конечно, они ссорились, и каждая ссора оставляла более или менее чувствительные раны. Около них не было ни одного доброго, опытного друга, который бы мог посмеяться над ними. Миванвей записывала свои горести в толстую тетрадку, которая еще более усиливала ее печаль; каждый раз, когда она писала, ее красивая глупая головка склонялась на ее полные ручки, и тетрадка, которую следовало бы бросить в огонь, становилась мокрой от слез, а Чарльс после конца дневной работы и ухода служащих оставался в своей неуютной конторе и раздувал мелкие неприятности в целые несчастья. Конец наступил в один прекрасный вечер после обеда, когда в пылу глупой ссоры Чарльс надрал уши Миванвей. Это был очень неджентльменский поступок, и он от души устыдился самого себя, как только это сделал. Единственным его оправданием была красота его жены, благодаря которой все, кто был около нее, портили ее с самого детства. Миванвей убежала в свою комнату и заперлась на замок. Чарльс побежал за ней, чтобы извиниться, но прибежал как раз вовремя, чтобы увидать, как перед его самым носом заперли дверь. Он только дотронулся до нее, но Миванвей это показалось целым ударом.
– Так вот до чего дошло! Вот конец любви мужчины!
Она провела полночь над своей драгоценной тетрадкой, утром сошла вниз, чувствуя себя еще хуже, чем вечером.
Чарльс целую ночь ходил по улицам Нью-Кастля и все-таки не успокоился. Он встретил ее извинением, а это было плохой тактикой, и Миванвей, само собою разумеется, ухватилась за его извинение, чтобы опять начать ссору. Она объявила ему, что ненавидит его; он намекнул ей, что она никогда его не любила, а она сказала, что он ее никогда не любил.
Если бы около них был кто-нибудь, кто бы мог посоветовать им позавтракать, буря, вероятно, пронеслась бы мимо. Но соединенные действия бессонной ночи и пустого желудка оказались для них крайне несчастливыми. Из их уст вылетали отравленные слова. Каждый думал, что он говорит то, что хочет сказать. В этот день Чарльс отправился из Гуля на
Мыс Доброй Надежды, и в этот же вечер Миванвей приехала в отцовский дом в Бристоле с двумя чемоданами и коротким сообщением о том, что она и Чарльс расстались навсегда. На следующее утро у обоих на уме были сладкие речи, но это следующее утро как раз на 24 часа опоздало для того, чтобы их сказать.
Спустя восемь дней, корабль Чарльса столкнулся во время тумана около португальского берега с другим кораблем и, как предполагалось, все бывшие на нем погибли. Миванвей прочла его имя в списке утонувших. Ребенок в ней умер, и она почувствовала себя женщиной, которая глубоко любила и которая не полюбит вновь.
Однако, благодаря счастливой случайности, Чарльс и еще один человек были спасены небольшим купеческим кораблем и отвезены в Алжир.
Там Чарльс узнал о своей предполагаемой смерти и у него явилась мысль оставить это сообщение неопровергнутым. Это разрешало задачу, которая его беспокоила. Он мог положиться на то, что его отец позаботится, чтобы его собственное небольшое состояние, быть может, даже с некоторой прибавкой, было передано Миванвей и она, если захочет, сможет вновь выйти замуж. Он был уверен, что она его не любила и прочла известие о его смерти с чувством значительного облегчения. Она начнет новую жизнь и совершенно забудет его.
Он продолжал свое путешествие к Мысу Доброй Надежды и, добравшись туда, быстро занял превосходное положение. Колония была еще очень молода и инженеров там встречали с удовольствием, а Чарльс знал свое дело. Жизнь здесь показалась ему интересной и веселой. Трудная и опасная работа подходила к его настроению, и время проходило быстро; но думая, что он может забыть Миванвей, он не принял во внимание своего собственного характера, который в самом основании был характером джентльмена. На уединенных вершинах он только и думал о ней. Воспоминания о ее красивом лице и веселом смехе возвращались к нему во всякий час; иногда он бранил ее, но это только значило, что он скучает по ней; сердился же он только на себя и на свою собственную глупость. С такого далекого расстояния ее нетерпеливый характер и ее капризы становились только украшением, и если мы посмотрим на женщину, как на человеческое создание, а не как на ангела, то станет ясным, что он потерял очень милую и достойную любви женщину. О, если бы она теперь была около него, теперь, когда он стал человеком, способным оценить ее, а не глупым, эгоистичным мальчиком! Эта мысль появилась у него, когда он сидел и курил у дверей своей палатки. А затем он начал жалеть о том, что звезды, которые смотрели на него, не были теми звездами, которые смотрели на нее. Это было бы хоть небольшим утешением, так как люди становятся более сентиментальными, когда они делаются старше, по крайней мере, некоторые из нас, и притом не самые глупые.








