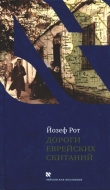Текст книги "Байкал - море священное"
Автор книги: Ким Балков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
9
Хочу, чтобы вы поднялись из небытия, все те, кто жил в начале века, встаньте из могил и вспомните вместе со мною, как Это начиналось. Тесно, несытно стало в России, впрочем, досыта там редко когда ели, уж такая, видать, судьба у нее, великая, на сотни верст равнинная, когда и глазу-то зацепиться не за что, вся в скудных деревеньках, на которые уму светлому и честному глядеть совестно, лежала Россия дремотная, перебирала в мужичьем уме своем, что было с нею, и не находила отрады, зато о будущем думалось ясно. Черт-те что, видно, и впрямь есть в ней, тусклой и неближней, с какого края ни посмотри, диковинное что-то, силы какие-то вдруг выплеснутся в песне ли про чудо-богатыря, в расхожей ли были-небыли, про которую и вчера слышал, но вчера все про грустное и тягостное, а нынче – развеселись душа, заиграй гармонь-ладушка на всю Ивановскую.
И во всякую пору так: во дворе ребятня пухнет с голоду, слабая, и под нешибким ветром клонится к земле, будто травушка, а мужичок-кормилец в кабаке сидит и все про дивное сказывает, я сам верит: поменяется в жизни, и уж не примет он маеты, а будет кум королю… С этой верой в мир пришел, с нею же и отойдет сердечный. И дети будут про то же, и дети детей то ж. И нету конца и края этой, над всеми другими чувствами поднявшейся веры. Откуда она, могучая, где истоки ее?
Сказано было: поспешайте в Сибирь, там сыщете себе долю. Услышали, зашевелились. Боязно, конечно: каторга свила себе гнездо в тех местах, «политика» про которую тоже наслышаны, случалось, что и захаживала в избы, соломою крытые, говорила про что-то… Боязно бок о бок с такими-то, а что делать, коль и румянцевские из ближней волости, и потемкинские поднялись уж, выехали со двора. А суворовские и вовсе оказались проворные, еще третьего дня стронулись…
И шли румянцевские, потемкинские, суворовские, долгорукие и прочие, разных чудных прозваний мужики подлого роду-племени, но с высокородными фамилиями, которые вызывали у сибирского чиновника удивление, а чаще срамную ухмылку, селились где попадя, но недалеко от Сибирской железной дороги. Это попервости норовили осесть на привольных землях, не больно-то тянуло на «железку», однако ж несговорчив оказался сибиряк и тяжел на руку. Куда с ним тягаться пришлому? И не каторга вроде бы и не «политика», а крут нравом, в крови его удаль Стеньки Разина и упорство, освященное старою верою, не сдвинуть, не сломать… Попытались было идти стенкою на чалдона по-российски лихо, но пообломали себе бока, оттеснились к «железке», там и сыскали чуть побольше российского, а все ж скудное пропитание.
Уцепившись за «железку», сделались работными людьми, а те, кто половчее, приняли участие в экспедиции военного топографа, которая прошла местами крутыми и ярыми, определяя высоту пониженных седел гор и тальвегов, выверяя глубину речек и впадин, где должна была пролечь знаменитая Кругобайкальская железная дорога. Славно поработали военные топографы, а вместе с ними и пришлые мужички, провели точнейшую съемку местности, масштаб которой порою доходил до двадцати саженей в дюйме. Была составлена климатическая карта, удивляющая и поныне своею выверенностью и зоркостью глаза, намечены места, где пройдут тоннели и будут построены железнодорожные мосты.
Чуть позже в южные районы Байкала была направлена геологическая экспедиция под руководством профессора Санкт-Петербургского университета Мушкетова. Она провела подробнейшее геологическое исследование местности, подтвердила возможность строительства в этих местах железной дороги.
Состоялось заседание комитета под началом августейшего председателя, на котором был утвержден окончательный вариант строительства стальной магистрали по южному берегу Байкала.
Российские промышленники вкупе с сибирскими толстосумами, тесня друг друга, норовили получить подряд повыгоднее. И в этой толкотне не сразу можно было разобраться, кто есть кто; правительство при заключении договоров с контрагентами часто оказывалось в накладе, уже в первые три месяца строительства кругобайкальской магистрали непроизводительно истратило более пятисот тысяч рублей. Это случилось потому, что подрядчики, словно бы сговорившись, норовили выполнить лишь часть работ, предусмотренных договором. Случалось и такое. На постройку железнодорожной станции строительный материал был заготовлен в 1898 году, а возводить здания начали лишь в 1902 году. И все эго время подрядчики задерживали выплату работным людям жалованья, отчего на дороге произошли волнения, и подрядчики, опасаясь за свою жизнь, вынуждены были на время уехать отсюда. Еще одно обстоятельство весьма сдерживало строительство: у администрации не оказалось четкого плана работ, и это приводило в смущение инженеров, которые на свой страх и риск делали одно, а потом выяснялось, что надо было заниматься другим. На многих строительных участках прочно прописалась бестолковщина, столь характерная, когда за дело берутся русские люди. К счастью, это продолжалось недолго, и скоро по всей трассе Кругобайкальской железной дороги начались взрывные и прочие работы. О том, сколь были они трудоемки, можно судить по такому факту. На участке между станциями Маритуй и Шибертуй длиною в двенадцать километров, где работами руководил талантливый русский инженер Ливеровский, в скалах было прорублено семьсот километров скважин и в них заложено две тысячи четыреста тонн взрывчатки.
На строительстве были заняты не только вольнонаемные рабочие, широко привлекались ссыльно-каторжные и арестанты, а также ссыльнопоселенцы. По согласованию с железнодорожным управлением им определялись срок и место работы, размер заработной платы. Был учрежден институт земских заседателей и урядников, которые осуществляли надзор за ущемленными в правах людьми. Впрочем, эти, последние, охотно шли навстречу пожеланиям правительства, поскольку им сокращался срок каторги на одну треть, а ссылка почти наполовину.
Люди разные, так не похожие друг на друга, сошлись на маленьком клочке земли, и тесно им было, и неприютно. А вокруг, куда ни кинешь взгляд, тайга, разное про нее слышали, а больше пугающее своею загадочностью и суровостью. Бывало, что и у вольнонаемного вдруг сожмется сердце от недоброго предчувствия. А что до «каторги», так у той и вовсе на душе неспокойно. Где потруднее, куда другой сроду не сунется, гонят ее, горемычную. Сколько же их, «полосатеньких», сорвалось с крутых скальных полок и с каменных арочных виадуков и бесследно исчезло в глубоких сибирских падях, где даже в ясную солнечную погоду сумрачно и глухо! А сколько их раздавлено в темных тоннелях неподатливою породою! Сочтешь разве?.. Ничего-то не осталось от них на грешной земле, памяти даже… А может, и не так, и что-то все же остается людям? И песчинка малая вдруг да и блеснет посреди дороги червонным золотом, и спрыгнешь тогда с телеги, нагнешься, возьмешь в руки эту песчинку и долго дивуешься ею, яркая в лучах солнца, чуднее чудного, но уйдет солнце за ближнее облачко – и потемнеет песчинка, и грустно сделается, и не сразу поймешь и примешь сердцем это превращение, и долго мысленно будет видеться золотом блеснувшая песчинка. Может, и с нами со всеми так?.. Изрыта земля вдоль и поперек бугорками, и не подле каждого деревце… А пройдешь глухою и близ деревеньки степью, окинешь взглядом бугорки – и подумаешь, что под каждым из них чья-то жизнь, короткая ли, долгая ли, богатая ли па события, нет ли, – и проснется в душе что-то, и горько и сладостно станет, словно бы не они, чужие, а все ж сделавшиеся сродни тебе, лежат в земле, а ты сам… и пришел к твоему вечному пристанищу добрый человек, и вспечалилось ему, но ненадолго, нет… Вспомнил он про виденную третьего дня на проселочной дороге золотом блеснувшую песчинку и подумал, дивясь неожиданности сравнения, что эти бугорки – как та песчинка: не встреться она на пути, и все было бы скучно, серо, обыденно, и дремал бы мозг еще долго, и не всколыхнулось бы, не взыграло воображение. Значит, и эти бугорки нужны ему, живому?.. Может, для того и нужны, чтоб не остыла память и душа не сделалась холодною и равно одинаковою со всеми?.. А бывает, наверно, и так. Да что там!.. Иваны, не помнящие родства, немало их нынче бродит по земле, шальные и дерзостные, то за одно примутся, то за другое, а все не по нраву им, и в глазах скукота, и на людей смотрят с усмешкою, будто знают про них что-то, о чем другой п не догадывается. Знают ли?.. Спросишь у такого: откуда родом, парень?.. И не ответит сразу, если даже и захочет, а уж про то, кем был дед или прадед, про это и не спрашивай.
Шальные и дерзостные, но тогда отчего мне жалко их? Все-то чудится: не живут, а лишь делают вид, что живут, и смеются тогда, когда хочется плакать, и вовсе не потому, что такие уж ершистые, все б вперекор делали, а просто не умеют плакать, не обучены…
Года три назад шел я по Кругобайкальской железной дороге, не обходя темных и теперь уже не живых тоннелей, поезда нынче катят по другой магистрали, высоко поднявшейся над этою, прежнею. Шел, и чувство грустное, нежное владело мною, и я видел людей, которые уже давно живут в моем воображении, и говорил с ними, случалось, что и спорил… Вот здесь, на сороковой версте, в те годы стоял рабочий барак, но жили в нем не вольнонаемные, а каторжные. И был среди них Большой Иван, власть над другими имел великую, сам урядник опасался спорить с ним. Большой Иван никогда не работал, его урок выполняли другие и не видели в этом ничего обидного для себя. Но это было вначале, а потом случилось что-то с каторжными, и даже самый слабый из них уже не робел перед Большим Иваном, и голову держал высоко, хотя не однажды был бит нещадно. Но, отлежавшись, опять делался прежним. Смущение пало на Большого Ивана, и он едва ли не в первый раз по приезде сюда вышел из барака и увидел тайгу, суровую и грозную, шумела она кронами высоких деревьев, заслоняющих небо, нашептывала о чем-то… И хотел бы Большой Иван разгадать, про что нашептывала, да была у него душа стылая, неприветливая, оскудевшая на доброту в долгих и злых скитаниях, не сумел ничего разгадать… Подозвал к себе того, слабого, спросил про то, что нечаянно пришло в голову, и услышал в ответ:
– Ко всем она одинакова, тайга, к сильному ли, к слабому ли. Осердясь, сомнет в одночасье. Про то и нашептывает.
Мы все равны перед нею, и нету меж нас атамана, один подле другого, плечо к плечу, так и держимся.
Услышал Большой Иван, и пришлись эти слова не по сердцу не хотелось делить власть ни с кем. Постоял в раздумье, ушел в тайгу, долго, пока и вовсе не сделалось темно, бродил черными тропами, и мысли в голове были, как эти нехоженые тропы, тоже черные. А потом, крадучись, подошел к бараку с охапкой сухой соломы в руках, подпер узкую тесную, двоим не разойтись, дверь толстой жердиною и подлюг. Оконцы в бараке узкие, на сибирский манер, и головы не просунешь, затянуты тусклой слюдяною пленкою.
Недолго пробыл возле барака, поглядел, как живо и весело взялись языкатые сполохи, побежали по стенам, ушел, стеная, в тайгу. А на сердце что-то вроде жалости к бывшим сотоварищам, но маленькой и робкой была жалость, шевельнулась только и тут же исчезла, придавленная всегдашней угрюмостью, сквозь которую света белого не увидишь. Ходил по тайге и оставлял следом за собою горящую солому подле сухих стволов берез и осин. А земля и без того пышет жаром, и ночь нипочем, не осилит дневного зноя, висит в воздухе неуступчивый, каленый…
Заполыхало окрест, разбежался огонь на десятки верст в разные стороны, и звери очумело метнулись к Байкалу, надеясь сыскать в прохладных волнах защиту. И люди туда же кинулись… Но не все дошли, огонь оказался проворнее, обложил со всех сторон, и страх, и отчаянье пропитали воздух, далеко слышны были людские проклятья. Случалось, доходили до Большого Ивана, и тогда он останавливался, прислушиваясь, и злая усмешка кривила лицо, уже и не то, привычное в холодной непроницаемости, которая пуще больших темных рук пугала «каторгу» и заставляла подчиняться чужой и недоброй воле, другое нынче лицо у Большого Ивана, пепельно-серое, с красными пятнами от ожогов, не спокойное и властное, безумие коснулось уже огрубелых и суровых черт… Носился Большой Иван по тайте, как очумелый, потеряв себя, прежнего, неторопливого в движениях, кричал, обеспамятев, оставляя пожоги там, где земля еще не облита огнем:
– Что скажешь: лихо ль тебе?! Лихо ли?!
Он спрашивал у тайги, но ответа не было, и это еще сильнее злило, думал, что она, упрямая, не желает говорить. «Ах, ты еще так?.. Так?..»– восклицал он и бежал дальше… Он ненавидел тайгу, она посмела отнять власть над «каторгою». Странно, он лишь сейчас понял, что его совсем не тянуло на нолю: там не всегда был властен над жизнью других, с ним могли и не посчитаться, сказать холодно:
– Эй, потеснись-ка!..
Другое дело с «каторгою», вся была у него в руках, что бы ни сказал, чего бы ни пожелал, немедленно исполнялось и не вызывало у людей пи удивления, ни досады. И он привык к этому, думал, так будет всегда. Но вдруг случилось что-то с людьми, непонятное что-то, тревожащее… Он уже давно приметил это, но все надеялся, что вот завтра жизнь опять сделается привычною, такою, какою только и принимал ее. Но наступало «завтра», а ничего не менялось, больше того, в лицах людей начал примечать дерзостное, упрямое слышал порою:
– Это не в камере… Тайга уравняла нас, над всеми властна, и над тобою тоже. Захочет – раздавит…
Слышать-то слышал, однако ж не сразу понял, отчего такое брожение в людях… Помнится, велел одного, уж больно настырного, дружкам, которые все еще держались за него, отвести в тайгу и удавить, чтоб другим неповадно было. Так и сделали, но и это не поменяло людей. Долгие часы просиживая на парах в раздумье, он не умел ничего понять, потребовалось выйти из барака, чтобы осенило… Догадался, кто его враг, и решил отомстить…
Большой Иван носился по тайге и с каждою минутою разум его делался все слабее, и вот наступил момент, когда он уже ничего не мог бы сказать про себя: ни кто он, ни что делает… Одежда была изодрана в клочья и горела, а он словно бы не замечал этого, не чувствовал боли и все спрашивал, но уже голосом обессилевшим и тусклым:
– Лихо ль тебе? Лихо ли?..
А скоро, куда б ни глянул, всюду горело… Обессилев, остановился и тут увидел, как большое и с виду сильное дерево вдруг вспыхнуло, осветилось, и прошло не так уж много времени, как обгорело, обуглилось, сказал себе, что это обыкновенная головешка, и хрипло рассмеялся. Нравилось унижать, и нынче, находя вокруг следы слабости и потерянности, торжествовал, и глаза блестели, и это было не только безумие, другое что-то… может, упоение собственной властью над сущим.
Он не должен был выйти из огня, но судьбе было угодно распорядиться по-другому… Вышел к Байкалу, к узкой прибрежной кромке, вдоль которой расположились солдаты железнодорожного батальона, сделал шаг-другой и упал… Но упал не потому, что уже не осталось сил, еще был в состоянии двигаться, а потому что грудь пробили пули. Может, солдаты приняли его, большого и красного, за наваждение и в страхе не сумел» совладать с нервами, а может, стреляли из жалости?.. В рапортах по случаю трагического происшествия об этом не сказано ни слова. Но через год-другой родилась легенда о горящем человеке, и не было в легенде ничего о Большом Иване, она рассказывала о человеке, который, долгие годы жил на дальних байкальских островах, промышляя зверя, и лишь изредка выходил к людям. Но однажды поутру увидел горящую тайгу – и стало на сердце больно, так больно, что и смотреть невмоготу. И тогда отвязал лодку и оттолкнулся от берега… Думал помочь тайге, но был не в силах сделать этого. А боль на сердце и жалость с каждою минутою становились все больше, и тогда он шагнул в огонь… Тихим вечером стоит очутиться в той и поныне не отболевшей, со слабыми, от малого прикосновения вздрагивающими березками тайге, как услышишь горькое, заунывное, и тревожно сделается, опаска придет нечаянная, но вовремя успокоишь себя тем, что уже слышал от людей. Сказывали: то земля стонет. Стонет и взывает к людям: помните!..
Я знаю эту легенду, слышал, как стонет земля… Шел тогда заброшенной железнодорожной веткою, подымался на скальные полки, которые нависали над пропастью, заходил в многочисленные тоннели, потом оказался близ синего уреза Байкала, на ровной местности, где как-то вяло, словно бы нехотя, шелестели ветвями худосочные березки и тонкие, дрожащие уже и на не шибком ветру осинки, деревья не жались друг к другу, не росли густою могучею стенкою, как обычно бывает на берегах Байкала, отдалились друг от друга, и уже отсюда, из этой ближней дали, с явною опаскою поглядывали на своих собратьев, словно бы и от них ждали чего-то неладного.
Совестно было смотреть на березки и осинки, и за них совестно, они уж не могли, а может, не хотели быть друг подле друга, но пуще того совестно за себя, вроде б и я повинен в том, что произошло в начале века. Вон и от темной, какой-то мутной, пожалуй, оттого и мутной, что в глазах у меня сделалось солоно, все еще живой гари укором веет, тоскою нездешней. И травка сквозь нее по сей день не пробьется…
Я стоял, опустив голову и задумавшись, и тут услышал горькое, заунывное и не удивился, понял, что это стонет земля. И обидно стало за Иванов Больших и Малых, помнящих и не помнящих родства, что нечаянно оставили по себе недобрую память. Они и теперь еще есть, эти Иваны, а вместе с ними внуки и правнуки других народов, которые в прежние времена с великою любовью относились к тайге, называя ее матушкою и кормилицей, а теперь позабыли про это, безродные, иные из них, облеченные немалою властью, зачастую применяют ее, ослепленные яростным напором технической мысли, не желая понять, что и она подчас подобна пожару, не во благо земли – на погибель… Что же произошло со всеми нами? Иль навсегда поселилось в нас то, злое, пришедшее от Большого Ивана иль от кого-то еще, но тоже злое? Что ж, и не поломать ук этого, не сделаться добрым в своем отношении к земле человеком?..
Не скоро еще я стронулся с места и пошел дальше, и снова на меня надвинулись угрюмые стены тоннелей, готовые в любую минуту смять, раздавить… Неприютно и тоскливо! И все же я не повернул обратно, сумел-таки одолеть в себе неладное. Выйдя из очередного тоннеля, по правую руку от себя, на невысокой, заросшей густою, с острыми колючками, чепурою, горушке увидел старый заржавленный металлический щит, на нем было выбито что-то… имена вроде бы, фамилии. Подошел поближе: так и есть. Петро, сын Артемьев, сказано в первой строке, есть и вторая, и третья, и восьмая, а девятая не выбита до конца, на самой середке брошена, только и есть Иван, сын…
С неделю горела тайга, и черное злое облако висело над западным побережьем Байкала. Горела б еще, да принес Баргузин тучи, в полдня обложили небо, пошел дождь, напористый, проливной, и огонь сдался, шипя и ярясь, делался все меньше и меньше, пока не погас вовсе.
Все это время Мефодий Игнатьевич был сам не свой, места не умел найти, и посреди ночи выходил на крыльцо и долго смотрел в ту сторону, где алело небо. Александра Васильевна, когда оставался у нее, заглядывая в узкие черные глаза, говорила с тревогою:
– Миленький, да на тебе лица нет.
Отмалчивался, но как-то сказал:
– Машины у меня там. Английские, взрывные. Пропасть денег стоят. Подикось, ничего от них не осталось?
– Айя-яй, жалость-то!
Но он не почувствовал в ее голосе жалости и поморщился: изреченное слово есть ложь… Вспомнил, приходил в контору Бальжийпин, сказал с волнением в голосе:
– Слух прошел, будто бы тайгу подожгли те самые… лучники. Кто-то видел черную стрелу, прилетевшую невесть откуда, и решили, что… Глупо!
Студенников слышал про это и конечно же не поверил, уж он-то знал, что лесные люди скорее отрубят себе руку, чем подымут ее на тайгу. Знали это и высокие полицейские чины, но правительство требовало скорых объяснений, и они не нашли ничего лучшего, как написать про выживших из ума лесных людей, которые вершат неправую месть.
Слух – что ветер, и об этом объяснении скоро стало известно и неразумному мальцу. Суетня началась, толкотня, кое-кто из приезжих засобирался обратно, приходили в контору, просили слезно отпустить:
– Хозяин, не забижай…
Мефодий Игнатьевич не любил российского мужика: слаб духом, думалось, раболепен, от веку вдалбливали в голову, что он и не человек вовсе, а так себе… навоз. Видать, привык к этому, и уж не подняться ему, нет… Да, не любил российского мужика и, хоть понимал, что непросто отыскать новых рабочих, не держал тех, кто не хотел оставаться. Все ж, поразмышляв, решил сходить в жандармское управление и поговорить: чего там, все с ума посходили?.. Он так и сделал, ротмистр был учтив с ним и понимал все, что происходит, однако ж не мог найти не только оправдания, а и толкового объяснения тому, что уже было совершено, ссылаясь на категорическое требование правительства «отыскать виновных и наказать примерно…» Странно, никому, в том числе и Мефодию Игнатьевичу, не пришло в голову, что тайга могла загореться сама по себе, возможно и такое… Он подумал об этом уже после того, как вышел из жандармского управления. Впрочем, очень скоро вспомнил, что сначала загорелся барак, где жили каторжные, а уж потом огонь перекинулся на тайгу. Во всяком случае, так говорили очевидцы. Но можно ли верить им?..
– Солдаты железнодорожного батальона и полицейские чины смущают людей, чинят им обиды, – говорил Бальжийиин, – Рыщут по бурятским улусам и русским деревням, где живут старообрядцы.
Мефодий Игнатьевич слушал, а сам думал о том, что правительство все еще относится к Сибири как к окраинной вотчине, откуда можно брать и ничего не давать взамен. Все, что делалось в Сибири, вплоть до разработки золотых рудников, делалось местными людьми. Проживая на богатых торговых путях из Азии в Европу, купцы Кяхты и Верхнеудинска сумели оценить это преимущество и воспользоваться им. Они не были Гобсеками, не сидели на денежных мешках, с малых лет находясь в атмосфере дружелюбия и относительной свободы, нередко под влиянием революционно настроенных людей, сосланных правительством в Сибирь, в частности, участников декабрьского восстания па Сенатской площади. Они умели сочетать личный интерес с государственным, и это приносило им больше пользы, чем затрат. Более того, они не были чужды просвещения и передовых идей, в их огромных, тысячетомных библиотеках можно было без труда отыскать не только «Историю государства Российского» Карамзина или сочинения Александра Пушкина, но и бережно хранимые рукописные записи Петра Чаадаева, и «Капитал» Карла Маркса, и знаменитые восточные летописи «Ганджур», и пособия по изучению тибетской медицины. Эти люди любили Сибирь по-своему и желали ей благополучия.
Все, о чем говорил Бальжийпин, было близко и понятно Мефодию Игнатьевичу, он и сам не однажды думал про это и мучился обидою на людей, которые не хотели понять его тревоги.
– Есть просьба. Не смогли бы вы поговорить в полицейском управлении, чтоб оставили в покое старообрядческие деревни и улусы, не искали там злоумышленников? Вы же знаете, что искать нужно не там.
– Я уже был в управлении, говорил… Но схожу еще.
Даю слово!..… Студенников помедлил, пристально посмотрел на Бальжийпина. – Скажи, откуда появляются черные стрелы? С того дня, как был сожжен улус на Байкале, прошло без малого пятьдесят лет. Неужели кто-то из тех людей еще жив? Сколько устраивали засад, облав!..
Что-то дрогнуло в лице у Бальжийпина, жилочка какая-то подле глаз напряглась, заалела ярко, и Мефодий Игнатьевич опустил голову, а потом поднялся со стула, протянул ему руку.
Отгорела тайга, и Студенников засобирался на строительный участок, но гут как назло разбушевался Байкал, а подойти к западному берегу на катере можно лишь в тихую погоду, иначе бросит катер на скалы, а там поминай как звали… Но и ждать невмоготу, душа изболелась за английские машины, отыскал моториста половчее, что с малых лет на море, уговорил отплыть… Так и сделали, и поутру катер запрыгал, заплясал па крутой байкальской волне. А на берегу стояла Александра Васильевна и, по-бабьи округло и жалобно всплескивая руками, кричала что-то… Мефодий Игнатьевич сидел на корме, и поначалу ему было страшно, но скоро это чувство, близкое к безысходности, исчезло, на смену пришло другое, нашептывало: а ни черта со мной не случится, а если случится, тут уж ничего не поделаешь. Тихое, вялое чувство, вроде комариного зуда. Мефодию Игнатьевичу очень скоро стало скучно, и, чтобы отвлечься, он начал пристально вглядываться в серую прибрежную дымку в надежде еще раз увидеть Александру Васильевну, а сам думал о том, как бы он воспринял, если бы нынче на берегу стояла не Александра Васильевна, а Марьяна? И не знал, как ответить.
Мефодий Игнатьевич еще долго вглядывался в серую прибрежную дымку, но никого не увидел, закрыл глаза, почудилось, что задремал, но, наверное, это было не так, он отчетливо слышал, как свистит ветер, а волны упрямо и зло колотятся о борт катера. Очнулся, когда сделалось неожиданно тихо, долго не мог понять, что происходит, и почти со страхом посмотрел на моториста, который, кажется, тоже, судя по растерянному лицу, был в смущении. Услышал, как тот сказал негромко:
– Штормить-то перестало, однако. И ветер уж на волну не садится, не погоняет ее. Тихо!
Мефодий Игнатьевич в недоумении покрутил головою: и вправду тихо… С чего бы? Этого ему еще не доводилось видеть на Байкале: чтобы сразу с пугающей неожиданностью поменялось море. Но моторист оказался попроворнее в мыслях и вот уж засмеялся хрипло, покашливая:
– Чует батюшка: хозяин едет… Приумолк. Дает, стало быть, дорогу тебе.
Ближе к вечеру отыскали на западном берегу Байкала узкую, сразу и не приметишь, бухточку, вошли в нее, вытащили катер па белый песчаный берег, потом поднялись по каменистой тропке па ближнюю, с черными проплешинами, скалу, недолго пробыли на самой вершине, разглядывая массивные каменные галереи, сразу за которыми посверкивала стальными рельсами Кругобайкальская железная дорога; по обе стороны от нее на десятки верст не было видно ни одного деревца, голая, с пепельно-серым посверком, земля. Обойдя каменные галереи, спустились вниз, к насыпи. Вокруг ни души, и Мефодий Игнатьевич подумал, что нынче никого не встретит, хотел идти дальше, к тоннелю, где были смонтированы английские взрывные машины, но не успел сделать и шагу, как сразу же за насыпью, по правую руку, сдвинулся с места серый, вознесшийся над падью бугорок, и оттуда стали выходить люди. Их оказалось немного, человек десять, и среди них мастер, пожилой хмурый мужик, про которого Студенников не помнит, чтобы он когда-то улыбался. Подошел к нему, спросил торопливо:
– Ну, как машины? Целы?..
Увидел в глазах у мастера досаду, но тут же постарался забыть об этом, услышав:
– А че им сдеется?..
Будто гора с плеч, легко и радостно, а вперемежку с этим другое что-то, может статься, удивление, подумал про себя с усмешкою: «А все ж я хозяин: дело прежде всего, уж потом остальное…» Стал расспрашивать, где хоронились рабочие во время пожара, а когда услышал, что в тоннелях, остался доволен; хотел бы спросить и про то, много ль погибло людей, но не сделал этого. Мастер, кажется, уловил его нерешительность, и в тусклых, словно бы во всякую пору со сна, глазах стронулось что-то, искорка какая-то промелькнула, поблестела и тут же исчезла.
Мефодий Игнатьевич почувствовал легкое замешательство и, помедлив, заговорил о черных стрелах, которые и нынче долетают из неближнего прошлого, сказал и про то, кого в жандармском управлении подозревают в поджоге.
– Где видано, чтоб лесные люди обидели тайгу? – недовольно проговорил мастер, – Врут!..
– И я так думаю: врут!..
Мужичонка откуда-то выскочил, худющий, страсть, в арестантской одежке, с красною, нашитою на спине, заплатою, остановился подле них, залопотал тоскливо:
– Хозяин, а, хозяин… Слышь-ка!
– Откуда? – с досадою спросил Мефодий Игнатьевич.
– Из арестантского барака, – сказал мастер. – Товарищи его сгибли, а сам в оконце проскользнул… Навроде ужа, без костей. Нынче с нами в тоннеле камни ворочает.
– Я б хотел, значит, хозяин… – снова залопотал каторжный, но Студенников, морщась, перебил:
– За что угодил в каторгу?
Поскучнел мужичонка, маленькое, воробьиное лицо следа лось тоскливьпм, сказал:
– С-под Рязани я, Вдовьиной волости, деревня Некорысть, ну, жил себе, как все люди, а они пришли и забрали, староста да чины разные… А зачем? Чего я такого сделал?.. – В глазах недоумение и обида за то, давнее, свершенное над ним неправедно. Мефодий Игнатьевич готов был поверить, что зазря упекли мужичонку на каторгу. Припоминает и такое… Но тот сказал: – Приходют, значит, староста, чины, спрошают: иль не ты удавил тещу?.. Я, говорю, а чего такое? Старая была, ноги не слушались, разуму лишилась, а все петь просит с утра до ночи: дай хлебушек, дай… А у меня ребятишек, говорю, вон скоко на полатях, гляньте-ка. Чего было делать? Потолковал с бабой, и порешили, значит, подмочь теще: зажилась на белом свете. Ну, подмогли… И ладно. А они меня в каторгу, чины, значит, староста. За что?.. – Помолчал мужичонка, продолжал все с тою же обидою: – Не прознали бы ничего на деревне, я так кумекаю, про наше с бабой решенье, когда б не чужой один, студент, на моем дворе обиталоя, что-то про народ толковал… Ну, он, видать, догадался, отчего теща отошла, осерчал, потом на сходе кричит: «Темный ты человек, Прокопий, сын Горбатов, царя надобно придушить, а ты тещу…» Ну, кричит, значит, радетель за сирых, а староста – вон он, рядышком крутится… Услыхал, привел ко мне этих самых… Забрали, разлучили с детишками'
Досада, с которою Мефодий Игнатьевич смотрел на мужичонку, сменилась растерянностью и, сам не ожидая от себя, произнес негромко слова стертые, но все еще не утратившие изначального смысла:
– Господи, но ведают, что творят!
Мужичонка со смущением посмотрел на него.
– Верно, не ведают, – сказал мастер.
Мефодий Игнатьевич вздохнул, стал расспрашивать мастера, как идут дела, когда же услышал, что рабочие и во время пожара нс отсиживались в тоннеле – работали, а когда огонь начал подступать к электростанции, которая стояла на малой горной речке, взяли в руки лопаты и отгородились от пожара широкой земляной полосой, и за это надобно бы рабочим сыскать прибавку к жалованью, сказал торопливо:
– Да, да, конечно…
Он с трудом верил в то, что услышал. Не мог понять, что двигало людьми, пожар в два счета мог с ними расправиться, обо в этой стороне всю неделю было раскаленное добела.