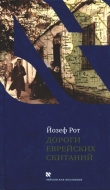Текст книги "Байкал - море священное"
Автор книги: Ким Балков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
11
Старуха свыклась с мыслью: она умрет сразу же, как только Баярто, принявший облик белого человека, уйдет из юрты. Рано или поздно это случится: духи не позволят ему долго находиться на земле и увлекут в глубину… Он уйдет, и ой незачем станет жить. У него нынче другое имя, длинное, похожее на стенание волн, когда они, ослабнув, скатываются в море, увлекая за собою шуршащий песок. Она хорошо запомнила первую часть имени: Бальжи… И никак не могла совладать со второю, а скорее, не совладать, а соединить их вместе. Если же она произносила вслух то, что получалось, имя звучало вяло, скучно, и она пугалась, правда неизвестно чего, может, тайны, которая стояла за этим именем, и долго не находила покоя. Она стыдилась своей неумелости и хотела бы попросить прощения у Баярто, но что-то мешало, скорее, давняя, из неближних веков пришедшая привычка относиться к мужчине как к существу более разумному и ближе стоящему к святым духам. Старуха не позабыла еще об этом и робела, когда Баярто смотрел на нее или о чем-то спрашивал, порою робела настолько, что не умела сразу же ответить, а он думал, что она не понимает, и, случалось, досадовал, и тогда на высоком, теперь уже не белом, а желтом от байкальского загара лбу появлялись морщины, вздыхал и отходил от нее. Л старуха еще долго переживала случившееся и все ждала, когда он снова приблизится к ней. Сама же сделать шаг в его сторону не осмеливалась.
Издали., с женской половины юрты, следила за Баярто и, имея душу угадливую и памятливую, замечала любую перемену, происходящую в нем, а потом помногу размышляла о том, чему приписать эту перемену, и редко когда ошибалась в своем суждении. Замечала, что в последнее время он сделался энергичнее, бывает, что и улыбнется, и это радовало, старуха думала, что и она причастна к тому, что происходит с ним, вспоминала про свою молодость, норою находила что-то новое, выпавшее из памяти, и считала, что Баярто нынче отгадал в ней это, и ему приятно, что отгадал.
Он часто уходил из юрты, и первое время это тревожило терпеливо ждала, когда вернется, а потом молча подавала пиалу с чаем, и со вниманием наблюдала, как он ест, словно бы нехотя, отламывая от пресной, на молоке, лепешки А раньше в той, другой жизни он любил лепешки, которые пекла на слабом огне, бывало, что и хвалил. Но нынче и слова не скажет, вроде бы позабыл все. А может, и впрямь позабыл? Если б могла, спросила бы: так ли? Но не имела на эго права и грустно вздыхала, глядя, как он ест. Случалось заметно оживлялась, если отыскивала в его лице тихую едва приметную радость.
Он уходил из юрты, и это ее уже не тревожило, потом стал пропадать надолго, и она начала беспокоиться: вернется ли?.. И это беспокойство с каждым разом становилось все больше, пока по сделалось постоянною, ни на минуту не отпускающею тревогою. Так она и жила, ни о чем другом не думая, как только о том, вернется ли он нынче?..
Это отнимало много сил, и когда он приходил, едва дотягивала до постели, но и во сне ее не оставляла тревога и, когда просыпалась, была все такая же, разбитая и усталая и у нее возникало чувство, что и не ложилась. Однажды он задержался надолго, и старуха подумала, что он уже не придет, села на мягкий войлок у очага, закрыла глаза и медленно раскачиваясь из стороны в сторону, тихонько запела о далеком и призрачном, она не разбирала слов, а может, их и не было вовсе, этих слов, не прошли через ее сердце а была лишь обжигающая мысль, которую не выскажешь слова ми. Видела большую степь, розовую поутру, сияющую, и шли по степи двое, молодые, счастливые, не задумывались, что ждет впереди, им было достаточно того, что уже есть, изредка останавливались, и тогда он смотрел в ее глаза, и радость была в смуглом лице, а еще уверенность, что светлые чувства, которые переполняли их, бесконечны, как степь. Но скоро не стало степи, и старуха увидела узкую меж ветвистых, как рога изюбров, деревьев таежную тропу, и Баярто, но уже не молодого, с белою сединою в голове, сильно сутулящегося, он шел по тропе, опустив голову и ничего не замечая перед собою такие у него были глаза, когда он задумывался о чем-то нелегком, давящем. Выйдя на полянку, остановился, глянул по сторонам, а потом вытащил из-под ремня топор и стал рубить сухие деревья. Старуха вспомнила, как в свое время спрашивала у Баярто, куда он уходит каждое утро, и тот не сразу ответил:
– Зимовье делаю. Время нынче такое… Вдруг придется уйти из улуса.
Она ни разу не видела ни этого зимовья, ни таежной тропы, которая вела к нему. Но вот увидела и пожалела, что Баярто не успел воспользоваться таежным пристанищем, люди из дацана оказались сноровистее и хитрее, чем думал.
Старуха после смерти Баярто ни разу не вспомнила, что есть где-то зимовье, срубленное руками мужа, а вот теперь мысленно увидела зимовье и подумала, что это знак… поди, велено ей пойти туда, и начала собираться. Надела длинную, до пят, сшитую из овечьих шкур изжелта-белую шубу и вышла из юрты. Не знала, в какую сторону идти, но что-то словно бы подталкивало в спину, и она медленно, оскальзываясь – ичиги[7]7
Ичиги – мягкая обувь (сибир.)
[Закрыть] на гладкой подошве держали плохо, – побрела по узкой снежной тропе. Был полдень в начале зимы, и белые деревья светились ярко, и небо голубело, но, спустившись к гольцам, краски смывались – делалось сумрачнее.
Старуха отвыкла ходить, все больше сидела в юрте, выходя из нее только затем, чтобы выгнать со двора овец и при брать в кошаре, теперь едва ли не каждый шаг давался с трудом, но она была настырная и не хотела передохнуть… Все шла, шла… Снег хрустел под ногами чаще неслышно, но бывало, что и пронзительно, и скуляще, и старухе чуди лось, что она не одна и кто-то сопровождает ее в пути, может статься, сам Баярто или тень его. Знала, после смерти человек растворяется в природе, рассыпавшись на множество теней, и нередко одну из них можно заметить подле юрты, длинную и какую-то неприкаянную, легшую, упав с неба, на поленницу сухих еловых дров. И сама не раз ее видела, и теперь думала, что, хоть Баярто, превратившись в белого человека, неизвестно где нынче находится, тень его, одна из теней, неизменно сопровождает ее. Правда, на этот раз тень неразличима глазом, старуха уже несколько раз оборачивалась, но так ничего не заметила, это не расстроило, слышала, бывает и такое, когда тень остается невидимой, а все ж ощутить, как движется она, можно. И старуха со вниманием прислушивалась, как хрустит под ногами снег, и когда улавливала, что хрустит пронзительно и скуляще, отвыкшими от улыбки губами улыбалась, и рот ее с мелкими желтыми зубами делался некрасивым, почти отталкивающим Улыбалась и шептала:
– Баярто… Баярто…
Она все повторяла одно и то же, но ей казалось, что это не так – она рассказывает покойному мужу, как живет, и он слушает и огорченно качает головою, но порою улыбнется и согласится с нею. Ах, если б она могла увидеть его сейчас пускай даже в облике белого человека! Она наверняка стала бы и вовсе разговорчивою, и Баярто не узнал бы ее.
Странно, она не помнит, чтобы когда-то поспорила с ним или обиделась… Словно бы не прожили они долгую и трудную жизнь словно бы не было ничего, что мучило, заставляло тревожно биться сердце. А может, так и есть? Она была истинно восточною женщиною, имела характер спокойный и мягкий и не хотела ослушаться мужа даже если мысленно не соглашалась с ним.
«Нет, нет, все-гаки она должна была хоть раз не согласиться с ним!..»
Старуха на разные лады прокручивала понравившуюся мысль, стараясь заглянуть и вовсе далеко, в ту девичью пору, когда услышала, что в скором времени войдет в юрту служителя духов и станет женою сына служителя. Услышала и не испугалась, разве что заробела немного. Изредка встречала на своей тропе сына служителя духов, и он был вежлив и всегда улыбался, когда смотрел на нее темными, узкими озерцами из-под густых черных бровей.
Она вошла в юрту и стала помощницею мужа в его непростых делах, и была счастлива, если видела, что он доволен ею. Случалось, он подолгу просиживал на женской половине юрты и говорил об отце, об его искусстве служить добрым духам, она не все понимала, но радовалась, что по прошествии времени и муж сделается служителем, он уже теперь многое понимает и умеет.
А потом ушел в царство теней отец мужа, а скоро мать его их осталось двое, нет, не двое, под сердцем у нее уже давала о себе знать новая жизнь. И однажды она сказала об этом мужу, и тот обрадовался. Но ребенок родился слабым, и они не смогли поставить его на ноги, он умер. Она долго не наводила себе места, видела, что и Баярто страдает. И все же надеялась, что через год-другой станет матерью, но злые духи оказались сильнее. Дети, появившись на свет, не задерживались в юрте, уходили за черту. Баярто был белым шаманом, и скоро она поняла, что злые духи мстили ему за это, хотели, чтоб он поклонялся злу. Но он любил людей и высшим наслаждением считал делать им добро. И в самую горькую для себя минуту не отступал от своего понятия о жизни, и она не упрекнула его, словом не обмолвилась, что ей плохо, а потом привыкла к тому, что по-другому уже не станет, хотя и догадывалась: Баярто не согласен с нею, он еще долго мечтал о наследнике и надеялся, что добрые духи помогут.
Не помогли. В конце концов и он смирился, и все же, она чувствовала, какие-то сомнения мучили его, и даже во время камлания, когда он подчинен не себе, а высшему существу, которое одно правит его поступками, вдруг да и появлялось в искаженном от напряжения лице что-то безысходное, и никто не видел этого, но она-то видела и пугалась за него. Шли годы, а сомнения, однажды зароненные в сердце, не проходили, ее не обманешь. Когда б могла спросить у Баярто, что мучает его, спросила бы. Но не считала себя вправе и молчала. Ее волнения сделались еще больше, когда прослышала о том, что к Баярто приходили служители желтой веры и говорили с ним, чего-то требовали… Как бы она хотела все знать! Но муж не замечал ее вопрошающих взглядов и виновато улыбался, и лишь однажды сказал:
– Я не отойду от веры отцов и дедов. Не могу этого сделать. Не могу…
Она не стала спорить, хотя знала, что он едва ли сможет справиться со служителями желтой веры, их власть уже простиралась на десятки улусов. Баярто находился словно бы в кольце, только в их улусе люди были еще верны старой вере, но и тут она не могла продержаться долго. Баярто понимал это и все ж не сделал ничего, что стало бы угодно дацану.
Старуха шла по тропе, держа в руке палку, не помнила, когда взяла ее в руки, но и тут увидела добрый знак: кто-то хотел помочь ей. Впрочем, это наверняка Баярто, вон и тень его, множество теней, теперь уже не длинные, а короткие, рваные какие-то, то упадут на землю едва ль не под ноги, а то расступятся, будто желая дать дорогу.
Баярто беспокоится за нее, надо думать, заметил, как она слаба, и старуха благодарна ему за это. Глядела на тропу и видела чей-то след на белом снегу, и решила, что это Баярто проложил для нее дорогу, что-то сказала негромко, и почудилось, что муж услышал: зашумели ветви деревьев, на землю упали хлопья снега.
Хорошо, что она не одна. Это чувство жило в ней с того дня, как добрые духи поселили в юрте белого человека.
И даже когда он уходил, порою надолго, она не чувствовала себя одинокой, знала, что и у него есть дела на земле. Она и нынче не затревожилась бы, но на сердце что-то… и никуда не денешься от этого, болит, ноет, и уж не стало сил терпеть. И тогда она пошла и кажется, сделала правильно. Баярто, по всему видно, по душе это ее решение.
Старуха шла по тропе, задумчивая и строгая, вся в себе и, – о, какое же это удивительное ощущение! – она словно бы растворилась в том чувстве, которое жило в ней, и уж ничего другого не замечала, а если и замечала, принимала всего лишь как часть этого чувства… Старуха по-хозяйски спокойно и домовито прислушивалась к себе, к легкому и вроде бы ни к чему не обязывающему беспокойству, которое теплилось, прозрачною дымкою обволакивая все, про что теперь ее мысли… Беспокойство было понятное: я уж стара и могу не дойти…
Старуха не знала, долго ли шла, наверно, долго: в теле накапливалась усталость, и эта усталость была не в согласии с уверенностью, которая в душе, и старуха не могла примирить их, но все ж не оставляла своих попыток, и это толкало ее вперед, вперед… А лес делался суровее, темнее, сквозь кроны деревьев не всегда пробивался солнечный свет, снежные наносы подле стволов сделались серые и скучные.
В глаза попала хвоинка, и старуха остановилась, сняла варежку, поднесла к лицу руку… И – вздрогнула, попятилась, почудилось, будто обвалилось небо и куски от него, красные, синие, белые, легли на деревья, придавили, и вот уж и они, смятенные, дрогнули, с трудом удерживая непосильную ношу, того и гляди, упадут на землю, обессилев. Стало страшно, мысли старухи сбились с четкого, определенного ею самою ритма, стушевались, и легкое, под прозрачною дымкою беспокойство рассыпалось, растворилось в том ужасе, который охватил старуху. Глянула вокруг обеспамятевшими глазами, деревья шевелились, клонясь все ниже, вон уж и корни показались из земли, розовые и слабые, и желтая пыль поднялась, и уж ничего не видать… Старуха вытянула перед собою руки и, шепча что-то, а скорее, призывая на помощь Баярто или хотя бы тень, множество теней, сделала шаг в одну сторону, в другую, но всякий раз натыкалась на шевелящиеся стволы деревьев. Закричала пронзительно, и в этом крике бывалый охотник услышал бы боль смертельно раненной изюбрихи, которая оставила в молодом березнячке своего, еще на слабых ногах, детеныша и уж не придет к нему…
Старуха стояла посреди сдвинувшихся с места, словно бы норовя пуститься в какой-то сумасшедший перепляс, толстых крепкоствольных кедров, и иа груди ее все рвался и рвался этот крик… В нем была она вся, потерянная среди людей, отчаявшаяся, она надеялась хоть одним глазом поглядеть на зимовье, но теперь поняла, что не дойдет, и не сумела справиться с обидою на жизнь, что не пожелала пустить ее на ту сторону… Думая так, она была недалека от истины. Как раз теперь, когда она, почти обезумевшая, пыталась отыскать хоть что-то похожее на недавнюю тропу, строители Кругобайкальской дороги закладывали заряд тола под другую скалу, недалеко от уже осыпавшегося на землю мелкими сколками и острыми камнями бугра. А потом подожгли тонкий, пятнистой змеею упавший на зеленое шнур и побежали в укрытие. Грохнул взрыв, еще более мощный, чем первый, старуху качнуло, ударило о дерево, и крик, что все еще рвался из ее груди, захлебнулся, осекся, сделался слабым и писклявым, пока не заглох вовсе.
Старуха лежала на снегу, раскидав руки, и все теми же обеспамятевшими глазами смотрела на синий клочок неба, не закрытый высокими ветвями. Казалось, она умерла, так было неподвижно и холодно ее лицо, но нет, это лишь казалось, скоро жилочка, пересекшая лоб, дрогнула, сдвинулась с места, забилась горячо. Старуха хотела поднять руку, чтобы убрать с глаза хвоинку, но не хватило сил, и тогда она моргнула, и с длинной черной ресницы скатилась слеза, а потом и сама хвоинка, и сразу стало лучше видно, синий клочок неба осветился, мягкий и непрестанно движущийся, и это сказало старухе, что она не умерла, если б было по-другому, не смогла бы ничего разглядеть. Но это не обрадовало, а когда возвратилась память и она мысленно попыталась воссоздать все, что испытала, пуще того расстроилась.
Лежала на снегу и не могла подняться, а это было плохо. Значит, она не дойдет до зимовья, которое построено руками Баярто, не услышит родного голоса. Да что там!.. Она уже и тень его не увидит, множество теней, это лишь сначала была одна, а потом множество, которые сопровождали ее в пути. Худо!.. Злые духи опять оказались сильнее и наслали на тайгу трясение, чтоб сбить ее с толку, и на какое-то время им это удалось, теперь-то она понимает и хотела бы встать и отыскать тропу, не исчезла же та вовсе. Но как это сделать, когда и рукой не пошевелишь и в спине боль, острая, колющая. А может, она уже начала замерзать, оттого и эта боль?.. Мороз лютовал и в полдень, а теперь, пожалуй, и вовсе – день-то к закату клонится…
Не знала, хочется ли умирать, нет ли, скорее, нет, вот если бы дошла до зимовья и посмотрела, что сделано руками Баярто, тогда можно было бы закрыть глаза и уж не открывать их. Жаль, что так все получилось, но ничего не исправишь, вон и ко сну клонит, и пальцы перестали ныть. Все же старуха, какое-то время сопротивлялась дреме, перед которой знала, не устоять. Еще когда была девочкою, давным-давно, заплутав в степи, замерзала. Тогда тоже испытывала чувство безразличия ко всему, что окружает, какой-то отрешенности от ближнего и дальнего мира, ярой углубленности в себя, когда, казалось бы, насквозь видится все, но не радует увиденное, скорее смущает: стоит за твоею нынешнею прозорливостью сила, словно бы и не тебе принадлежащая, а кому-то еще, дьявольская сила. Тогда, в детские годы, это испугало и, очнувшись в родной юрте, помнится, долго не могла прийти в себя, все мнилось, будто идет по степи об руку с кем-то, и хотела бы заглянуть ему в лицо, да не может, прямо и высоко держит тот голову. Она идет по степи, и люди смотрят на нее со страхом, спросила б, чего бояться, но не спросит, опасаясь того, кто крепко держит ее руку. Чудное было видение и еще не раз приходило в ее детские сны; и тогда она делалась вся горячая и кричала, отец с матерью приближались к ее постели и пытались утешить.
Вот и теперь старуха ощутила в себе необычайную прозорливость и почти звериную чуткость. Зрилось неближнее…
Баярто был привязан к дереву толстою веревкою, а внизу под ним уже загорался хворост, и люди начали шептаться, а кто-то, не выдержав, обхватил руками голову и пошел прочь от толпы. Пламя поднималось все выше, выше, и она испугалась, что больше не увидит глаза Баярто, которые были устремлены на нее, только на нее, вырвалась из чьих-то рук, подошла поближе… Сквозь серую и слабую завесу дыма – хворост горел бойко – отыскала глаза мужа и увидела в них так поразившее ее выражение, подумала, что это от физических мук, огонь уже подбирался к его ногам. Но потом поняла, что это не так, и муки были не физические, душевные, смятение зрилось в нем, он словно бы открыл для себя неожиданное, столь сильное, что все остальное, в том числе и мучения, показалось в сравнении с открытием ничтожно малым. Поняла, откуда шло смятение и не удивилась, и прежде догадывалась, рано или поздно так случится; в последние дни, месяцы муж стал все реже заниматься камланием, и даже когда сильно просили, не всегда соглашался, все думал о чем-то… Кажется, таяла вера в его способность помогать людям, когда им плохо. Но еще не догадываясь, что происходит с ним, искал причину этого в другом А теперь понял, что был неправ. Баярто мог бы остановить казнь, сказать, что уж не верует как прежде. Да, он мог сказать так, и хувараки разбросали бы хворост, но он не сделал этого, и все смотрел на нее. Знала, что ему не хочется умирать за веру, которой уж нету в сердце, но и отступить не желает, другой веры у него тоже нету.
Тени на мужнином лице делались все больше, больше, нет, это не тени, отсветы костра, что разгорался стреми тельно, дышал жаром.
Старуха лежала на снегу и все видела перед собою дорогого ее сердцу человека, и совестно было перед ним, не знала, отчего совестно, за всю жизнь не сделала ому ничего плохого и лукавым словом не предала. Что-то горькое на сердце, кажется, со стороны пришедшее, чужое, затомило вдруг, и скоро родимый облик растворился в воздухе, исчез, одно и осталось, что совестно, словно бы и она виновата, что Баярто погиб, а она все еще жива и к чему-то стремится. «Баярто, – шептала старуха, – чего же ты хочешь от меня.» И не получала ответа. Неожиданно подумала и в молодые годы все время не хватало, казалось бы, малой малости, чтобы стать до конца счастливой Теперь знала что по-другому не могло быть, и оттого, наверное, так совестно нынче и горько А впрочем, есть еще что-то, чего и сейчас, возвысясь над всею своею жизнью, умудренная высшим просветлением, которое приходит к человеку в минуту ожидания смерти, не понимала, зыбкое что-то, колышущееся как небесное марево, вроде бы рядом, а не дотянешься… Старуха сделала усилие и попыталась поднять руку, но так и не смогла… Вздохнула. Но не было в этом ее вздохе смирения, что не понять уж дальнего, пришедшего из глубины сознания, напротив, она словно бы хотела сказать, что жива и еще надеется понять… И это не было упрямство, а что-то другое Ворохнулось в голове к случаю ли, просто ли так, от сознания беспомощности и неумения что-либо поменять шел мудрец по камням к неближней скале, и ноги в кровь ободраны и ступать больно, увидели люди мучения его, сказали:
– Есть другой путь, пускай и подлиннее, но не такой трудный, и по нему можно дойти до скалы.
– Нет, – ответил мудрец. – Я пойду по камням Путь к правде всегда труден. А если еще и мучителен, значит и праведен.
Старуха и раньше слышала про мудреца, но слова его не доходили до сердца, терялись, не оставляли но себе и малой зарубки, а нынче ясно открылась его мудрость, и ее облила совестливость, которая шла не только от чувства вины перед мужем, а еще и перед людьми, многих из которых не помнит и даже не знает, а в изначале ее стоит на удивление простое: мне хорошо, а тебе плохо, и я не найду покоя… Она словно бы изжила самое себя, и уже не чувствовала свою душу отдельною от других, а только частью сущего, пускай и малою, но необходимою, как ветви деревьев, как зеленовато-синий клочок неба между ними. И это чувство, смявшее все остальное, не испугало, нет, сделало тревогу возвышенной и одухотворенной.
А в голове круженье, и такое ощущение, – словно бы ее подняли на руки и несут… Она силится сообразить, кому понадобилась в такую минуту, но на ум ничего не приходит. А может, злые духи несут ее в подземное царство? Она не из пугливых и самую жестокую муку примет. Пускай и поздно, все ж она поняла, что главное на земле совестливость, которая растекается ручейками по падям и долинам, но может стать морем, и тогда заплещет, искристое и сильное, и люди будут приходить к его берегам и черпать для себя…
А потом она снова почувствовала боль. Старуха пошевелилась и открыла глаза. Круженье исчезло, увидела перед собою узкие и черные, наскоро пригнанные – не одна к одной, а со щелями, которые с той, с другой стороны, закрыты желтой древесной корою – неотесанные потолочины и, еще не умея осознать происшедшего, почувствовала, что неизвестно, правда, с помощью какой силы оказалась в зимовье, срубленном руками мужа, куда так упорно стремилась…
Долго разглядывала потолочины, стараясь не поддаваться боли в теле, что с каждой минутою делалась все сильнее, а когда это удалось, в лицо ее, подле губ появилось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. Так она и пребывала еще долгое время в противоречии между физической болью и душевною радостью и, когда первое отступало, старалась побольше разглядеть из того немногого, что не могла увидеть, недвижно лежа на холодном, горбящемся, из мелких жердин, полу. Когда же замечала шевелящуюся паутину в темном углу, свисающую до середины стены, не брала себе в ум, откуда появилась паутина, а думала, что и Баярто, может, примечал ее в свое время, но почему-то не захотел убрать, должно быть, и ему померещилось что-то в этой паутине: Вот увидела ж она, словно бы рассыпаны в том углу мелкие блестящие монеты, да нет. не монеты, – монисто, которое он подарил на свадьбу, она долго хранила монисто, но после смерти мужа, во время переезда, куда-то подевалось, и было совестно, что потеряла. И еще увидела, уже в другом углу, большое засыхающее дерево, к которому хувараки привязали мужа, загоревшийся хворост… Разглядела смятение в его лице и, умудренная, хотела бы сказать о том, что постигла, и тем успокоить его душу, но не умела сказать, во рту сделалось вязко, и не было слов. Огромным, едва ли объяснимым в ее теперешнем состоянии, усилием воли подняла голову и… обмерла вся, придавив локтями тонкие жердины. В шаге от нее стоял Баярто, да нет, не тот, не прежний, а в облике белого человека, он стоял и смотрел горько и сожалеюще, и она улыбнулась бы ему, и может, что-то сказала, когда б рядом с. ним не увидела другого человека, совсем молодого, и он тоже был похож на Баярто, каким она знала его в первые годы своего замужества. «О, боги, что это?» – подумала она.
Старуха посмотрела на молодого Баярто и, обессилев, опустила голову на грудь и не почувствовала, как ее, все еще находящуюся в нестерпимо жгучем, болезненно смущенном душевном состоянии, перенесли на деревянный топчан. Старухе казалось, что кто-то столкнул ее со скалы, и вот теперь она летит вниз, и с каждым мгновением приближаясь к краю. Странно, что она не испытывает страха, есть только любопытство, перед тем, что открывается взору, а еще смущение, и ничего кроме этого, разве что чувство вины, огромное и неподвижное, как скала… Она не имеет зла против того, кто столкнул ее со скалы, даже обиды, все смято в душе, оттеснено в сторону – не сыщешь сразу. Впрочем, она и не пытается это сделать. Зачем? Зримо встает впереди другое, легкое и подвижное, как облачко в весеннем небе, не упустить бы только, не разминуться с ним, она и сама как облачко, а вдруг подует ветер и унесет ее не туда?