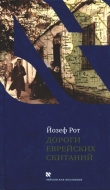Текст книги "Байкал - море священное"
Автор книги: Ким Балков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
12
Там, в тайге, увидев старуху беспамятною, лежащею на снегу, Бальжийпин растерялся, не знал, как помочь ей… Больно было смотреть в худое, обезображенное глубокими морщинами лицо За время, что жил в юрте, отношение
к старухе претерпело решительные изменения, сначала считал ее чуждой ему, бесстрастной и холодной, пребывающей в каком-то ином, куда ему пет доступа, пускай и незлобивом а все ж безразличном ко всему остальному, мире. И он, случалось и такое, пытался разрушить этот мир, чтобы между ними установилось хотя бы относительное понимание. Трудно было знать, что рядом есть человек, однако ж не уметь поговорить с ним. Но постепенно понял, что это ее состояние созерцательности идет не из чувства неприятия его, напротив, в ее глазах не раз замечал не только удивление, а еще и участие к его судьбе. Да и в том, что она переделывала в юрте за день: убирала ли постель, варила ли чай для него – тоже угадывалось участие, правда, приметить это было непросто, и даже он, чуткий и к малому проявлению душевного движения со стороны других людей, не всегда умел разглядеть… Но со временем понял, что она принимает живейшее участие в его судьбе, а если не скажет об этом, то не потому, что холодна и занята только собою, вовсе нет, поднявшаяся среди суровой земли, она и сама есть отражение этой земли, и хотела бы сказать о том, что на сердце, да так уж с малых лет приучена что не скажет. Однако ж и это суждение продержалось недолго. Однажды Бальжийпин вернулся в юрту уже потемну и, при тусклом свете аргальных лепешек увидев старуху, ее глаза, его словно бы обожгло вдруг, он не скоро еще сдвинулся с места, стоял у низкого порожка, держа в руке тяжелый матерчатый полог, и смотрел… Сияла в тех глазах такая боль, что жутко сделалось, страшно, уйти захотелось теперь же чтобы не видеть… Но он оказался в состоянии одолеть в себе тревогу и подошел к старухе и заговорил, и она не отвернулась, поглядела ему в лицо, стала слушать… И постепенно боль, что была в темных глазах, начала таять, но все ж не исчезла вовсе. Уж много времени спустя Бальжийпин догадался, что она всегда при старухе, сделавшаяся привычной, как шуршание шкур в непогоду, которыми отделана юрта, все точит, точит, и никто не в силах помешать этому.
Старуха, как и он, не чуждалась людей, но и не тянулась к ним неутолимо, она, пожалуй, лучше и увереннее себя чувствовала, когда ничто не нарушало ее стойкого и грустного одиночества Но ведь и он, случалось, пускай не часто, тоже стремился к этому и находил особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, если его подолгу никто не тревожил, не при ставал с вопросами, не требовал соблюдения условностей, которые так устойчивы в людях. И это появилось не сегодня, не вчера, а казалось, с самого начала жило в нем, то загораясь ярко и неколебимо, то становясь неприметнее.
Схожесть между ним и старухою особенно явственно проявлялась в их отношении ко всему сущему на земле. В смуглом лице старухи всякий раз, когда упадало на землю утро и длинные лучи солнца скользили по вершинам деревьев, или же, напротив, когда солнце, изморясь за день, слабое, утруженное, спешило в незримое отсюда, сокрытое за гольцами, жилище, ярко проступали перемены. Такие же перемены, Бальжийпин чувствовал, происходили в душе у нее, и он тоже, понимая это, ощущал перемену в себе.
Он, как и старуха, думал про здешнюю землю, как про нечто одушевленное, разумное, нигде-то не спрячешься от нее, и под крышею отыщет и посмотрит в глаза строго. Сколько раз ощущал на себе этот взгляд, и смущался или же, напротив, радовался. Но как бы там ни было, появлялось па сердце чувство надобности в этом большом мире. И за то он был благодарен земле, и не робел, когда оказывался один посреди глухого леса, куда и жадные солнечные лучи не имели доступа, или же, уйдя в себя, во все, что жило в нем, вдруг оказывался на берегу древнего сибирского моря, грозного и хмурого в осеннюю нору, когда ни на минуту не умолкает как бы изнутри байкальского чрева идущий из самой глубины яростный и властный гул. И тогда Бальжийпин не спешил покинуть берег, стоял и, все распаляя и так волнение необычайное, радость едва ли и самому себе понятную, с наслаждением, о котором только мог мечтать, смотрел в ту сторону, откуда, с каждым, разом делаясь все мощнее и выше, бегут волны и разбиваются об острые камни.
Он принимал и малое деревце, поднявшееся посреди лесной полянки, и озерцо, чудом разъявшее посреди серых бугристых камней у скал слабую иссыхающую почву, и даже камни, вроде бы неподвижные и мертвые. Приглядишься к ним повнимательнее, так и увидишь чудное и близкое, без чего его жизнь сделалась бы неполною. Часто случалось с ним: вдруг накатит что-то., чувство какое-то, бывает, и захолонет, и тогда бродит сам не свой, сдвинутый с привычно-го круга размышлений, и все-то кругом будто заживет своей удивительной жизнью. Но кто же помешает зрить ли, ощущать ли, то отдаляясь от увиденного, то приближаясь к нему настолько, когда не знаешь, сам ли это ты живешь в увиденном или же нечто отколовшееся от тебя и за какие-то мгновения сделавшееся сторонним? В такие минуты Бальжийпин забывал обо всем. Бродил по лесу даже в самые сильные морозы, когда деревья, клонясь к земле под яростными порывами ветра, поскрипывали и стонали, жалуясь. Охотно принимал эту их неприютность, и принимал так близко, что у него начинало ныть сердце.
В нем жило чувство необычайного сопричастия со всем сущим, такое же чувство жило и в старухе. Не раз был свидетелем того, как она вдруг оборачивалась к мутному окошку, за которым шумели ветвистые кроны, и начинала говорить, пришептывая и заметно волнуясь. Он и сам, глянув в окошко, по прошествии времени видел удивительное. Старуха принимала все на земле за живое, и это так поразило, что он еще долго не мог найти себе места. И тем более не скоро наступило время, когда и он стал смотреть на окружающий его мир не с тою, с малых лет привитой ему отстраненностью, а совсем по-особому, наверняка не так, как старуха, но тем не менее в чем-то и повторяя ее.
Да, Бальжийпин сначала растерялся, потом велел молодому охотнику сделать из жердей носилки, а сам стал приводить в чувство старуху. И скоро ему это удалось. Они положили старуху на носилки – и понесли… А когда пришли в лесную юрту, Бальжийпин, глядя на охотника, сказал:
– Я понял, почему она пошла по таежной тропе. Она искала зимовье мужа, и – нашла… – Помедлив, добавил: – Ты иди… Я буду лечить старуху. А потом приду. Я отыщу тебя сам… И мы еще поговорим со старым охотником, твоим дедом. Это надо не только мне…
С того дня минула неделя, и вот теперь Бальжийпин шел по степи. Он был в том же желтом с синими заплатами халате. Степь была белая-белая. Хрустел под ногами снег, поискри-вал, и проселок, по которому шел Бальжийпин, едва угадывался. И даже ему, в свое время исходившему степь вдоль и поперек, часто случалось останавливаться, чтобы сориентироваться и не заплутать.
Тихо, ни малого ветерка, воздух прозрачен и чист, легкий морозец пошаливает, обжигает щеки. Тут всегда так, в этих местах, неожиданно и скоро: опомниться не успеешь, а уж зима, иль наоборот, в одно прекрасное утро выйдешь из юрты и увидишь, что почернел снег и уж бегут по земле резвые, как молодые жеребчики, ручейки, кинешься за ними в угон, ошалев от радостной перемены в природе, но не поспеешь, шустры и неугадливы: исчезнув прямо на глазах, тут же пробьются где-то рядышком, захочешь понять, где именно, и не сумеешь, в другом месте появится еще один ручеек и пересечет прежний, и закружит в вихревом движении, закружит… И у тебя в голове кружение, и глаза разбегутся, и захочется поспеть за всем. Да где там! Остановишься и будешь глядеть в одну сторону, в другую, пока не пристанешь..
Другое чувствуешь, когда приходит зима. Вокруг одно и то же, белая стынь на десятки верст, глазам больно, а на душе грустно и одиноко, когда глядишь на сверкающую в тусклом сиянии солнца степь, посверки эти холодные, безжизненные, ни тепла от них, ни радости.
Бальжийпии шел по степи и все прибавлял шаг, прибавлял, надеясь согреться. А когда показались плоские, обшитые кожей юрты Шаманкиного улуса, заметно повеселел.
Бальжийпин подошел к крайней по правому порядку юрте, обтянутой старыми, плохо выделанными бычьими кожами, откинул полог… Молодой бурят, задумчиво глядя перед собою, сидел на мужской половине. Бальжийпин приветливо поздоровался и, отряхнув с халата снежные хлопья, опустился возле него.
– Вчера опять были из дацана, – сказал молодой бурят поднявшись и принеся чашку чая, пахнущего жженой хлеб ной коркой и подавая ее гостю. Долго искали тебя…
– И что же мне делать?
– Идти обратно, в лесную юрту.
– Нет… Мне нужно видеть твоего деда.
Помолчали. Бальжийпин с удовольствием отпивал из чашки, чувствуя, как приятное тепло разливается по телу, а скоро начало клонить ко сну, и он сказал хозяину, что хорошо бы отдохнуть, у него нету сил даже рукою пошевелить.
Молодой бурят принес кошму, бросил на земляной пол.
– Отдыхай…
И был сон… Вроде бы шел по степи, ветер дул в лицо, обжигал щеки, начали коченеть руки, ноги, едва переставлял их, а до улуса еще далеко. «Не дойти мне», – успел подумать и провалился в большую черную яму. Странно, что тут тепло, хотя солнечные лучи не проникали сюда. Отогревшись, посмотрел вверх и увидел узкую и красную полоску неба Хотел выбраться из ямы и не смог. Яма была глубока. И вдруг заметил чью-то черную большую тень, которая заслонила красную полоску неба. Услышал хриплый голос:
– Я кину лопаточку из мягкого осинового дерева. Ты станешь делать зарубки на стенах и подыматься по этим зарубкам вверх. На это уйдет много дней и ночей. И все это время ты не будешь есть и пить. Если удастся выбраться из ямы, значит, ты очистил себя от греха. А если нет. Держи!
Лопаточка упала к ногам Бальжийпина, поднял ее и снова увидел красную полоску неба и лишь теперь вспомнил, где слышал голос, да, конечно, это голос настоятеля монастыря, откуда ушел… Недолго разглядывал лопаточку, попробовал сделать зарубку на стене, но земля была твердая, как камень, а лопаточка мягкая, ничего не получилось, начал понимать, что не выбраться отсюда, отчаяние овладело им, закричал что-то, но никто не услышал.
Бальжийпин проснулся, долго лежал с открытыми глазами, лоб у него был мокрый, руки дрожали… Медленно поднялся с кошмы, подозвал молодого бурята:
– Были в улусе русские солдаты?
– Да, были.
– Искали черные стрелы?
– Да, искали…
Бальжийпин. знал, отец молодого бурята из улуса, который сожгли пришлые люди. Он был тогда совсем маленький, пониже тележной чеки, его нашли обгорелого на пепелище и выходили… Вырос, женился, а когда родился ребенок, ушел к тем людям из родного улуса и не вернулся.
Парень был обязан Бальжийпину своею жизнью, на охоте его укусила ядовитая змея, и, если бы не лекарь, – помер бы в мучениях.
– Ну что, будем собираться?
Молодой бурят не ответил, оделся, вышел из юрты. Бальжийпин поглядел ему вслед, подсел к очагу. С женской половины юрты, прикрытой легкой цветной занавеской, доносился плач ребенка и слышалась негромкая песня матери.
Спи мой мальчик, спи, родной мой
Пусть увидится тебе во сне небо синее,
Небо синее, бездонное А в небе жаворонок звонкий,
И споет он тебе лучше, чем я, песню добрую, песню нежную
Про красивых людей и про сильных людей
И про то, как ты станешь батором[8]8
Батор – богатырь (бурят.)
[Закрыть], когда вырастешь
Бальжийпин не помнил женщины, ставшей для него матерью, умерла, когда ему было пять лет. Но все время казалось, что знает про нее больше, чем на самом доле. Часто, и не во сне даже, виделась усталая молодая женщина, она медленно шла по проселочной дороге, останавливалась и смотрела на него, смотрела, словно бы хотела что-то вспомнить и не могла. Бальжийпин, полностью отрешившись от всего, что окружало, сосредоточивался на одном видении, боясь вспугнуть его малою неосторожностью. И если рядом не оказывалось никого, подолгу видел ту женщину, усталые глаза и маленькие смуглые руки, случалось, мысленно говорил с нею, но она молчала и все с тем же напряжением во взоре смотрела на него. Бальжийпин надеялся, что со временем она узнает его, подойдет и скажет что-то теплое, нежное. Но нет, она оставалась такой же сосредоточенной, холодной.
Спи, мой мальчик, спи, родной мой,
Пусть увидится тебе небо синее….
Он слушал песню и уже думал о другом. Живое и сильное, это другое, стояло перед ним так ярко, так близко… Отец его, добрый человек, не раз давал советы жителям степи, знал в монгольской грамоте и писал прошения даже царю, и за это его уважали в улусах, бывало, что приносили на праздник белого месяца – сагалган айрак и таран, однажды сказал:
– Велел ширетуй идти тебе в дацан. Станешь хувараком, сын мой. А я уж ничего не могу дать тебе.
И он не ослушался, учился исправно и многое узнал, пришлись по душе старинные книги, его непросто было выпроводить из тайного, глубоко под землею, хранилища человеческой мудрости. А когда подрос, разрешили надеть ярко расцвеченный пояс с изображением богов и словами из молитв, символ причастности к святому таинству. И он был доволен, на великих хуралах[9]9
Хурал – молитвенное собрание (бурят.)
[Закрыть] со старательностью исполнял все, что поручалось. Но странно, в этой старательности не чувствовалось глубокого, от сердца, послушания, которое не оставляет места другим чувствам, и ширетуй, человек проницательный, заметил и остался недоволен, велел следить за каждым шагом молодого монаха, по малейшему поводу наказывал строго, внушая, что только в послушании и отречении от соблазнов может открыться истина.
Бальжийпин не возражал и все же, оставаясь наедине со старинными книгами, пытался найти в них другое… Поразительно, с самого начала осознанной жизни старался понять не тайну обряда, которая приводила в трепет людей, а то, что стояло за этим обрядом, смысл, предназначение высокое… И не чувствовал волнения, когда, готовясь к хуралу, надевал праздничный халат из желтого шелка и прикасался к хуралу. Даже в среде буддийских монахов, людей спокойных и сосредоточенных на какой-то одной мысли, отличался особенной отрешенностью. Однажды, сопровождая ширетуя, оказался в Иркутске и гам встретился с чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири, говорил с ним. Доржи, сын Банзара[10]10
Доржи Банзаров – бурятским ученый.
[Закрыть], так звали чиновника, пришелся по душе, что-то было в нем необычное, яркое, какое-то упрямое нежелание следовать в суждениях за привычными канонами, удивительная раскованность, освобожденность от условностей, которые на него самого так давили…
Столько лег прошло, а Бальжийпин все еще помнит встречу с сыном бурятского казака, тогда в душе сдвинулось что-то, тесно стало в монастырских стенах, неспокойно па сердце, хотелось чего-то иного… Но были книги и стремление познать истину, которая заключена в них, и это до поры до времени удерживало от случайного, могущего вызвать неудовольствие высшей духовной знати, шага.
Часы, проведенные среди книг в темных подземных коридорах буддийского монастыря, были лучшими часами жизни. Ни раньше, ни позже он не испытывал того удовольствия, которое получал, перелистывая старинные книги.
Со временем он остро почувствовал пропасть, которая пролегла между самим учением и религией, выросшей на основе этого учения, и хотел бы поделиться с кем-то сомнениями, но рядом были люди, как раз больше всего старавшиеся запомнить обрядовую сторону дела и мало интересовавшиеся самим учением. И он все больше и больше замыкался в себе, в конце концов настолько свыкся со своим одиночеством, что оно стало казаться естественным, научился говорить с самим собой, спорить… Порой настолько увлекался, что забывал, где находится, и тогда-духовные отцы бывали недовольны и говорили, что ему многое надо сделать, чтобы очистить Душу, и он соглашался и сам верил в очистительную силу великого таинства, о котором так много говорится в учении и которое лишь одно способно сделать человека счастливым
Впрочем, он не знал, что такое счастье Привык жить, преодолевая себя и находя в этом удовлетворение, случалось, с волнением думал, что сталось бы с ним, если бы дорога, по которой идет, была бы ровной и гладкой. Этого он боялся
Однажды он узнал, что умер отец, хотел бы съездить в род ной улус и похоронить. Но Ширетуй Гамба[11]11
Ширетуй гамба – главный настоятель буддийского монастыря.
[Закрыть] сказал, что это сделают другие, а он обязан служить только высшему существу, отказавшись от всего земного и в этом служении находить успокоение для души. Потом он узнал, что провожал отца в царство тени шаман. Старик так и остался верен старым обычаям. Бальжийпин догадывался, что отношение к нему со стороны священнослужителей сделается строже. Так и случилось. Теперь он не мог свободно проходить в подземные кельи, где хранились старинные книги, при исполнении обрядов от него требовали предельной точности, если он допускал оплошность, строго наказывали. А потом его позвал Ширетуй Гамба и сказал, что он должен пойти в родной улус и свершить суд над человеком, который не желает подчиняться священным законам.
Бальжийпин знал шамана, был тот уважаем за то, что не делал людям зла, старался помочь, а если случались плохие годы, терпел нужду вместе со всеми и ничего не требовал для себя. Баярто называли добрым шаманом, и в этом Бальжийпину виделась высшая справедливость.
Молодой монах не хотел причинять Баярто зла. За годы пребывания в монастыре понял, что все сущее на земле есть благо, а тут предложили совершить насилие и не только над человеком, который стал неугоден духовной власти, а над самим собою. Он не мог, не желал быть исполнителем злой воли…
Пришел хозяин юрты, Бальжийпин с трудом отвлекся от раздумий и посмотрел на него.
– Пойдем, – сказал молодой бурят.
Бальжийпин торопливо поднялся, хозяин отыскал дэгэл: «Возьми…» И они вышли из юрты.
Все так же тускло светило солнце, Бальжийпин вспомнил, как час-другой назад, когда шел по степи, было неспокойно и одиноко. Теперь он чувствовал совсем другое, перебрал в памяти прошлое и не нашел ничего, что бы смутило. Конечно, случалось и ему ошибаться, но всегда он оставался верен себе, тем жизненным установлениям, которым следовал… Здесь он был тверд. Но и мысли не допускал, что это дает основание свысока относиться к людям, не похожим на него. В любом случае, будь это встреча с разуверившимся во всем аратом, или торговцем, для которого высшее наслаждение – пересчитывать золотые монеты, Бальжийпин оставался самим собою, умел не показать смущения или неудовольствия. Впрочем, он научился не удивляться даже в самых неожиданных ситуациях, полагая, что это чаще бывает неприятно собеседнику.
Бальжийпин шел за молодым бурятом по узкой таежной тропе, а она, зацепившись за горный ручей, не хотела расставаться с ним, быстрая и неожиданная, вдруг сворачивала вправо, и тогда глазам открывались крутые склоны, зеленоватые от пробившегося сквозь каменистую землю мха, то брала влево, и тогда приходилось пробираться сквозь колючий, жесткий кустарник. Но Бальжийпин не замечал ничего, весь был в раздумье, лицо у него светилось, а порою делалось грустным и усталым, и тогда молодой бурят, оглянувшись, покачивал головою, но потревожить не смел.
Тропа вывела в кедровник, изжелта-серые деревья смыкались над головою густыми кронами. Сюда едва ли ступала людская йога, разве что случайный охотник забредет или суровый тунгус пробежит, зацепившись зорким глазом за легкий, едва приметный след зверя. Кедры стояли таинственные и нетронутые, и это, видать, не очень-то им по нраву, во всяком случае, когда Бальжийпин, отвлекшись от нелегких мыслей, посмотрел вверх, он подумал именно об этом. Видать, скучно им в таежном нелюдье.
– Скоро будем на месте, – сказал парень и опустил на землю туго набитый до самого верху кожаный тулунок. – Вот тропа кончится – свернем к Байкалу.
Он посмотрел на Бальжийпина, и глаза у него были неспокойные и на смуглом лбу собрались тонкие нити морщин
– Ты боишься, что я?.. – вздохнул Бальжийпин.
– Нет, нет! – воскликнул парень, – Другое тревожит. Когда уходил от старика, мне показалось, что он болен.
Байкал открылся им как-то неожиданно, сразу, вроде бы шли но тайге усталые, ничего не слышали, кроме легкого шелеста ветвей, и вдруг коснулся слуха дерзкий, упрямый шум, в лицо пахнуло морской свежестью. Бальжийпин, позабыв про усталость, обогнал парня и. неловко переставляя ноги и понимая, что это вызовет у спутника невольную улыбку, но ничего не. умея поделать с собою, заспешил к белому каменистому берегу. А потом долго стоял и глядел, как, сшибая друг друга и пенясь, накатывают волны, а разбившись о камни, не торопятся уступить место другим, таким же крутым и ярым, искристые и высокие, словно бы на мгновение-другое зависают в воздухе и уж потом, ослабнув в стремлении подняться выше, падают и разбиваются об острые камни
Чувство причастности к чему-то великому и таинственному владело Бальжийиином, возвышало в собственных глазах. Такое чувство, он помнит, испытывал, когда листал старинные книги и стремился постичь их смысл, и пусть не всегда это удавалось, а все ж ощущение собственной значимости, которое высшее буддийское духовенство считало недостойным священнослужителя, не проходило. Нет, конечно же Вальжийиин не отделял себя от всего, что есть на земле, считая, что и он часть вселенной, но он хотел бы стать частью мыслящей, способной послужить добру, а не замыкаться в одном послушании. К этому призывали знания, что сумел вынести из подземных коридоров буддийского храма.
Байкал тоже был для него книгой, и он не однажды делал попытку понять его. Но эти попытки кончались неудачей, мысли, вроде бы и возвышенные, и сильные, достигнув неведомого предела, вдруг обрывались, и было непросто собрать их и устремиться вперед… Он мог бы смириться и отступить, но что-то гораздо сильнее и значимее обыкновенного человеческого упрямства, а от него он не был избавлен, мешало.
Он думал о Байкале, о том, что стоит за пределами зримого и является носителем какой-то удивительной силы, которая в состоянии управлять древним сибирским морем, как о живом существе, но не было в этих мыслях благоговения, а только интерес. Он не знал, откуда в нем эго. Может, от отца, всю жизнь что-то искавшего, мучимого сомнениями и так и не обретшего покоя: отдав сына в буддийский монастырь и одно время искренне возлюбив святую Лхасу, он, умирая, все же попросил, чтобы его похоронили но старому обычаю. Не может, и не от отца, а от Баярто. Бальжийпин больше и встречал таких людей, как бывший шаман. Кажется, тот и сам не всегда верил в возможность помочь каждому, кто просил помощи, Случалось, говорил об этом, а еще о том, что он не всесилен и людям надо больше верить в себя, может, тогда им и не понадобится помощь.
Он был не просто шаманом, а человеком, для которого собственное ремесло казалось необходимым, но не настолько, чтобы отринуть все, не поддающееся разуму. Люди приметили эту черту его характера и не сердились, напротив, он словно бы стал им ближе, понятнее, могли рассказывать обо всем, что тревожило, и даже о том, о чем другому и заикнуться бы не посмели, Они научились думать и больше полагаться на самих себя, и, может, поэтому жизнь в улусе казалась интереснее, чем в других местах. Во всяком случае, Бальжийпин думает именно так.
Молодой бурят прикоснулся к плечу Бальжнйпина, сказал:
– Пошли, абгай!..[12]12
Абгай – вежливое обращение к старшему по возрасту (бурят.)
[Закрыть]
Бальжийпин повернулся к нему, вздохнул…
Обогнули скалу, нависшую над Байкалом, пошли по узкой темной расщелине, скоро оказались в низкой душной пещере, заросшей густым зеленоватым мхом, на дне которой струился горный ручей. Молодой бурят остановился, вытащил из ту-лунка толстую сальную свечу, поднял над головою.
– Хэшэгте, ты где?..
Никто не откликнулся. Чуть помедлив, парень пошел вперед, осторожно и опасливо ставя ноги на скользкие валуны Бальжийпин старался не отстать от него. В пещере было сыро, и скоро одежда сделалась мокрой.
Отыскали того, к кому пришли, в самом конце подземного коридора, был он. весь белый, с узким исхудалым лицом, сидел на сером потнике, прислонившись спиной к холодной, в желтых проплешинах, где ползали какие-то огромные и скользкие, как угри, насекомые, каменной стене. Молодой бурят подошел к. старику и что-то сказал, но тот не услышал, дышал тяжело, частый кашель рвал обнаженную, в темных коростах, грудь. Рядом лежал длинный, причудливо изогнутый, с тугой блестящей тетивой лук. Старик держал руку на тетиве, и, когда его душил кашель, а такое случалось часто, рука мелко дрожала, но и тогда сухая и странно тонкая рука не отрывалась от тетивы.
Молодой бурят снова что-то сказал старику, и опять тот не услышал. Бальжийпин понял, что старик их не видит, болезнь заглушила все чувства. Он прикоснулся ладонью ко лбу, а потом провел ею по груди, и ладонь долго не могла ощутить биение сердца. Снял дэгэл, стеснявший движения, начал водить ладонью по обнаженной груди старика все быстрее, быстрее. Волнение, которое охватило Бальжийиина, когда он увидел старика, прошло, сделался спокойным, велел парню раздобыть хворосту и разжечь костер. Внимательно осмотрел старика, освещенного тусклым пригибающимся к земле пламенем, покачал головою, вытащил из кармана халата туго набитый мешочек, развязал, высыпал на ладонь мелкое крошево из сухих листьев, размял, и тотчас в пещере сделалось словно бы просторнее, стало легче дышать, так духовиты и сильны были травы, из которых Бальжийпин готовил снадобье для старика. Он размял. листья, а потом зачерпнул в чашку воды из ручья, долго стоял, размешивая крошево, пока вода не приняла бледную окраску. После этого снова нагнулся над стариком, разжал его зубы, влил снадобье в рот, подождал, пока тот не сделал глотательное движение и судорога не прошла по исхудалому лицу, и лишь тогда опустился рядом с ним на холодный валун, ребристо и – серо, выступающий из земли, – и стал ждать…
Ждать пришлось недолго, старик, открыл глаза и осмысленным взглядом посмотрел – вокруг, увидел внука и что-то, похожее на удовлетворение, скользнуло по лицу, но сразу же исчезло, стоило обратить внимание на Бальжийпина.
– Это кто? – спросил у внука, и тот торопливо. ответил, и старик успокоился, сказал, что уже давно слышал про Бальжийиина и доволен, что он оказался добрым человеком и. помогает людям, отгоняет: болезни, которых нынче так много… Помолчал и снова стал говорить, но уже о другом: о своем роде, от которого остались только он и внук, огонь пощадил его. отца, повзрослев, тот пошел в чужой улус и там-встретил женщину и сказал, что хочет иметь сына, и она согласилась, Но отец внука немного пожил на земле, его выследили и убили, как убили всех охотников улуса.
– Я последний, кто еще не ушел в царство теней. Я был самым юным из охотников, которые носили на конце каленой стрелы смерть людям, погубившим моих родичей. Но потом мне стало трудно убивать. На таежной ли троне, в степи ли встречались и другие люди, и я подумал, что не имею права убивать. У меня оставалось в колчане две черные стрелы. Я зарыл их в землю, чтобы не напоминали о давнем. Я ходил по тайге, промышлял зверя и все думал о своей жизни, и мысли мои были горькие, но все же и я, случалось, находил успокоение, это когда мое сердце работало в согласии со всем остальным миром: с байкальской ли волною, которая, искристо-белая, накатывает на берег, с таежной ли птицей, каждое утро ныряющей в дупло и что-то ищущей там… И так продолжалось бы долго, может, до последнего дня моего, если бы не появились люди в тайге и не начали строить грохочущую дорогу и не растеклись по лесным падям, как злые языки пламени. Я видел, как тайга сделалась испуганной, и зверь начал уходить, и птицы улетать из наших мест. И больно мне стало, и горько. Я подумал, что рано зарыл стрелы в землю, и снова пошел туда, где закопал их, а через день оказался в роще, откуда было видно как рубят деревья и поднимают на воздух огромные горы. Я смотрел па все это и не мог понять, отчего люди, похожие на меня, у них тоже две руки и две ноги, делают больно земле, которая и для них мать?.. Я чувствовал, как что-то во мне сломалось, и до самой ночи простоял в роще, а потом пошел к Байкалу, и в сердце у меня уже не было согласия со всем остальным миром, я снова оказался один, и лес неприветливо шумел над моей головой. Я приходил в рощу еще не один раз и все смотрел, смотрел… Глаза мои сделались жадными, словно бы хотели запомнить и самое малое. Однажды я увидел, как один человек мучил в тайге другого человека, и я совсем растерялся, подумал, что скоро на земле не останется людей, все мы уйдем в царство теней. Хуже того, что я увидел, нет ничего на свете. Но во мне еще были силы, и я начал следить за злым человеком, повсюду ходил за ним, как тень, и он, кажется, догадывался об этом, случалось, я видел в его глазах испуг, когда он оборачивался и долго смотрел в ту сторону, где я прятался. А потом я поднял лук и натянул тетиву, но силы уже ослабли… Моя стрела, пущенная слабой рукой, пролетела мимо. Я расстроился, ушел в пещеру и решил больше не подниматься наверх.
Бальжийпин слушал старика и со страхом думал, что скоро действие снадобья кончится и старик не успеет сказать всего, что хотел. Но гот был спокоен и уже не смотрел на него, смотрел на внука. А потом черты смуглого лица обозначились резко, точно при вспышке молнии, и начали медленно расплываться, угасать… На прикушенном кончике лилового языка проступила кровь, руки, обмякнув, упали, ударились, налитые смертельной тяжестью, глухо и звонко о каменистую землю. Бальжийпин понял, что старик умер. Парень тоже догадался об этом, но не вскрикнул, не засуетился, ничем не выдал охватившего его волнения.
Долго сидели подле старика, а потом Бальжийпин сказал, что надо бы похоронить его, но молодой бурят не согласился:
– Дед просил, чтобы его оставили в пещере. Пускай будет так. – Поднялся. Вернулся он с ворохом сухой пахучей травы, – Я разбросаю по тропе до самой нашей юрты, чтобы дед смог прийти к нам, когда захочет.
Бальжийпин вздохнул, поднялся с земли, вышел из пещеры.
Розовело небо, над Байкалом клочьями свалявшейся овечьей шерсти висели облака.