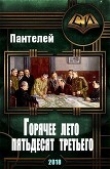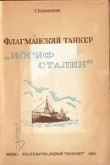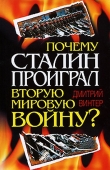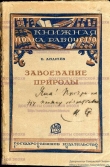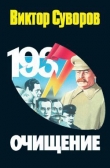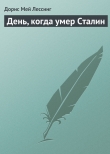Текст книги "'День-М - 2' или Почему Сталин поделил Корею"
Автор книги: Кейстут Закорецкий
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
В заключение В. Л. Исраэлян делает интересный вывод, что "стиль и суть политики не могут так расходиться. Неуважительные замечания, высмеивание политических деятелей, их очернительство, ... несовместимы с намерением установить добрососедские отношения с государствами, которые они представляют. Ругань никогда не содействовала, да и не может содействовать конструктивному сотрудничеству". Другими словами, Исраэлян намекает, что в планы Сталина не входили дружественные отношения с рядом государств. И Вышинский с большим успехом внедрял такую политику в жизнь. Причем, с очень большим талантом, т.к. обладал многими способностями, очень важными для дипломата, политика и государственного деятеля. Андрей (Анджей) Януарьевич Вышинский был отменным оратором, великолепно знал три языка (русский, польский, французский), хуже еще два – английский и немецкий. Еще до революции он учился на профессорское звание в Киевском университете (но был отчислен за революционную деятельность, в частности, в 1908 году ему пришлось провести некоторое время в Баиловской тюрьме в одной камере со Сталиным и они часто спорили, так как он был меньшевиком). Некоторые сослуживцы отмечают удивительное умение Вышинского с ходу диктовать документы любой степени важности с такой литературной грамотностью, что хоть сразу в печать! (Черновик речи Молотова по радио 22 июня 1941 года написал именно он). После командировки в Латвию летом 1940 года он становится заместителем Наркома иностранных дел, а с конца 1943 много времени проводит в зарубежных командировках. Сталин доверял ему очень сильно. Например, сразу после окончания войны в 1945 году Вышинский оказался во главе сверхсекретной комиссии, которая в документах даже не имела определенного названия ("Правительственная комиссия по Нюрнбергскому процессу", "Комиссия по руководству Нюрнбергским процессом" [!] и т.п.) Ее главная цель состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного обсуждения любых аспектов советско-германских переговоров, особенно факта наличия и содержания секретных протоколов к договорам 1939 года. (Вышинский много раз ездил в Нюрнберг). И не просто так он сидел за одним столом в Карлхосте вместе с маршалом Жуковым во время подписания Акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 г.
Но с другой стороны, всю свою жизнь он боялся угодить вслед за своими жертвами 30-х годов. Всю жизнь ему приходилось приспосабливаться, интуицией чувствуя, что от него требуется. Он мог менять свое мнение на прямо противоположное, а к Сталину ходил, как правило, с двумя проектами документов, предвидя варианты решения. В ООН мог врать, не стесняясь. По иронии судьбы, его день рождения (10 декабря) эта организация объявила Международным днем прав человека. А Исраэлян в своей книге приводит следующий итог его деятельности на посту главного дипломата Советского Союза: "Прокурорская дипломатия" Вышинского наряду с другими проявлениями культа личности помогла созданию "образа врага". В конце 40-х – начале 50-х годов опросы Гэллапа показали, что большинство американцев были уверены, что вскоре они окажутся в состоянии войны с СССР".
Этому же способствовало и раздувание атомной опасности в прессе. В США в то время издавались не только учебники для взрослых (типа "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ ПОД АТОМНОЙ БОМБОЙ?"), но даже и атомные азбуки для детей (А – атом, Б – бомба).
Таким образом, международная обстановка в 1949 году оказалась уже достаточно "накалена", перейдя в состояние "Холодной войны", которая разрасталась усилиями обеих сторон. Но если советские историки ведут ее начало с речи "частного лица" (Черчилля) в Фултоне, то Загладин, например, предлагает другую периодизацию. Он считает, что события с лета 1945 по лето 1947 можно назвать периодом подготовки "Холодной войны" и пишет: "Поводом к окончательному разрыву, к расколу мира на два лагеря стал конфликт, политический и идейный, возникший в связи с выдвижением США "плана Маршалла" и резко отрицательным отношением к нему советской дипломатии" (с. 144). На это же указывает и год первого использования термина "Холодная война" (1947). Поэтому не все так просто с тем временем, в отличие от существовавшего длительное время официального объяснения. Загладин попытался изменить его в своей книге "ИСТОРИЯ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ" (1990). То, что касается 1945-1955-х годов, он совершенно по-новому рассмотрел в главах:
– Кто развязал "холодную войну"?
– Формирование "лагеря мира"
– Истоки кризиса военно-блоковой политики
– У края ядерной пропасти
В них хорошо и правдиво описана история социалистическо-капиталистических международных отношений тех лет. Но остается сожалеть, что Загладин не увидел истинную причину послевоенной сталинской политики – подготовку новой мировой войны.
С одной стороны, он отмечает, что "по мере того, как напряженность в отношениях между СССР и США возрастала, для характеристики "империалистического лагеря" употреблялись все более резкие формулы. Так, Г. М. Маленков в 1949 году в речи, посвященной 32-й годовщине Октябрьской революции, приписал США намерение создания "путем насилия и новых войн мировой американской империи" (с. 149). Но затем Загладин объясняет, что "напряженность в отношениях с внешним миром оказалась необходимой для поддержания жизнеспособности структур власти, сложившихся в условиях сталинизма. В то же время в войне с капиталистическим миром Сталин и его окружение заинтересованы не были". (с. 152). Странный вывод, если учесть, что после смерти Сталина многое из внутренней и внешней политики было пересмотрено. И это делалось теми же "структурами власти"!
Надо заметить, что предваряя свой вывод, Загладин сделал очень краткий обзор внутренней политики Сталина, отведя в нем большое место террору. Но в нем он увидел только элемент руководства экономикой и не связал его с программой скрытой мобилизации. В нашем же разговоре подробный обзор террора с некоторыми выводами пойдет в следующей главе.
А вот Трумэн сделал более реальное заключение. 24 ноября 1948 г. он одобрил директиву Совета национальной безопасности США 20/4. В ней утверждалось, что "коммунистическая идеология и поведение СССР ясно показывают, что конечной целью лидеров СССР является мировое господство". Политики США призывались ограничить могущество и влияние СССР до таких пределов, чтобы он не мог более представлять угрозу миру, национальной независимости и стабильности мировой семье народов" (книга Загладина, с. 149, 150).
В отличие от руководства Соединенных Штатов, Сталин не только проводил оборонные мероприятия, но и АКТИВНО вел подготовку новой мировой войны. Причем, гораздо тщательнее, более планомерно и на фоне бесчисленных пропагандистских заявлений о борьбе за мир. Одновременно проводилось много мероприятий, провоцирующих Запад на осложнение международной обстановки. В частности, летом 1948 года Советским Союзом была установлена наземная блокада Западного Берлина в связи с проведением в июне денежной реформы в западных секторах оккупации Германии. Этот шаг Сталина в очередной раз создал угрозу миру. Американцы организовали "воздушный мост". Но их самолеты можно было бы и сбивать. К чему это могло привести, даже жутко представить. И хотя блокада была снята в мае 1949, но международная жизнь в очередной раз ухудшилась.
О подготовке войны говорит и отношение Сталина к конвенции ООН по геноциду и Женевских конвенциях о защите жертв войны.
9 декабря 1948 Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. А 12 августа 1949 года в Женеве были приняты следующие четыре конвенции о защите жертв войны:
– об улучшении участи раненых и больных в действующей армии;
– об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море;
– об обращении с военнопленными;
– о защите гражданского населения во время войны.
Все они были подписаны Советским Союзом в декабре 1949 года (с небольшими оговорками). Но ратифицированы только в марте-апреле 1954 года! ("СБОРНИК ЗАКОНОВ СССР И УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР (1938-1975)", Том 2, Москва, 1975, "Известия СДТ СССР"). Причем, если в этом "СБОРНИКЕ ЗАКОНОВ СССР..." Указ Верховного Совета (ВС) СССР о ратификации Женевских конвенций приводится по дате 17.04.1954, то в третьем издании "БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ" сказано, что Женевские конвенции были ратифицированы Президиумом ВС СССР 17.04.1951 г.! Опечатка? Или пример попытки сокрытия неблаговидного поведения Советского Союза?
В "ЮРИДИЧЕСКОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ" (Москва, 1987, "Советская энциклопедия") говорится, что "ратификация" – это окончательное утверждение международного договора высшим органом государства. Она воплощается в двух различных актах: международно-правовом и внутригосударственном.
По первому, "ратификация" наиболее авторитетно закрепляет окончательное согласие государства на обязательность для него ратифицированного договора. Во внутреннем плане "ратификация" придает договорным нормам внутригосударственную юридическую силу.
Другими словами, до 1954 года Советский Союз не высказал своего окончательного согласия со всеми вышеперечисленными конвенциями. И они для СССР не имели внутригосударственной юридической силы.
В связи с этим, при попытках обвинить американцев в нарушениях ведения войны в Корее советской пропаганде пришлось вспоминать Гаагские конвенции 1907 года (в частности, в газете "Правда" с конца 1950 года), а не те, что были подписаны Советским Союзом всего год назад.
Причем, теперь оказалось, что вопрос с Гаагскими конвенциями для СССР в то время также не был решен! В пятом томе "БСЭ" третьего издания (Москва, 1971, стр. 608) приводятся сведения о двух мирных конференциях, проведенных в Гааге о законах и обычаях войны – 1899 и 1907 годов. В 1899 было принято 3 конвенции: "О мирном решении международных столкновений", "О законах и обычаях сухопутной войны", "О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10.08.1864". В 1907 году было принято уже 13 конвенций, но их список открывает все та же "О мирном решении международных столкновений". Конвенция "О законах и обычаях сухопутной войны" в списке указывается четвертой.
Далее в энциклопедии говорится, что все они отражали уровень военной техники современного им периода. А СССР признал их в той мере, в какой они не противоречат Уставу ООН. Однако, во втором томе "УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ" (Киев, 1979, стр. 420) указан год признания советским правительством Гаагских конвенций – 1955 !
В каких условиях государству не выгодно признавать подобные документы? Только в одном – если предполагается наступательная война, в которой, кроме всего прочего, ожидаются большие потери как военнослужащих на фронте, так и гражданского населения. (Например, из 9 млн. погибших корейцев 84% составляли мирные жители).
Действительно, солдат может защищать свою землю и без наличия каких-то конвенций. Но если он находится на чужой территории в сложных условиях (плохая погода, нехватки снабжения, окружение, полуокружение, жестокие встречные бои и т.д.), то наличие ратифицированных конвенций может действовать ослабляюще. В этих условиях под влиянием умелой контрпропаганды противника вполне может появиться мысль о сдаче в плен.
А наземное наступление на США, между прочим, советские войска могли вести только в очень отвратительных условиях Крайнего Севера и Арктики: через Аляску, северные территории Канады, острова Исландию и Гренландию (Более конкретно разговор о таких планах пойдет дальше. Здесь же в качестве доказательства можно вспомнить, что писал генерал Остроумов о сталинской задаче по созданию 100 дивизий фронтовых бомбардировщиков: "География поиска мест базирования авиадивизий расширялась с каждым днем. Все чаще оперативные группы специалистов вылетали в районы будущего базирования, в том числе и на северное побережье, Чукотку, Камчатку. Цель – изучение возможностей размещения авиации, подготовки ледовых и стационарных аэродромов, создания надежных баз").
А по поводу отношения сталинского правительства к международным конвенциям можно привести и конкретные документы (из подборки Н. Лебедевой "КАТЫНСКИЕ ГОЛОСА", журнал "НОВЫЙ МИР", No 2, 1991, стр. 213):
ЗАЯВЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ – ВОЕННОПЛЕННЫХ СТАРОБЕЛЬСКОГО ЛАГЕРЯ
БЕРИЯ И ВОРОШИЛОВУ
Гражданину комиссару внутренних дел СССР
Врачи и фармацевты польской армии, сосредоточенные в лагере для военнопленных в Старобельске Ворошиловградской области в числе 130 человек (104 врачей и 26 фармацевтов) позволяют себе заявить Вам, гражданин комиссар, следующее:
Все врачи и фармацевты были застигнуты советскими войсками при исполнении своих врачебных обязанностей, будь то в госпиталях, будь то в войсковых частях. На основании международной Женевской конвенции, регулирующей права врачей и фармацевтов во время военных действий, просим Вас, гражданин комиссар, или отослать нас в одно из нейтральных государств (Соед. Штаты Сев. Америки, Швеция), или отослать нас по местам нашего постоянного места жительства.
Старобельск, 30 октября 1939 г. ... (ЦГОА [Центральный государственный особый архив СССР] СССР, фонд 1, В/П, опись 1а, д. 1 (Особое дело), лист 173-174. Машинопись). [Аналогичное письмо было отправлено и маршалу Ворошилову].
К этому документу в статье есть примечание:
.... Начальник Старобельского лагеря капитан госбезопасности А. Г. Бережков 4 ноября обратился к Сопруненко [начальник Управления НКВД СССР по делам о военнопленных, майор] с просьбой выслать ему один экземпляр Женевской конвенции "для ознакомления и руководства в нашей практической работе". Ему ответили: "Женевская конвенция врачей не является документом, которым Вы должны руководствоваться в практической работе. Руководствуйтесь в работе директивами Управления НКВД по делам о военнопленных". (ЦГОА СССР, ф. 1 В/П, оп. 2е, д. 10, л. 5, 73).
Кстати, о международных правилах вспоминали не только врачи и фармацевты. А по международным законам проблем с бывшими военнослужащими Польши у СССР в 1939 г. вообще не должно было быть. Н. Лебедева, предваряя подборку документов, пишет (стр. 208):
... Около 130 тысяч [польских военнослужащих] были задержаны как военнопленные частями РККА и оперативными отрядами НКВД. И это несмотря на то, что СССР не объявлял войны Польше. В соответствии с международным правом, единственная цель плена – воспрепятствовать военнослужащим вражеской армии их дальнейшему участию в боевых действиях. Но к началу октября (1939 г.) [военные] операции закончились. Таким образом, для пленения польских солдат и офицеров не было юридических оснований. Незаконным являлось и интернирование... Попранием международных норм явилась и передача военнопленных из-под опеки армии органам НКВД [в рамках которых было создано 8 лагерей распределителей на 10 тыс. человек каждый. Судьба задержанных оказалась разной, в т.ч. в апреле – мае 1940 г. были расстреляны 15 131 человек или, по другим данным, – 21 857].
А каково было отношение Сталина к гражданам своей страны? Об этом следующая глава.
10. ГДЕ ТАК ВОЛЬНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК...
Советские средства массовой информации активно пытались внедрить мысль, что советский строй – самый гуманный в мире. Об этом создавались песни, кинофильмы, книги, об этом писали в газетах и т.д.
Однако со временем правда о терроре во время сталинского правления постепенно пробивала дорогу к людям. Но большинство материалов было посвящено событиям тридцатых годов, особенно выделяя предвоенный период. На послевоенные годы обычно обращалось меньше внимания. Даже в двухтомной книге Роберта Конквеста "БОЛЬШОЙ ТЕРРОР" (Рига, "Ракстниекс", 1991) периоду после 1945 года отведена только одна небольшая глава ("На старые рельсы").
Причем, практически во всех исследованиях на вопрос о причинах такого отношения руководства страны к собственному народу обычно отвечают стремлением Сталина добиться беспрекословного подчинения всех единой (его) воле. А также для ликвидации любых, даже самых маленьких, проявлений оппозиции. На этом даже построил многие сюжетные события английский писатель Джорж Оруэл в своем известном романе "1984" (написанном, кстати, в 1948 году; т.е. после войны!). В этом же романе используется другая тема сталинского периода – война (вспомним лозунг из него: "Война – это мир!"). Однако, в романе они явно не переплетаются.
А так как задачи подчинения всех единой воле и ликвидации оппозиции были решены в 30-е годы, то террор после 1945 года обычно рассматривается как простое продолжение "обычной" внутренней диктаторской политики. И на его связь с подготовкой войны особое внимание не обращается.
Но так ли уж они не имеют между собой связи? Подумаем, можно ли готовить очаги напряженности и вести войны на протяжении многих лет при мирном режиме работы своей промышленности и мирном отношении к своему населению? Или наоборот: так ли уж необходимо осуществлять террор против своих при совершенно миролюбивом отношении к соседним государствам и без какой-либо военной подготовки?
Всем известно, что в современных условиях невозможно успешно (победоносно) вести войну без большой предварительной подготовки. В довоенные годы теоретики Красной Армии отрабатывали перечень необходимых мероприятий, которые нужно выполнить в мирное время (так называемая "скрытая мобилизация"). Но она является очень сложным и дорогостоящим занятием. Нет смысла затевать ее просто так. Если руководство какой-то страны пошло на это, то значит, что оно совершенно в здравом уме планирует в будущем и войну "горячую".
Если более подробно рассмотреть действительную последовательность событий в экономике СССР накануне и во время войны, то окажется, что ужесточение условий труда началось не ПОСЛЕ нападения гитлеровских войск, а ДО НЕГО! И успешно сделать это нельзя было без предварительно начатого террора. Кстати, в Германии также широко применялись элементы террора во внутренней политике. И они тоже начинались до последовавшей милитаризации и агрессий против соседних государств.
Таким образом, политика террора против своих может служить индикатором действительных намерений руководства конкретной страны во внешней политике. Внутри Советского Союза к использованию элементов террора сталинское руководство все чаще обращалось с конца 20-х годов. Но особенно этот процесс стал набирать обороты с 1935 года, после убийства Кирова в декабре 1934 и выхода постановления ВЦИК СССР, разрешавшего ускоренное рассмотрение уголовных дел с отменой возможности защиты и опротестования приговоров. Это оказалось в непосредственной близости к началу большой войны, как по плану Сталина (6.07.1941), так и по фактическому началу (22.06.1941). Причем, во время войны террор против "вольных" граждан СССР уменьшился, была даже формально отменена смертная казнь. Но после 1945 года от террора против своих не отказались! Вспомним название главы из книги Роберта Конквеста – "На старые рельсы"! А окончательно массовый террор внутри СССР был прекращен лишь после 1953 года!
Конечно, такое отношение к своим внутри Советского Союза с конца 20-х и до начала 50-х годов справедливо связывают с личностью Сталина. Об этом много говорил Н. Хрущев еще на 20-м съезде КПСС. Но осталась невыясненной истинная причина, из-за которой Сталин пошел на такие действия. Иногда это объясняют его "кровожадностью" или тем, что он был умственно больным, "параноиком". Правда, лично я долгое время не находил серьезного обоснования "ненормальности" Сталина, а встречал только упоминание этой мысли. И почему-то был уверен, что сталинской "истории болезни" не может быть вообще. Но вдруг нахожу именно ее, причем в одном из самых массовых изданий – тираж именно этой работы оказался свыше 2 млн. экз. Речь идет об уже цитировавшемся ранее романе Владимира Успенского "ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОЖДЯ", изданном "народным журналом" "РОМАН-ГАЗЕТА" (No 8-9, 1992). В нем автор словами главного героя книги совершенно серьезно и подробно объясняет, чем болел великий диктатор (стр. 7 8):
За многие годы я и практически, и теоретически изучил его болезнь, ее симптомы и течение. У разных людей она проявляется по-разному. Медики знают по крайней мере три варианта. Один из них, наиболее тяжелый, когда болезнь непрерывна и беспросветна. Это – устойчивая шизофрения. Второй: приступы более-менее периодичны, во всяком случае их можно предвидеть, иногда даже купировать. И, наконец, самый распространенный вариант: болезнь протекает слабо, скрытно, человек ничем не отличается от здоровых людей, забывает, а то даже и не знает о том кресте, который несет. Приступы или "всплески", как их называют специалисты, случаются очень редко, под влиянием чрезвычайных душевных потрясений. У Иосифа Виссарионовича как раз и было нечто подобное.
Какие проявления? ... Скованность движений, речи. Беспричинные вроде бы вспышки грубости, жестокости. Или, наоборот, чрезмерное умиление. Скорые, невзвешенные решения, распоряжения, как говорится, – "под настроение". Общаться с больными в период паранойяльного расстройства очень трудно... Надо оберегать подобных людей, которых в общем-то много: пусть верят в нас, в нашу заботу о них – это весьма способствует выздоровлению. При так называемой "амбулаторной шизофрении" они не нуждаются в госпитализации. Выражаясь научно, "негативные симптомы склонны к компенсации".
И далее автор явно называет Сталина "незаконченным" шизофреником". Но длинные рассуждения о его болезни понадобилось В. Успенскому не в связи с трагическими событиями в СССР с конца 20-х годов, а для оправдания действий Сталина в конце июня 1941 г., когда он на некоторое время отстранился от дел.
Действительно, в тяжелый момент вражеского нашествия уход с работы самого первого руководителя, "привязавшего" к себе всю пирамиду власти, грозил тяжелыми последствиями. Но Сталин отошел от дел ненадолго, по мнению В. Успенского – на период лечения от возникшего приступа по причине "обрушившихся непредвиденных событий". Но выше уже рассматривалось, насколько "непредвиденным" было нападение гитлеровского Вермахта. Это во-первых, а во-вторых, пока врачебная комиссия не признает человека психически больным (что приводит к юридическому статусу "недееспособности"), до тех пор человек считается нормальным и юридически ответственным за свои поступки. И как бы некоторые авторы не пытались обсудить проблемы болезни Сталина, официально он не был признан больным, не был лишен статуса "дееспособности", т.е. он несет ответственность за свои решения. Кроме того, Сталин много лет общался с революционерами еще с дореволюционного времени, поэтому некоторые его качества (к которым должны относиться и проблемы со здоровьем) должны были быть известны давно. Например, Роберт Конквест в первом томе книги "БОЛЬШОЙ ТЕРРОР" (стр. 192) приводит следующее мнение "одного из оппозиционеров" о Рыкове :
"Два десятилетия находиться со Сталиным в нелегальной партии, в решающие дни проводить вместе с ним революцию, десять лет заседать после революции за одним столом в Политбюро и после этого не знать Сталина, – это уж действительно предел!".
С одной стороны, его знали многие. Но как оказалось, никто не знал его очень хорошо. А как показывает предлагаемое исследование, в достижении некоторых целей Сталин был вполне логичным и упорным, можно сказать, даже гениальным. Но он был очень скрытным и потому никаких "тайных советников, отлично знавших его" не могло быть в природе.
Но обратив внимание на личные качества Сталина, полезно познакомиться не с его хроническими болезнями, а с чертами характера. Например, Роберт Конквест в книге "БОЛЬШОЙ ТЕРРОР" характеру Сталина посвятил отдельную (третью) главу ("ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ"), в которой ни слова не сказано о его болезнях, зато на основе воспоминаний многих соратников делается вывод, что Сталин имел отличную память, сильную волю, доходящую до крайности, грубоватое чувство юмора, был невероятно скрытен, никогда не рассказывал, что у него на уме, особенно в отношении политических целей. Воля, скрытность и хорошая память дополнялись хорошей выдержкой. В сочетании с опытом политической работы и умением разбираться в людях (можно сказать, на уровне инстинктов), позволили Сталину стать непревзойденным игроком в политических маневрах (в т.ч. и интригах). Он никогда не предпринимал непоправимых шагов до тех пор, пока не был совершенно уверен в их успехе. Но уверенность могла становиться причиной его сильнейшего упорства, граничившего с упрямством. А невероятная терпеливость и спокойствие могли прерываться резкими проявлениями недовольства и даже ярости. Однако, такой характер вполне типичен для игроков, ведущих крупные рискованные игры и не обязательно присущ только психическим больным, хотя у него можно отметить и одну своего рода "хроническую болезнь" – низкий рост (около 160 см). А из самых важных его пристрастий очень выделяется жажда власти.
Волею судьбы оказавшись среди высшего руководства великой страны, он добился самой высшей фактической должности и приложил огромные усилия для укрепления своей власти. Но только личными качествами одного человека массовый террор в СССР в 20-е – 50-е годы не объяснить. У русских царей тоже хватало огромной власти, но почти никто из них не увлекался беспричинными массовыми убийствами собственных подданных с широкомасштабным одурачиванием. Но можно заметить, что у русских царей власть была наследственной, ее не надо было постоянно отстаивать в борьбе с соратниками. А отсюда и может возникнуть необходимость атмосферы террора. Но и это предположение всего не объясняет. Во-первых, для сохранения личной власти можно ограничиться крайними мерами только в определенном кругу заинтересованных лиц. Сталин же не только организовал террор в масштабе всей страны, но был вдохновителем и всей ее экономической и внешней политики. Поэтому причины сталинского террора нельзя искать только в личных качествах или болезнях его вдохновителя. Даже Роберт Конквест, создавший монументальный труд о сталинском терроре, не может определить, каковы же были истинные мотивы Сталина. Но в главе о его характере он приводит интересный факт из жизни бывшего советского специалиста по ракетному делу профессора Токаева, с конца сороковых годов жившего на Западе.
В своей книге ("STALIN MEANS WAR" ("СТАЛИН ГОТОВИТ ВОЙНУ"), Лондон, 1951, стр. 115) Токаев, по словам Р. Конквеста, "вспоминает о нескольких совещаниях высшего советского руководства в связи с проектами межконтинентальных ракет. Он приводит слова Сталина о том, что рассматриваемый проект позволит "легче разговаривать с великим лавочником Гарри Трумэном и поприжать его в меру необходимости". После этого, по словам Токаева, Сталин повернулся к нему и сделал "любопытное замечание": "Как видите, мы живем в сумасшедшее время". Ни о ком другом из советских руководителей не известно, чтобы он в личном разговоре выражал что-либо, кроме прямого и циничного желания сокрушить Запад..."
Странно, но почему-то ни один из официальных историков не видит взаимосвязи террора 30-х – 50-х годов и желанием Сталина "сокрушить Запад". Чаще выдвигается мысль о необходимости дешевой рабочей силы. Вот например, цитата из статьи "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 1923-1953 ГГ. (ИСТОЧНИКИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)" (канд. историч. наук В. Попов, журнал "ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ", No 2, 1992, стр. 20-31):
Против кого направляло свой массовый террор новое государство?... Во-первых – сравнительно невысокий процент преступников-рецидивистов (16,6 % до войны и 9-13 % в послевоенные годы) говорит об отсутствии "криминальных наклонностей" народа и отражает бесперебойную работу репрессирующего конвейера, постоянно пополняющего лагеря новой рабочей силой. И это было главным... В-третьих – мобилизация на фронт мужчин обрекали женщин на тяжелый физический труд. Доля женщин среди осужденных после завершения победоносной войны удваивается (с 17,2 % до 39,5 – 31,1 %).
Но ведь вся история человечества показала неэффективность рабского труда (или тех же заключенных)! Тем более, женского и тем более, что даты в самом заголовке цитируемой статьи показывают, что этот довод (дешевой рабочей силы) после 1953 г. как-то перестал быть важным. С другой стороны вспомним, что любая война предполагает ухудшение уровня основной массы граждан. И наоборот, чем выше уровень благосостояния и соблюдения прав человека, тем меньше согласие населения расстаться с ними, особенно уменьшается готовность погибать. Но чем выше технический уровень вооружений, тем все больше будет уничтожаться войск. А в ядерной войне потери вообще исчисляются миллионами. Таким образом, резкое падение жизненного уровня может повлечь за собой волнения в обществе. А чтобы их избежать, надо заранее проводить соответствующую подготовку.
Кроме того, сама "скрытая мобилизация" приводит к ухудшению благосостояния и к нарушениям прав человека: это и увеличение продолжительности рабочего времени, и всякие ограничения на существование невоенных структур (музыка, культура, высшее образование, высокое развитие медицинского обслуживания, особенно на селе) и т.д.
В этих условиях террор против своих становится одним из главных элементов "скрытой мобилизации". С его помощью решается сразу несколько задач. Он позволяет:
– принудить людей переносить любые страдания;
– принудить людей работать там, где укажут и делать то, что укажут;
– обеспечить согласие людей работать за низкую зарплату (на "воле") или вообще бесплатно (в лагерях);
– обеспечить рабочими руками важные военные стройки и производства (особенно, за счет бесплатных заключенных);
– добиться достаточного качества работ (по крайней мере, на военном производстве);
– обеспечить готовность людей погибать на "свободном" фронте, и что особенно важно – в случае НАСТУПАТЕЛЬНОЙ войны на ЧУЖОЙ территории! Свою землю нормальные люди обычно защищают без принуждения. Оно может потребоваться для боев ЗА ГРАНИЦЕЙ!
Соответственно, можно меньше уделять внимания благосостоянию людей (все равно многие из них погибнут из-за разных обстоятельств). И наоборот, можно полностью нацелить экономику на подготовку войны.
А теперь немного отвлечемся от послевоенного времени и вспомним, что писал Виктор Суворов в книге "ДЕНЬ-М" об обстановке в экономике СССР перед войной 1941 года (в главе "О завоеваниях Октября"):
В 1939 году в колхозах ввели обязательные нормы выработки: колхоз – дело добровольное, но норму не выполнишь – посадим. 27 мая 1940 года грянуло постановление СНК "О повышении роли мастера на заводах тяжелого машиностроения"... Мастер на заводе наделялся правами никак не меньше, чем ротный старшина... 26 июня 1940 года прогремел над страной новый указ "О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений"... В тот же день – еще одно постановление СНК "О повышении норм выработки и снижении расценок"... Указы идут чередой. 10 августа 1940 года: "Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве" – лагерные сроки за отвертку, за унесенную в кармане гайку... Каждый указ 1940 года щедро сыпал сроки, особенно доставалось прогульщикам... Я много раз слышал дискуссии коммунистических профессоров; а не был ли Сталин параноиком? Вот, мол, и доказательства его душевной болезни налицо: коммунистов в тюрьмы сажал... Нет, товарищи коммунисты, не был Сталин параноиком. Великие посадки нужны для того, чтобы вслед за ними ввести указы 1940 года, и чтоб никто не пикнул. Указы 1940 года – это окончательный перевод экономики страны на режим военного времени. Это мобилизация. Трудовое законодательство 1940 года было столь совершенным, что в ходе войны не пришлось его ни корректировать, ни дополнять...