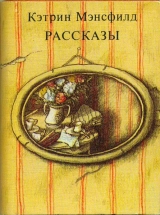
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Кэтрин Мэнсфилд
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
При этих словах грудь ее поднялась; от удовольствия она глубоко вздохнула, полузакрыв глаза.
Но не успела она открыть их, как ее улыбка погасла. О боже, опять она играет все в ту же старую игру. Фальшива, всегда фальшива. Фальшива, когда она пишет Нэн Ним. Фальшива даже сейчас, наедине с собою.
Что общего между нею и этой девицей в зеркале, и зачем она ее так пристально рассматривает? Берил опустилась на колени перед кроватью и закрыла лицо руками.
– Я так несчастна, – воскликнула она, – так ужасно несчастна! Я знаю – я глупая, я злая, я тщеславная и всегда что-нибудь из себя строю. И никогда, ни на секунду, не бываю сама собой. – И она ясно-ясно увидела фальшивую Берил: при гостях она носится вверх и вниз по лестнице, смеется особым, вибрирующим смехом; если в доме обедает мужчина, она нарочно стоит под лампой, чтобы он мог видеть, как свет играет на ее волосах; она1 капризничает и притворяется маленькой девочкой, когда ее просят сыграть на гитаре. Зачем? А она разыгрывает все это даже ради Стенли. Не далее как вчера вечером, когда он читал газету, она нарочно встала рядом с ним и оперлась на его плечо. Разве, показывая ему что-то, она не положила свою руку на его, чтобы он видел, как бела ее ручка по сравнению с его загорелой рукой?
Как омерзительно! Омерзительно! Ее сердце похолодело от ярости. «Удивительно, как это тебе удается», – сказала она своему фальшивому «я». Но это все только потому, что она так несчастна, так несчастна. Если бы она была счастлива и жила своей собственной жизнью, ее притворство кончилось бы само собой. Она видела настоящую Берил – тень… тень. Она светилась слабым, почти неразличимым светом. И что было в ней, кроме этого сияния? И в какие считанные мгновения она бывала сама собой? Берил, пожалуй, могла бы припомнить каждое из них. В эти мгновенья она чувствовала: «Жизнь богата, таинственна и прекрасна, и я тоже богата, таинственна и прекрасна. Буду ли я когда-нибудь такой Берил? Буду ли я? Как мне стать такой? И было ли время, когда во мне не существовало фальшивого „я“?..» Но как раз в эту минуту она услышала топот маленьких ножек, бегущих по коридору. Стукнула дверная ручка. Вошла Кези.
– Тетя Берил, мама говорит, не сойдешь ли ты вниз, пожалуйста? Приехал папа с каким-то чужим мужчиной, и завтрак готов.
Вот тебе и на! Она так измяла юбку, стоя, как идиотка, на коленях!
– Хорошо, Кези. – Берил бросилась к туалету и напудрила нос.
Кези тоже подошла к туалету и, сняв крышку с баночки от крема, понюхала. Под мышкой она держала очень грязную матерчатую кошку.
Как только тетя Берил вылетела из комнаты, Кези посадила кошку на туалетный столик и надела ей на ухо крышку от баночки.
– Полюбуйся-ка на себя, – сказала она строго.
Кошка была так ошеломлена собственным видом, что перекувырнулась и шлепнулась на пол. Крышка мелькнула в воздухе, упала, покатилась, как монетка, по линолеуму– и не разбилась.
Но для Кези она разбилась в тот момент, когда мелькнула в воздухе. Вся похолодев, Кези подняла ее и положила назад, на туалетный столик.
Потом она на цыпочках выскользнула из комнаты и пошла прочь – слишком быстро и беспечно, пожалуй.
Комментарии
Je ne parle pas Français
=Я не говорю по-французски (фр.)
Перевод Л. Володарской
Не знаю почему, но я люблю это маленькое кафе, пусть в нем грязно и всегда грустно-грустно. И оно ничем не отличается от сотни других кафе… ничем, и интересных типов, которых можно наблюдать из уголка и хуже ли, лучше ли (скорее, хуже) учиться понимать, здесь тоже не бывает.
Однако, боже упаси, не подумайте, что скобки – это признание моего смирения перед великой загадкой человеческой души. Отнюдь, я не верю в человеческую душу. И никогда не верил. По-моему, люди похожи на чемоданы: их набивают всякой всячиной, везут, бросают, кидают, швыряют один на другой, теряют, находят, вдруг наполовину опустошают, потом опять набивают до отказа, пока в конце концов Последний Носильщик не запихнет их в Последний Поезд – и они помчатся неведомо куда…
И все-таки порой эти чемоданы привлекают меня. Еще как привлекают! Я воображаю, что стою перед ними, представьте себе, в форме таможенника:
– Что у вас? Вино, виски, сигары, духи, шелк?
Несколько мгновений, перед тем как поставить мелом галку, я медлю – дурачат или не дурачат меня, а потом не могу избавиться от сомнений: наверное, все-таки одурачили, и эти мгновения, до и после, кажутся мне самыми волнующими в моей жизни. Да, так оно и есть.
Однако, затевая это длинное, отчасти притянутое за уши и не так чтоб уж очень оригинальное отступление, я всего-то хотел вас предупредить, что в моем кафе нет никаких чемоданов, ибо дамы и господа, посещающие его, не из тех, что сидят за столиками. Портовые рабочие, обсыпанные то ли мукой, то ли известкой, то ли еще чем-то, да пара-тройка солдат в сопровождении худых черноволосых девиц с серебряными сережками и рыночными корзинами предпочитают толпиться у стойки.
Мадам тоже худая и черноволосая, но руки и лицо у нее белые. Когда же она каким-то особенным образом поворачивается к свету, происходит чудо – и мадам уже не мадам, а призрачное сияние, укутанное в черную шаль. Если не надо прислуживать посетителям, мадам садится к окну и смотрит на улицу. Ее глаза в черных провалах словно выслеживают или выискивают кого-то среди прохожих, которых на самом деле она не замечает. Может, лет пятнадцать назад она действительно следила и искала, но сейчас от этого осталась лишь привычка сидеть лицом к окну. Во всем ее облике усталость и безысходность: ясно, что уже лет десять как она потеряла всякую надежду…
Есть здесь и официант. Он не жалок и тем более не комичен. От него не услышишь тех бессмыслиц, которые считаются забавными, потому что исходят от официанта (как будто бедняга не человек, а помесь кофейника с винной бутылкой). Седой, тощий, косолапый, он длинными, ломкими ногтями соскребывает со стола ваши два су, едва не доводя вас до нервного припадка. Если он не размазывает по столу грязь и не стряхивает на пол дохлых мух, то стоит неподвижно, в нелепом фартуке, одной рукой держась за спинку стула, а на другую повесив грязную салфетку, словно ждет, что вот-вот прибегут газетчики с фотоаппаратами, привлеченные сенсационным убийством. «Кафе, в котором обнаружен труп». Да вы и сами десятки раз видели нечто подобное.
Вы верите, что любое место оживает в определенный час дня? Хотя это не совсем так. Да. В один прекрасный момент вы неожиданно понимаете, что совершенно случайно оказались на сцене, когда вас ждали. Вы в центре всеобщего внимания… хозяин положения! Есть от чего заважничать. Но вас не покидает ехидная улыбка, хотя вы и прячете ее от чужих глаз, потому что Жизнь никогда не делала вам подарков, даже, кажется, припрятывала их от вас, убирала подальше, старалась продержать вас за кулисами, пока не станет слишком поздно… Всего один раз, но старая ведьма подчинилась вам.
Со мной это случилось, когда я впервые пришел в мое кафе. Наверное, поэтому я до сих пор хожу сюда, чтобы еще и еще раз подняться на сцену моего триумфа или преступления, на которой я однажды крепко держал старую суку за горло и делал с ней что хотел.
Вопрос: Почему я так озлоблен на Жизнь? Почему она представляется мне бродяжкой из американского кино в вонючей шали и с клюкой в скрюченных пальцах?
Ответ: Непосредственный результат воздействия американского кинематографа на слабый ум.
Как бы то ни было, «короткий зимний день тащился к концу», а меня все еще несло по улицам – домой, не домой, – и вдруг я очутился в этом самом кафе, на этом самом месте в углу.
Позади меня в стене торчал гвоздь, я повесил на него свое пальто английского покроя и серую фетровую шляпу и, прождав ровно столько, чтобы официанта успели запечатлеть на фотопленку раз двадцать, не меньше, заказал кофе.
Он налил в стакан знакомую жидкость с фиолетовым отливом, на поверхности которой играл непоседливый зеленый луч, и поплелся обратно, а я сидел и грел о стакан руки, потому что на улице было чертовски холодно.
Вдруг я понял, что, сам того не желая, улыбаюсь. Тогда я медленно поднял голову и поглядел в зеркало напротив. Нет, это я согнулся над столом, моя ехидная улыбочка, мой стакан кофе с султаном из пара и рядом белый кружок – блюдце с двумя кусками сахара.
У меня глаза полезли на лоб. Целая вечность позади, и вот, наконец, жизнь совсем близко…
В кафе было очень тихо. За незанавешенными окнами шел снег. Белые расплывчатые контуры лошадей, телег, людей проплывали мимо в пухово-перьевом тумане. Официант вышел и вернулся с охапкой соломы, которую смиренно и в то же время чуть не восторженно начал раскидывать по полу, от двери до стойки, вокруг печки. Если бы сейчас открылась дверь и на пороге появилась дева Мария на осле с кротко сложенными на большом животе руками, вряд ли кто-нибудь удивился…
Неплохо, правда, получилось о деве? Непринужденно и с настроением – настоящий завершающий каданс. Я сразу об этом подумал и решил записать на будущее. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Стараясь делать поменьше движений из боязни спугнуть вдохновение (вам это знакомо?), я потянулся к соседнему столику за бюваром.
Конечно же, ни бумаги, ни конвертов. Клочок розовой промокашки, и больше ничего, – мягонький, тоненький и чуть-чуть влажный, как язычок мертвого котенка, хотя, честно говоря, мне не приходилось его трогать.
Я сидел… сидел и ждал, будто наматывая на палец язычок котенка, а на ум– нежную фразу, но на самом деле шаря глазами по бумажке с именами девиц, грязными шутками, изображениями бутылок и чашек, сбежавших из блюдец в бювар.
Все, как обычно. Одни и те же имена, чашки без блюдец, сердца, проткнутые стрелами и украшенные бантиками.
И вдруг в конце странички нелепая фраза, написанная зелеными чернилами: «Je nе parle pas français».
Вот! это оно… мое мгновение… geste![23]23
Жест (фр.)
[Закрыть] Я был готов к нему, но оно поймало меня, обрушилось всей тяжестью, не дало ни секунды опомниться. Физическое ощущение было и необычным и любопытным. Как будто все тело, скрытое столом, растворилось, растаяло, просто превратилось в воду.
Уцелели лишь голова и руки до локтей. Боль была невыносимой! Описать ее невозможно! Я не мог думать. Не мог даже крикнуть, хотя бы беззвучно. Меня вроде бы и не было. Осталась одна Боль, Боль, Боль.
Потом все прошло, и уже через минуту я думал: «Боже мой! Неужели же я способен так сильно чувствовать? Я словно обезумел! Забыл все слова! Так потрясен! Так сбит с толку! Ничего не записал!»
Я долго не мог прийти в себя, пока, наконец, спасительная мысль не пришла мне в голову: «Значит, во мне что-то есть. Заурядность не может чувствовать так сильно и… ясно».
Официант сунул бумажный жгут в раскаленную печку и зажег газовый пузырь под большим абажуром. Бесполезно смотреть в окно, мадам, уже совсем стемнело. Белые руки беспокойно бегают по черной шали, похожие на двух птиц. Они возвратились домой и не находят себе места… Наконец вы пускаете их в маленькие теплые подмышки.
Официант взял длинную палку и зашторил окна. Что бы сказали дети? – «Все ушли».
Кстати, терпеть не могу иметь дело с людьми, которые за все цепляются, ни от чего не желают отказываться да еще и жалуются. Что ушло, то ушло. Чему быть, того не миновать. Ушло, и ладно. Забудьте и, если вам требуется утешение, утешьтесь тем, что ни одна вещь не вернется к вам в точности такой, какой была. Она будет другой. Едва покинув вас, она меняется. Да-да, и шляпа тоже, за которой вы сейчас бежите… Я говорю это не просто так. Я знаю, что говорю… Поэтому я взял себе за правило ни о чем не жалеть и ни о чем не вспоминать. Жалеть – значит напрасно растрачивать свои силы, и человек, желающий стать писателем, не может себе этого позволить. Из сожаления ничего не вылепишь, на нем ничего не построишь, зато оно быстренько затянет вас в свое болото. Воспоминания точно так же смертельны для Искусства. Оглядываясь назад, вы обедняете себя, а Искусство не терпит нищеты.
Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Пока я писал эту страницу, мое второе «я» металось по темной улице. Оно умчалось, едва я принялся анализировать мое великое мгновение, бросилось прочь со всех ног, как собака, почуявшая знакомый след.
«Мышка! Мышка! Где ты? Близко? Далеко? Это ты высунулась из окна и закрываешь ставни? Это ты нежным комочком летишь в пушистом снегу? Ты – юная девушка, которая проходит сейчас сквозь крутящиеся двери ресторана? Твоя тень мелькнула в кебе? Где ты? Где же? Куда мне свернуть? Какой дорогой бежать? Не знаю. А ты с каждым мгновением все дальше и дальше. Мышка! Мышка!»
Бедная собака, измученная, с поджатым хвостом, вернулась в кафе.
– Ложная… тревога. Ее… нигде… нет.
– Что ж. Лежать! Лежать! Лежать!
Я – Рауль Дюкетт. Мне двадцать шесть лет, и я парижанин, парижанин до мозга костей. Моя семья… впрочем, это неважно. У меня нет семьи, потому что мне она не нужна. О детстве я не вспоминаю. Забыл, и все.
Правда, есть исключение, оно довольно интересно и даже важно для меня как для писателя. Вот оно.
Мне было лет десять, когда прачкой у нас служила негритянка, большая, черная, с курчавыми волосами, стянутыми клетчатым платком. Она приходила к нам, и я тотчас оказывался в центре ее внимания; а когда она управлялась с делами, то сажала меня в пустую бельевую корзину и так раскачивала ее, что я крепко хватался за ручки и визжал от страха и удовольствия. Мои сверстники были выше и сильнее меня, но стоило мне слегка раздвинуть губки, и я становился очарователен… право слово.
Как-то раз я стоял возле двери и глядел ей вслед, как вдруг она обернулась и стала подзывать меня, кивая головой и странно, непонятно улыбаясь. И я пошел за ней в маленький флигель на краю улицы. Там она подняла меня, притиснула к себе и принялась целовать. Что это были за поцелуи! Особенно в уши! После них я долго почти ничего не слышал. Потом она поставила меня на пол, вынула из кармана круглую поджаренную лепешку, посыпанную сахаром, и я, шатаясь, побрел домой.
Поскольку это представление повторялось каждую неделю, неудивительно, что я все так живо помню. Кроме того, в первый же день она, выражаясь красиво, «выцеловала» мое детство. Я сделался малоподвижным, охочим до ласк и жадным сверх всякой меры. Но вместе с тем таким сообразительным и проницательным, что, казалось, для меня нет тайн и я могу вертеть окружающими меня людьми, как мне заблагорассудится.
Вероятно, тогда я находился в состоянии довольно сильного физического возбуждения, которое не могло не влиять на других. Ибо все парижане больше чем наполовину… ладно, не стоит. И о моем детстве тоже не стоит. Похороним его под бельевой корзиной вместо венков из роз и passons outre[24]24
Перейдем к другому (фр.)
[Закрыть]. Я считаю, что моя жизнь началась в тот день, когда я арендовал холостяцкую квартирку на шестом этаже большого и не очень обшарпанного дома на улице в одинаковой мере приличной и неприличной. Хорошо, что… Здесь я созрел, вышел на свет, выставил рога – кабинет и спальню, укрепил тыл в виде кухни. Здесь у меня появилась настоящая мебель. В спальне – шкаф с большим зеркалом, широкая кровать под кокетливым желтым покрывалом, тумбочка с мраморной доской и туалетный прибор, весь в крошечных яблочках. В кабинете – английский письменный стол с выдвижными ящиками, рабочее кресло с кожаными подушками, книги, кресло для отдыха, рядом столик с лампой и бумажным ножом и несколько «ню» на стенах. Кухней я не пользовался, разве швырял туда старые газеты.
Как сейчас помню первый вечер; рабочие, таскавшие мебель, и даже противная старуха-консьержка уже ушли, я один, на цыпочках прошелся по комнатам, что-то переставил по пути, остановился против зеркала, засунул руки в карманы и начал внушать своему сияющему отражению следующее: «Я молод, у меня есть квартира. Я работаю в двух газетах, однако намерен всерьез заняться литературой. Моя карьера только начинается. Книга, которую я создам, потрясет критиков. Я буду писать о том, о чем еще никто не писал. Я сделаю себе имя, показав невидимый мир. И покажу его совсем по– другому. То, что есть, мне не годится. Нет! У меня должны быть наивность и мягкий юмор, я буду писать словно изнутри, словно все донельзя просто и естественно. Мне мой путь ясен. Я буду делать то, чего еще никто не делал, потому что мой жизненный опыт– это мой жизненный опыт. Я богат… богат».
Надо сказать, что денег у меня в то время было не больше, чем теперь. Но и без денег можно неплохо жить… У меня куча хорошей одежды, шелкового белья, два вечерних костюма, четыре пары лакированных туфель и уйма мелочей: перчатки, пудра, маникюрные наборы, духи, первоклассное мыло – и все бесплатно. Если же мне нужны наличные… что ж, для этого всегда есть африканка во флигеле, а я неизменно честен и bon enfant[25]25
Хороший мальчик (фр.)
[Закрыть], когда дело доходит до густо посыпанной сахаром круглой лепешки напоследок…
А теперь мне хотелось бы кое-что уточнить. И не из тщеславия, просто до сих пор меня это немного удивляет. Я никогда не делал первого шага в отношениях с женщинами. Однако это не значит, что мне знаком лишь один сорт женщин… вовсе нет. Дешевые проститутки, содержанки, пожилые вдовы, продавщицы, жены респектабельных мужей и даже сверхсовременные литературные дамы, которых можно встретить на обедах и soirées [26]26
Вечерние приемы (фр.)
[Закрыть] для избранной публики (я тоже там бывал), были одинаково готовы на все и сами, не стесняясь, предлагали себя. Поначалу мое изумление не знало границ. Я глядел на женщину, сидевшую против меня за столом, и не верил: «Неужели эта высокомерная молодая дама, обсуждающая le Kipling [27]27
Писатель Дж. Р. Киплинг (1865–1936), лауреат Нобелевской премии (1907)
[Закрыть] c бородатым господином, нарочно не снимает туфельки с моего ботинка?» Не верил, пока не предпринимал ответного действия.
Любопытно, правда? К тому же мне далеко до девичьего идеала…
Я маленького роста, совсем немужественного сложения, кожа у меня оливкового цвета, глаза черные, с длинными ресницами, волосы тоже черные, короткие и мягкие, зубы мелкие и квадратные, я всегда их показываю, когда улыбаюсь. Еще у меня маленькие проворные руки. Как-то в булочной продавщица сказала мне: «Вашими руками только пирожные делать». Признаюсь, однако, что, сняв одежду, становлюсь более привлекательным. Девическая нежность, гладкие плечи. На левой руке повыше локтя я всегда ношу тонкий золотой браслет.
Постойте! Вам не странно, что я так расписался о себе, о своем теле?.. Это потому, что мне не нравится моя жизнь, никому не видимая жизнь. Я – это та бедняжка в кафе, которая рекламирует себя кучей фотографий: «Вот я в рубашке выхожу из яйца… А это на качелях вниз головой, видите, сколько оборок, похоже на капустные листья…» Да вы и сами понимаете.
Но вы ошиблись, если подумали, что это все неприличная чушь. Может, и так, но только на первый взгляд. Иначе разве я смог бы почувствовать то, что почувствовал, когда на клочке промокашки прочитал ничего не значащую фразу, написанную зелеными чернилами? Нет, я не совсем пустышка, верно? Будь моя боль чуточку легче или распиши я ее покрасивее… А то ведь нет! Она была настоящей.
– Официант, виски!
Ненавижу виски. Стоит ему попасть мне в рот, и в желудке начинается целое восстание, а здесь они держат какую-то особенную дрянь. Я заказал виски, потому что хочу рассказать об англичанине. Мы, французы, страшно старомодны, мы уже давно отстали от жизни. Как это я не заказал заодно твидовые бриджи, трубку, пару длинных зубов и бакенбарды цвета имбиря?
– Спасибо, mon vieux[28]28
Дружище (фр.)
[Закрыть]. Может, у вас есть и бакенбарды?
– Нет, мсье, – в его голосе грусть. – Мы не держим ничего американского.[29]29
Здесь диалог построен на игре слов: whiskers (бакенбарды) и whisky (виски), почти одинаково произносимых.
[Закрыть]
Он проводит тряпкой по краю стола и уходит на свое место, чтобы дать возможность желающим сделать еще дюжину– другую фотографий при искусственном освещении.
Ух! Ну и вонь! А уж дерет!
– Противно напиваться такой дрянью, – говорит Дик Хармон, поигрывая рюмкой и улыбаясь ленивой мечтательной улыбкой. Так, лениво и мечтательно, он продолжает напиваться, пока едва слышно не запевает о человеке, который бродит по городу в поисках обеда.
Я очень любил эту песню и любил слушать, как Дик поет ее, медленно-медленно, и его голос становится глуховатым и нежным:
Он бродил по улицам, бедняк,
Испытавший много бед,
Он искал, где ждет его обед…
Мне казалось, что эта печальная, тихая песня вобрала в себя высокие серые здания, туманы, бесконечно длинные улицы, четкие тени полицейских – словом, всю Англию.
Да и сюжет! Худое, изголодавшееся существо бредет по улицам, но все двери закрываются перед ним, потому что у него нет своего, дома. Как это поразительно по-английски… Помню, песня кончалась тем, что он все-таки заказывал себе где-то рыбную котлету и просил принести кусок хлеба, но официант презрительно кричал ему: «К одной котлете хлеб не полагается!»
Что еще надо? Сколько смысла в этих песенках! А здесь психология целого народа… как не по-французски… не по-французски!
– Еще, Дик, еще! – умолял я его, стискивая руки и умильно улыбаясь. А он бы и так пел и пел без конца.
Вот и Дик. Он сделал первый шаг к нашему сближению.
Мы встретились на вечеринке, устроенной издателем только что появившегося на свет обозрения. Они печатались для избранных и быстро становились модными. Среди приглашенных были дамы, в высшей степени comme il faut[30]30
Приличные (фр.)
[Закрыть], и несколько пожилых мужчин. Дамы в роскошных вечерних туалетах сидели на диванах, творениях кубистов, и милостиво принимали от нас, начинающих литераторов, наперстки с черри-бренди и комплименты. Помнится, все они были поэтессами.
Не заметить Дика было невозможно. Единственный среди нас англичанин, он, вместо того чтобы по возможности грациозно кружить по комнате, засунул руки в карманы и мечтательно улыбался, стоя возле стены, словно бы подпирая ее своим телом, при этом он с тихой ласковостью и на великолепном французском языке отвечал всем, кто подходил к нему с вопросами.
– Кто это?
– Англичанин из Лондона. Писатель. Изучает современную французскую литературу.
Это мне и надо было. Только что вышла в свет моя книжка «Фальшивые монеты». Чем не молодой серьезный писатель, изучающий современную английскую литературу?
Однако я даже не успел закинуть удочку, как он, слегка встряхнувшись, будто только что вылез из воды, сам заговорил со мной.
– Не будете ли вы столь любезны заглянуть ко мне в отель? Приходите часам к пяти, и мы успеем поговорить до обеда.
– К вашим услугам!
Я ощутил столь сильное волнение, что вынужден был немедленно покинуть его и некоторое время горделиво прохаживался перед кубистскими диванами. Вот так улов! Малообщительный, серьезный англичанин, изучающий современную французскую литературу…
В тот же вечер экземпляр «Фальшивых люнет» с тщательно продуманной дарственной надписью отправился на почту, а еще через пару дней мы вместе обедали и весь вечер провели в разговорах.
О чем мы только не говорили! Я ощутил большое облегчение, что не надо все время рассуждать о современном романе, о новой форме, о молодых писателях, пренебрегающих ею. Изредка я, будто случайно, подкидывал ему карту, которая вроде бы ничего общего не имела с игрой, желая увидеть его реакцию. Он брал ее в руки с неизменной мечтательностью во взгляде и улыбке. Даже вроде бы бормотал: «Очень любопытно», но так, что было ясно: ему это совсем не любопытно.
В конце концов я заметил его безразличие, и оно загипнотизировало меня, так что я скинул ему все карты до последней, а потом уселся поудобнее и стал наблюдать за ним: – Очень, очень любопытно…
Мы оба были уже изрядно пьяны, и он, не повышая голоса, с удивительной нежностью запел о человеке, который брел по улицам в поисках обеда.
Мысль о моей опрометчивости не давала мне покоя. Я сам, по собственной воле: посвятил чужого человека во все тайные закоулки моей жизни. Был откровенен и честен, как никогда. Изо всех сил постарался объяснить ему, каков я внутри, а ведь эта пакость еще никогда не вылезала наружу и не вылезла бы. Короче, я должен был показаться ему даже хуже, чем был на самом деле: более хвастливым, циничным и расчетливым.
Я ему доверился, а он сидит напротив, поет и улыбается… Слезы навернулись мне на глаза. Я видел, как они сверкают на длинных шелковистых ресницах… прелестно.
С того дня я везде водил с собой Дика, приглашал его к себе, и он лениво разваливался в кресле, поигрывая бумажным ножом. Не знаю почему, но его леность и отрешенность от всего как-то слились в моем воображении с морем. Ленивая медлительность казалась мне бессознательным подлаживанием к движению корабля. Я так проникся этой игрой, что, когда Дик внезапно покидал компанию, не обращая внимания на досаду своей спутницы, я вполне искренне объяснял ей: «Ничего не поделаешь, крошка. Он должен вернуться на корабль». И сам верил в это даже больше, чем она.
Все время, пока Дик был в Париже, он не встречался ни с одной женщиной. Иногда я подумывал, не хранит ли он невинность. Почему я не спросил его об этом? Потому что вообще ни о чем не спрашивал. Но один раз, это было поздно вечером, Дик достал бумажник, и из него выпала фотография. Я ее поднял и, прежде чем вернуть, взглянул на нее. Женщина. Немолодая. Темноволосая, красивая, темпераментная. Но в каждой черте ее лица угадывалась такая неистовая гордыня, что, не поторопись Дик взять у меня фотографию, я все равно постарался бы побыстрее от нее отделаться.
«Прочь с моих глаз, надушенный французский фокстерьерчик», – будто говорила она.
(Случаются такие ужасные моменты в моей жизни, когда мне самому мой нос кажется похожим на собачий.)
– Это моя мать, – сказал Дик, пряча бумажник.
Не будь его рядом, я бы непременно перекрестился, на всякий случай.
Расстались мы так. В ожидании консьержа мы стояли ночью возле отеля, как вдруг Дик поглядел на небо и сказал:
– Хорошо бы завтра была теплая погода. Утром я еду в Англию.
– Ты шутишь?
– Нет. Так надо. Я должен кое-что сделать, а здесь это невозможно.
– Значит… значит, ты уже собрался?
– Собрался? – Мне показалось, что он усмехнулся. – А что собирать?
– Но… enfin[31]31
В конце концов (фр.)
[Закрыть], Англия все же не на той стороне бульвара.
– Намного ли дальше? Всего несколько часов езды, как тебе известно.
Дверь со стуком отворилась.
– Жаль, ты не сказал раньше!
Мне было обидно. То же самое, наверное, испытывает женщина, когда мужчина, поглядев на часы, вспоминает о свидании, к которому она не имеет никакого отношения и перед которым бессильна. «Почему ты ничего не сказал?»
Он протянул мне руку, уже стоя на лестнице и слегка покачиваясь, словно отель был увозившим его пароходом, только что снявшимся с якоря.
– Я забыл. Честное слово. Но ты мне напишешь, правда? Спокойной ночи, старик. Скоро увидимся.
Я остался на берегу один, больше, чем когда-либо, напоминая себе маленького фокстерьера…
«Все-таки ты свистнул мне! Ты позвал меня! А я чего только ни выделывал: хвостом вилял, прыгал вокруг тебя – и все для того, чтобы ты бросил меня и уплыл, на своем пароходе, медленно и мечтательно прокладывающем путь… Черт бы побрал англичан! Нет, это слишком. За кого же вы меня принимали? За дешевого гида по ночным достопримечательностям Парижа?.. Ну нет, мсье. Я – молодой серьезный писатель, изучающий современную английскую литературу. А вы меня оскорбили… да, оскорбили».


Через два дня я получил от Дика милое пространное письмо, написанное по-французски, чуточку слишком по-французски, в котором он сетовал на то, что скучает без меня, и спрашивал, может ли в будущем рассчитывать на мою дружбу.
Я читал письмо, стоя перед (неоплаченным) зеркальным шкафом. Было раннее утро. Я смотрел на свое отражение, на синее кимоно, расшитое белыми птицами, на мокрые волосы, спадавшие на лоб и блестевшие на свету.
«Вылитый портрет мадам Баттерфляй, – сказал я про себя, – когда ей сообщают о приезде cher Pinkerton»[32]32
Имеются в виду персонажи оперы Дж. Пуччини (1858–1924) «Чио-Чио-сан» (1903).
Cher – дорогой, милый (фр.)
[Закрыть].
Судя по тому, что пишут в книгах, я должен был испытать необыкновенную легкость и удовольствие. «…Он подошел к окну, раздвинул шторы и увидел парижские деревья в нежной зелени распускающихся почек… Дик! Дик! Мой английский друг!»
Ничего подобного. Меня просто немного затошнило. Полетав один раз на аэроплане, я не желал лезть в него опять, по крайней мере в тот момент.
Дик ушел из моей жизни, а спустя несколько месяцев, зимой, я получил от него другое письмо, в котором он сообщал, что собирается на некоторое время в Париж, и просил снять для него комнаты. Он едет с дамой.
Конечно, сниму. Вперед, маленький фокстерьер. Сказать по правде, приезд Дика и мне был кстати. Я обедал в отеле и много задолжал хозяйке, а два англичанина, снимающие комнаты на неопределенное время, – вполне приличный доход.
Наверное, уже осматривая комнаты и то и дело повторяя: «Замечательно», – я начал представлять себе спутницу Дика, но у меня ничего не получалось. Или она суровая, плоская спереди и сзади, или красивая, высокая, в платье цвета резеды и нежным запахом лаванды.
Видите ли, к тому времени, следуя своему правилу никогда не оглядываться на прошлое, я почти забыл о Дике. Даже его песенку о несчастливом человеке я уже не мог воспроизвести, не перевирая мотив.
Поначалу я решил не ездить на вокзал. Но потом передумал и стал одеваться, надо сказать, с особенной тщательностью. На этот раз отношения с Диком должны быть совсем другими. Никаких откровений и никаких слез на ресницах. Благодарю покорно!
«С тех пор, как ты уехал из Парижа, – мысленно произносил я, повязывая черный с серебряными крапинками галстук перед (неоплаченным) зеркалом над камином, – мои дела складываются весьма удачно. Сейчас готовлю две книги, написал роман „Чужие двери“, он скоро начнет выходить отдельными выпусками и принесет мне кучу денег. Да! У меня есть еще маленькая книжечка стихотворений, – воскликнул я, хватая платяную щетку и принимаясь за бархатный воротник на новом пальто цвета индиго, – совсем маленькая, „Забытые зонтики“, – я засмеялся и помахал щеткой, – она станет величайшей сенсацией!»
«Не поверить невозможно», – подумал я, оглядев себя с головы до ног и натянув мягкие серые перчатки. Похоже, значит, так оно и есть.
Это подало мне мысль. Я взял записную книжку и, все. еще стоя перед зеркалом, черкнул в ней фразу… другую… Быть похожим и не быть тем, на кого похож? Или быть им и не быть похожим? Разве быть похожим не значит быть тем, на кого похож? Или быть и не быть похожим? В любом случае, кто спорит?..
Тогда это показалось мне чрезвычайно проницательным и совершенно необычным. Однако, признаюсь, когда я, улыбаясь, брался за записную книжку, что-то язвительно шепнуло мне: «Ты – литератор? Да у тебя вид человека, записывающего ставки на скачках!» Но мне не хотелось прислушиваться. Выходя из квартиры, я постарался как можно тише и быстрее закрыть дверь, чтобы не вспугнуть консьержку, после чего с быстротой зайца – по понятной причине – ринулся вниз по лестнице.








