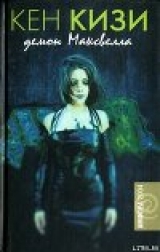
Текст книги "Демон Максвелла"
Автор книги: Кен Элтон Кизи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Кен Кизи
Демон Максвелла
(сборник рассказов и эссе)
Посвящается Джеду, живущему за рекой
Судья на процессе назвал его Облезлым Галаадом, и позднее, скрываясь в Мексике, он написал следующие строки:
Иметь пять тысяч и остаться с песо,
Лишиться славы и отбросы жрать, —
Хотел бы знать – за коим бесом
Решил я наркоманом стать.
Вчера еще – талант великий,
С которым встрече каждый рад,
Сегодня – беженец безликий,
Он же – Облезлый Галаад.
Не заржавел ли меч, о рыцарь?
Беги, пока хватает сил,
От двух держав тебе не скрыться,
Каким бы ловким ты ни слыл.
Приблизительно так все оно и было.
Освобождение
Я прибыл в полицейский участок округа в своем обычном виде – кожаная куртка, полосатые штаны, ботинки и серебряный свисток на шее. В лагере позволяют ходить в своей одежде. Но здешние полицейские на дух не переносят этого. Лейтенант Гердер оторвался от пишущей машинки, взглянул на меня, и его мертвое лицо еще больше помертвело.
– Ну что, зайчик. Сдавай сюда весь свой хлам.
– Весь? – Обычно заключенным Почетного лагеря доверялось самостоятельно отдавать часы, перочинные ножи и прочие мелочи.
– Весь. Не хватало еще, чтобы ты начал свистеть в разгар ночи.
– Тогда извольте составить полную опись имущества.
Лейтенант награждает меня пронзительным взглядом, берет из стопки бланк и заправляет его в каретку.
– Один свисток, – начинаю перечислять я, снимая с шеи цепочку, – с припаянным к нему серебряным распятием.
Лейтенант не шевелится.
– Губная гармошка, настроена на ми-бемоль.
Лейтенант продолжает смотреть на меня из-за машинки.
– Ну давай, Гердер. Ты хочешь получить весь мой хлам, а я хочу, чтобы все до последней мелочи было описано.
Мы оба прекрасно понимаем, что на самом деле меня интересуют две мои записные книжки.
– Клади все в лоток, – говорит он. – И стаскивай с себя этот маскарадный костюм.
Он выходит из клетки, и я снимаю с себя куртку с бахромой, которую Бигима сделала мне из шкуры лосихи, сбитой Хулиганом на перевале Семи Дьяволов, когда он ехал с зажженными фарами и отказавшими тормозами.
– Клади ее в лоток. Руки на стену, ноги на ширину плеч. – И он ударяет меня ногой под коленку. – Рэк, прикрой меня, пока я шмонаю заключенного.
Меня обыскивают с головы до пят, забирают темные очки, носовой платок, щипчики для ногтей, шариковые ручки и все остальное. Оба моих блокнота завернуты в толстый пергамент, расписанный для меня Фастино во время отвальной. Гердер срывает его, запихивает в корзину для бумаг и швыряет блокноты поверх остальных вещей.
– В соответствии с законом, Гердер, я должен получить опись этого имущества.
– Пока ты находишься у меня, закон для тебя – я, – сообщает лейтенант Гердер.
Он говорит это спокойно и бесстрастно. Просто ставит меня в известность.
– Ну ладно, тогда вы все будете свидетелями, – я достаю из лотка блокноты и показываю их помощнику шерифа Рэку и остальным присутствующим. – Все видели? Два блокнота.
После чего отдаю блокноты Гердеру, который относит их в свою клетку, кладет рядом с печатной машинкой и начинает стучать по клавиатуре, не обращая внимания на излучаемую в его адрес ненависть. Рэк проявляет большую нервозность – вместе со многими из присутствующих ему предстоит вернуться обратно в лагерь, где он будет невооруженным охранником. Сначала, пытаясь умаслить нас, он начинает нам подмигивать, а потом поворачивается ко мне и расплывается в честнейшей доверительной улыбке.
– Так ты хочешь написать книгу об этих шести месяцах, которые провел у нас?
– Думаю, да.
– И будешь публиковать ее в еженедельных приложениях к «Хронике»?
– Надеюсь, что нет. – Еще не хватало, выдавать по три страницы воскресному приложению. – Это будет издано отдельной книгой.
– Боюсь, тебе придется многое изменить… например, имена.
– Ни за что. Разве можно выдумать имена лучше, чем сержант Рэк и лейтенант Гердер?
Пока Рэк обдумывает ответ, Гердер пропихивает ему в окошко бумаги:
– Подпиши.
За отсутствием ручки Рэку приходится воспользоваться одной из моих. Получив подписанные бланки, Гердер вынимает из лотка все мои шмотки и кладет их в пронумерованную картонную коробку, накрывая сверху моей курткой.
– Вот и хорошо. – Он поворачивается к панели дистанционного управления. – Можешь застегнуть штаны и подойди к решетке.
– А мои блокноты?
– В камере есть бумага. Следующий.
Рэк возвращает мне ручку, когда я прохожу мимо, и Гердер оказывается прав: в камере действительно есть бумага. Сиксо тоже уже там. Правда, теперь он в синем комбинезоне вместо ярких слаксов и спортивной куртки, но продолжает вести себя вызывающе, притворяясь крутым:
– А вот и мои котики!
Один за другим в камеру входят заключенные, доставленные Рэком. Все они уже прошли сквозь руки Гердера, лишившего их сигарет, бумаги и всего остального.
– Мне очень жаль, – говорю я.
– Руки прочь от Дебори, – предупреждает их Сиксо. – Он страшен в гневе.
И тут же доносится звон ключей.
– Дебори! К тебе Дагз!
Дверь распахивается, я выхожу и иду вдоль ряда камер в приемную. Там за столом уже сидит Дагз, осуществляющий надзор за условно осужденными. Перед ним рядом с судебными документами лежат мои блокноты. Дагз отрывается от бумаг и поднимает голову.
– Я вижу, ты вел себя вполне прилично, – замечает он.
– Я – хороший.
Дагз закрывает папку.
– Как ты думаешь, к полуночи кто-нибудь за тобой приедет?
– Может, кто-нибудь из родственников.
– Из Орегона?
– По крайней мере, я надеюсь на это.
– Кто-нибудь из родственников. – Он устремляет на меня взгляд профессионального полицейского – в меру сочувствующий, в меру откровенный. – Приношу свои соболезнования по поводу отца.
– Очень тронут.
– Из-за них судья Риллинг и вынес такое решение.
– Я знаю.
Еще в течение некоторого времени он читает мне лекцию о вреде ля-ля-ля, и я даю ему договорить до конца. Наконец он встает, обходит стол и протягивает мне руку:
– Ну ладно. Только не пропусти утреннее заседание в понедельник, если хочешь, чтобы тебя отпустили на поруки в Орегон.
– Обязательно буду.
– Я тебя провожу.
По дороге в камеру он спрашивает о моих тюремных записях и о том, когда они выйдут. Когда будут закончены, – отвечаю я. И когда это может произойти? Когда все будет закончено. Собираюсь ли я описать сегодняшнюю беседу? Да, и сегодняшнюю, и судебное заседание на прошлой неделе – все.
– Дебори! – окликает меня Сиксо через решетку. – И еще вставь в свою долбаную книгу, как меня оторвали от общества и в течение пяти с половиной месяцев заставили играть здесь в пинокль с местным начальством. И всякий раз, когда у этих бугаев заканчиваются сигареты, кто-нибудь из них интересуется: «А какие сигареты курит Сиксо? «Винстон»? Вот пусть и гонит!» Это честно, старик, или как? Но им меня не сломить! Анджело Сиксо все перенесет.
Некоторые чуваки так умеют жаловаться, что в их устах жалоба звучит похвальбой.
Дверь за мной закрывают, и Дагз уходит. Сиксо садится. Он мотает уже второй срок. А некоторые сидят и по три раза. Тех, кого выпускают на поруки, называют краткосрочниками. Но иногда малый срок отсидеть сложнее, чем большой. И у многих краткосрочников едет крыша, или они сбегают.
Лучше сидеть тихо. Этому и посвящены мои записи.
Заключенные всё прибывают. Кто-то кричит:
– Окститесь, ребята, здесь уже ногу поставить негде!
Сжимается пространство, пухнет время.
Забита камера: ни охнуть, ни вздохнуть.
Преступника печален путь —
Влачит своей он жизни бремя.
За стенкой стук костяшек домино,
Уже три дня я должен быть свободен,
Но вертухаям это все равно,
Для них я ни на что не годен.
Сегодня? Завтра? В Рождество?
Когда меня отпустят кровопийцы?
Ведь я же, право, не убийца,
К чему им это торжество?
Один стукач донос состряпал
И коноплю у нас нашел,
С собой полицию привел,
И на меня властям накапал.
Не помогли мои уловки,
И здравый смысл не уберег,
И недостало мне сноровки,
И я спасти себя не смог.
Как рыбу, на крючок поймали,
И я перед судом предстал.
Вершитель судеб срок мне дал,
Меня достойно наказали.
Но к черту Джонсона, Вьетнам,
И пацифистов, и вендетты!
Долой постыдные наветы!
Свободу всем – и вам и нам!
Лежит мой палец на курке,
И я есмь лезвие свободы.
Лассо звенит в моей руке,
Я все освобожу народы.
Без двадцати двенадцать меня вывели из камеры, отдали мне мою одежду, свисток и губную гармошку и отвели в помещение, где уже сидел один краткосрочник – рыжий с проседью чувак лет шестидесяти.
– Фредди, на выход! Я готов! – повторял он, расхаживая взад-вперед по тесной каморке, то поднимая, то опуская старомодную подставку для чистки обуви, битком набитую личными вещами. На нем был потертый черный костюм, белая рубашка и темно-бордовый галстук. Ботинки ослепительно блестели.
– Ты за что?
– За траву. А ты?
– Я замахнулся ножом на шурина, а моя старуха вызвала полицию. Мы даже и подраться не успели. Впрочем, я не жалуюсь. Главное, чтобы мне не вставляли палки в колеса.
Он поставил свою подставку, глотнул кофе и снова поднял ее.
– Вот так-то, сэр!
– Желаю вам успеха, – откликнулся я.
– И тебе того же. Плевать я хотел. Я даже похудел здесь. Познакомился с хорошими ребятами…
В помещение заходит молодой чернокожий заключенный и передает ему клочок бумаги с записанными на нем цифрами.
– Надеюсь, я разберу твой почерк, – замечает старик.
– Я специально написал покрупнее. Не забудь, папаша. Позвони ей, как только окажешься рядом с телефоном, и скажи, что ее Песик все еще подтявкивает.
– Ладно-ладно, обязательно.
– Спасибо, папаша. Удачи тебе.
Как только пацан выходит, старик рвет бумажку и бросает обрывки в писсуар.
– Несчастный бродяга. Как видишь, придурков здесь тоже предостаточно. – Он снова ставит свой ящик и начинает на ходу потирать руки. – Вечер еще только начинается. Главное – успеть на автобус. Сколько сейчас времени?
– На моих ровно двенадцать. За мной должны приехать, так что мы можем вас подкинуть.
– Премного благодарен. Ровно двенадцать? Ну и наплевать. Все равно у нас ничего нет, кроме времени. Так за что, ты говоришь, тебя посадили?
– Хранение и разведение.
– Стыд и срам – за какую-то траву, подаренную нам Господом! Если бы Он не хотел, чтобы она росла, Он бы не дал нам ее семян. И сколько они тебе дали?
– Полгода тюрьмы, пятьсот долларов штрафа и еще три года условно.
– Вот сволочи.
– Но я уже свое отсидел.
– Догадываюсь. Только время… – он снова отхлебывает остывший кофе, – и… я готов.
Он ставит чашку на скамейку и снова поднимает свой ящик.
– Франклин! – доносится до нас голос. – Уильям О.
– Готов, начальник! Уже иду!
Я остаюсь один и допиваю остатки кофе из его чашки. С трубы свисает пластиковый мешок, в котором хранился его костюм, на полу валяется синий комбинезон. Одежда для призраков. Я тоже готов. Все документы заполнены.
– Дебори! Девлин И.
– Иду!
Блокноты мне так и не вернули.
Дебоширка Джун
…ее всегда приглашали на всякие мероприятия. Она появилась утром вместе со своим стариком по имени Хьюб, который, как выяснилось, сидел вместе со мной в тюрьме. Знаменит тем, что растянул двухмесячный срок, полученный за нарушение порядка, на два года, так как отказывался от каких бы то ни было сделок с властью. Гордится своей репутацией и клянется, что с насилием покончено – никаких потасовок, никакой выпивки.
Джун привезла его рано утром из Калифорнии к нам на ферму, полагая, что мы сможем оказать на него умиротворяющее воздействие. Ее «нова» заглохла на дороге перед самым поворотом к дому. И оба, запинаясь, принялись что-то бормотать в свое оправдание. Лицо Джун заливала краска, огромные татуированные руки Хьюба мяли друг друга, как мастифы на ринге.
Мы поговорили о ранних заморозках и несозревших помидорах, некоторые из которых дозревают на подоконниках, если туда падает солнце. Я посоветовал им воспользоваться нашей машиной и салазками, чтобы стащить их тачку с дороги. И они двинулись прочь – Джун впереди, с сумкой, при каждом шаге ударявшейся о ее угловатые колени. Я почему-то вспомнил Стейнбека, тридцатые годы и написанные от руки объявления, которые приклеены ко всем кассовым аппаратам окрути: «Чеки обналичиваются только на стоимость покупки!»
У посеребренного изморозью поля останавливается первый школьный автобус, и из него выходит Калеб, прямо напротив того места, где впритык стоят наши с Хьюбом драндулеты. Дети в окнах показывают пацифистские знаки, вероятно реагируя на внешность Джун.
Мимо проезжает сосед – тот, который богатенький, с состоятельными родственниками и ранчо вместо фермы. Он сидит за рулем новенького темно-бордового «мустанга».
Раздается лязг металла, и я слышу, как машины заворачивают на дорожку, ведущую к дому.
Калеб приносит почту – счета, рекламные бюллетени и книгу в твердом переплете «Любовь к родине», написанную каким-то знаменитым подвижником, имя которого мне ничего не говорит. Сомневаюсь, что кто-нибудь может научить меня любить родину.
Солнечные лучи просачиваются сквозь сентябрьскую дымку, освещая оживленную деятельность. Откуда-то сверху доносится шум пролетающего самолета, и пшеничные зерна наливаются золотом.
Потом прибывает следующий автобус со старшеклассниками, из которого выходят Квистон и Шерри. Калеб бежит им навстречу, размахивая над головой золотым колоском:
– А вы еще не знаете, к нам приехала Джун со своим Громилой!
День матери, 1969 год
(Квистон)
Она вышла из леса, и теперь, я думаю, ее надо как-то назвать.
Папа тоже размышляет над этим.
Это – девочка, и мне кажется, ей подошло бы имя Фалина. Шерри говорит: «Класссно!»
Мы с Калебом и Шерри поим ее в саду теплой водичкой из бутылочки. А папа собирается нас снимать и суетится со штативом, подыскивая место без тени. По-моему, она выглядит потрясающе, когда прыгает на солнце по мягким желтым зарослям горчицы. Я начинаю думать о звериной пушистости и о быстро проходящем времени, а также о том, как здорово будет потом собрать все фотографии, где будет видно, как мы росли вместе с ней и со всеми коровами, собаками, утками, гусями, голубями и павлинами, котами, лошадьми, цыплятами и пчелами, вместе с попугаем Рамиочо, вороном Василием, осликом Дженни и остальными ребятами.
Фотоаппарат включается, и папа снимает сначала, как мы с Калебом кормим ее, а потом, как Шерри плетет венок и надевает ей на шею – теперь она настоящая принцесса Фалина. Потом появляется самосвал Доббса, битком набитый его детьми и компостом, заказанным мамой.
Мы все едем на мамин огород, и от нас начинает разить как от команды ассенизаторов. И папа еще снимает, как мы лопатами разгружаем компост. А потом, как мы стоим с лопатами и метлами на плечах. Потом он снимает куриц, выстроившихся у изгороди, как для классной фотографии, и еще Стюарта, который задает жару доббсовскому псу Килрою. А затем ему приходит в голову закончить пленку съемкой лошадей на дальнем поле.
– Квистон, – говорит он, – запри всех этих собак в сарай, чтобы они не приставали к олененку.
После того как собаки заперты, мы забираемся в кузов самосвала, который ни разу не поднимался с тех пор, как Доббс приладил его к машине, и отправляемся на пастбище. Я, Калеб, все доббсовские дети и Шерри, зажимающая нос, чтобы не чувствовать запаха. Когда мы проезжаем мимо сада, я вижу, что она все еще там, где мы ее оставили, – в зарослях горчицы за трактором. Она стоит с высоко поднятой головой, как настоящая принцесса, в своем венке из ромашек и васильков.
Лошади при виде такого количества гостей приходят в возбуждение. И папа снимает, как они со своенравным видом носятся по зеленому ковру. Он снимает до тех пор, пока у него не кончается пленка, потом убирает фотоаппарат в чехол и достает ведро с зерном. Несколько раз он встряхивает его, чтобы лошади поняли, что оно не пустое, а потом направляется к боковым воротам. Он хочет увести их с главного пастбища, чтобы потом на нем еще можно было собрать сено. Но лошади идти не желают. Жеребцы Дикий Фырк и Джонни толкаются и покусывают друг друга. Как пацаны в раздевалке, – говорит папа. Дикий Фырк – аппалачский жеребец, которого бросили у нас проезжие прошлой осенью, и он будет принадлежать мне, если я докажу, что могу как следует за ним ухаживать.
– Его мать – белоглазая кобыла – наблюдает за своим сыном. Смотрит, как тот отдает дань увлечениям молодости, – говорит Доббс. Потом она поворачивается и идет к воротам, где папа трясет своим ведром. Дикий Фырк следует за ней, а за ним – ослик Дженни. Упрямый и близорукий мерин Джонни – последний. Нам довольно долго приходится за ним носиться, пока мы не подгоняем его достаточно близко к остальным лошадям. Только тогда он различает сыплющееся из ведра зерно и переходит на галоп.
Папа говорит, что Джонни напоминает ему старого гордого техасского рейнджера, который всегда добивается своего и никогда не берет подачек. Но теперь Джонни постарел и в конце концов таки устремляется к ведру.
Дженни бочком продвигается к зерну, оттесняя всех крупом.
– Как уличная проститутка, – говорит Доббс.
Шерри отправляется домой. Калеб с детьми Доббса носятся в клевере за садовыми змеями. Я возвращаюсь обратно в кабину, устроившись между Доббсом и папой. У ограды кораля, прямо рядом с быком Абдуллой стоит Дебоширка Джун в одной ночной рубашке. Оба с хмурым видом смотрят на пастбище, словно чем-то недовольны.
– Какое варварство, Хьюберт, – говорит папа как бы от лица Джун. – Чудовищная жестокость! Мне от этого просто плохо становится!
– Я понимаю, о чем ты, – отвечает Доббс от лица быка и Хьюберта, – но в этой кровожадной стране ничего другого не остается.
Папа смеется. Снобы всегда вызывают у него смех. Мы въезжаем во двор, я вылезаю из кабины и закрываю ворота. Джун встает на нижнюю планку изгороди и, нахмурившись, смотрит, как Дикий Фырк наскакивает сзади на Дженни. Дженни брыкается и пытается увернуться.
– Эй, ребята, – говорит папа, – я не понимаю, чем вы там занимаетесь.
Мы прикручиваем шланг, включаем насос и едем обратно мимо ульев. Вчерашний рой, жужжа и колыхаясь в меркнущем свете, по-прежнему висит на ветке, как виноградная гроздь. Солнце почти зашло за голую вершину Нибо. Папа встает на самосвал и кричит, чтобы все возвращались – меньше чем через час у дяди Бадди в городе начинается «Звездный путь».
– Через час? – откликается мама из сада. – А через полчаса не хочешь?
Доббс кладет в кузов несколько тюков, чтобы можно было сидеть, и зовет Микки. Шерри идет за домашним заданием, чтобы взять его с собой к бабушке и дедушке. Калеб, Луиза и Мей отправляются выпускать собак. Я, опередив папу, несусь в сад, чтобы завести олененка в дом на ночь.
Но с ней что-то случилось. Она на том же месте, где мы ее оставили, но голова ее как-то повернута. Венок свалился, и мордочка выглядит очень странно. Это не сонливость и не обезвоживание, как было у нее несколько дней тому назад после поноса. Я подбегаю, чтобы поднять ее, и голова у нее падает. Папа! Он уже бежит.
Черт! Собаки таки до нее добрались!
Я их запер.
Может, это соседский пес!
– Кажется, папа, у нее сломан позвоночник! Может, мы ее переехали, когда возвращались с пастбища?
– Вряд ли, – отвечает папа. – Я видел ее, когда мы ехали через сад, с ней все было в порядке.
– Значит, все дело в солнце! Мама предупреждала. Ей нельзя быть на солнце!
– Ты думаешь? Но она не так уж долго была на солнце… вряд ли.
И действительно, дело не в этом. Папа берет ее на руки, выносит из сада и идет за амбар к бетонному зернохранилищу, не потому, что там живут Джун с Хьюбертом, а просто потому, что это самое прохладное место. Помещение кажется маленьким и захламленным – хлама в нем раз в десять больше по сравнению с тем временем, когда в нем жили мы, а нас было шестеро! Папа расчищает место, берет полусдутый матрас и кладет ее. Народу становится все больше, и я залезаю на цементную полку, на которой когда-то спал. Все суетятся вокруг олененка. Дыхание ее становится все более хриплым, по телу прокатываются судороги. Они начинаются с крапчатого хвостика, потом пробегают по позвоночнику и добираются до груди. Мама приносит молоко, которое она заморозила после того, как у Красотки умер теленок, а я пытаюсь молиться. Но я по-прежнему вижу, как жизнь колотится в грудную клетку олененка, словно пытаясь вырваться наружу.
Вернувшийся с работы Хьюберт начинает материться, так как на самом деле это он нашел олененка, когда заготавливал дрова. Он решил, что олениха убита каким-нибудь браконьером, и забрал сиротку с собой. Увидев олененка на матрасе, он, взревев, швыряет в стену свою клетчатую коробку для ланча и падает на колени. Не переставая сыпать проклятьями, он елозит огромными грубыми руками по ногам. Потом дотрагивается до олененка. Тот выгибается, почувствовав прикосновение, и обмякает. А Хьюб все продолжает ругаться.
Олененку становится все хуже. Дыхание затрудняется. Даже на таком расстоянии я слышу, как клокочет у нее в груди. Мама говорит, что это жидкость в легких. Пневмония.
Папа и Хьюб поочередно приподнимают ее тело, чтобы жидкость могла выйти наружу. Из ее ноздрей выступает серебристо-серая слизь. Грудная клетка сотрясается все реже, а блеск черных глаз начинает постепенно меркнуть. Потом, выгнувшись, она издает слабый крик, напоминающий мне звук дедушкиного охотничьего свистка, в который он дует в темноте, пытаясь приманить лису, рысь или кугуара.
Хьюб продолжает пыхтеть и тужиться. Олененок начинает распухать на глазах. Папа смотрит на это еще в течение некоторого времени, а потом говорит: «Брось, Хьюб, она умерла». Хьюб замирает, они с папой кладут ее на пол, и из нее с каким-то противоестественным звуком выходит воздух. Как из губной гармошки Калеба.
Шерри и Джун заполняют ящик из-под яблок лепестками роз и цветами клевера. Мама отыскивает у себя кусок китайского шелка. У насоса собрались все коровы и лошади. Поверх могилы мы ставим большой круглый валун, который мама нашла на реке. Еще до того как мы появились на свет. Папа играет на флейте, Доббс – на губной гармошке, а Джун на ксилофоне, который подарила мне бабушка Уиттиер. Потом Хьюб зажимает между ладоней травинку и дует – она издает точно такой же звук, как олененок перед смертью, – и на этом похороны заканчиваются.
Таким образом, мы остались без «Звездного пути», воскресного ужина, поездки к бабушке с дедушкой и всего остального. Вместо этого папа решил нас постричь. Легли все рано. А на следующее утро, когда вокруг еще стоял туман, с пруда донесся громкий лай. Мама сказала: «Заканчивайте завтракать и собирайтесь, а я схожу и посмотрю, в чем там дело». Она выходит на улицу и устремляется по направлению к дымке. Хьюб встает из-за стола и, потягивая кофе, подходит к окну, но потом лай обрывается, и он возвращается обратно. Джун ставит на стол его коробку с ланчем, и Хьюб тяжело вздыхает. Сначала мне кажется, что он снова разразится руганью, но в этот момент возвращается мама со Стюартом и Лансом. Они прыгают вокруг нее, пытаясь дотянуться до пятигаллонового ведра для ловли пескарей. Мама вся раскраснелась от возбуждения.
«Я сначала решила, что это жаба, которую изуродовала наша старая цапля, – говорит она. – Но когда подошла ближе, то увидела, что она покрыта шерстью! Стюарт лает, а она плавает. Я кричу Стюарту: «Нельзя! Фу!» И тут она как набросится! И я, не успев сообразить, что к чему, поймала ее в ведро».
Это огромная мешетчатая крыса, противная как черт. Передние зубы – как два ржавых долота. Она стоит в ведре на задних лапах и рявкает на нас через край. Хьюб берет ведро, наклоняется и скалится с не менее страшным видом. Пару минут они щелкают друг на друга зубами, а потом Хьюб открывает свою коробку для ланча и запихивает туда крысу – прямо рядом с термосом, бутербродами и яблоком.
– Выпущу ее на лесосеке, – замечает Хьюб и улыбается, повернувшись к Джун.
– Смотри, не перепутай ее с бутербродом, – ухмыляется Джун. – А то еще съешь крысу!
– Во будет классно! – откликается Шерри, как это умеет только она, и выходит из дома ждать автобуса.
– Правда, классно! – подхватывает Калеб.
– Автобус! – кричит мама. – Квистон, ты сделал домашнее задание? Калеб, где твои ботинки?!
Хьюб благодарит всех за завтрак и обещает быть внимательным.
Я не знаю, что я буду отвечать на тему «Чем я помог маме в День матери».







