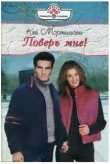Текст книги "Порою блажь великая"
Автор книги: Кен Элтон Кизи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Ты? – удивляется мальчик. – Ты решил…
– Да, братишка, пожалуй, я прокачусь с вами до города, чтоб после не мотаться. Моцык у меня нынче все одно не бегает как надо… так что нет возражений, Генри?
Собаки, внезапно учуявшие жизнь на пристани, вырвались из дома и с лаем несутся по дощатому настилу.
– Я не против, – говорит старик, сходя в лодку. Женщина следует за ним, понурившись. Хэнк отгоняет собак и тоже запрыгивает, едва не притопив посудину. Мальчик по-прежнему стоит, будто в трансе, окруженный собаками.
– Ну, сынок? – Генри поднимает взгляд, щурясь на солнце, бьющее из-за спины мальчика. – Ты идешь или нет? Черт, слепит… Где эта проклятая каска?
Мальчик забирается и усаживается на кофр подле матери.
– Да вон там она, под тем ящиком. Майра, не подашь?
Женщина протягивает каску. Джо Бен притаскивает серую брезентовую скатку, Хэнк принимает ее.
– Ну что, Генри? – спрашивает Хэнк, тянется к веслам. – Я погребу?
Старик мотает головой и сам берется за весла. Джо Бен отдает швартов и, упершись в сваю, толкает лодку от причала.
– Увидимся еще! Пока, Майра! Пока, Ли! Будь молодцом! – Генри тянет шею, оглядывая площадку перед гаражом на том берегу, и принимается грести, размеренно и мощно, его зеленые глаза в тени от полей каски.
Речная гладь, устланная цветами, ровная, будто скатерть в горошек, натянутая от берега до берега. Нос лодки с шипящим присвистом режет воду. Женщина сидит с закрытыми глазами, словно в неком забытьи, будто бы силясь отрешиться от боли в голове. Генри уверенно гребет. Хэнк смотрит на реку, на уток-крохалей, суматошно бьющих крыльями по воде. Маленький Ли беспокойно ерзает на своем кофре-насесте на корме.
– Что ж… – старый Генри роняет слова меж всплесков весел. – Что ж. Лиланд… – Голос у него бесстрастный, далекий, неколебимый. – Жаль, что ты решил, будто… – связки в его шее поскрипывают, когда он откидывается назад, – …тебе нужна школа на Востоке… но нет худа без добра, наверно… здешняя землица ведь не всякой мотыге дается… тут ведь нос по ветру, хвост пистолетом… а иной и просто не сдюжит… Но все нормалек… Надеюсь, ты им всем там покажешь… – Много позже Ли вдумался в смысл его напутственной молитвы, тогда же лишь слушал ритм этого псалма, в котором самым простым говором будто бы вершились некое заклятье; и время замерзло; все стало недвижно и все явилось сразу. Так подумал он однажды, спустя годы. – …да, покажи им за себя и за всех нас… – (Вот и все, думал Хэнк. Сейчас они сядут на поезд. Все кончено, и я никогда ее больше не увижу.) —…и, это, когда окрепнешь… – (Я был прав, что никогда больше не увижу ее…) Молитва, прочитанная надо мной… (Я был чертовски прав…) Они гребут по серебрящейся воде. И отражения колышутся легкой рябью среди лепестков. Йонас тоже гребет, он за бортом, укутанный по шею в зеленую мглу: Ты должен знать. Ли видит себя, вернувшегося через двенадцать лет, двенадцать лет гниения, углем начерченных на его бледном лице, и призрачные руки протягивают сосуд с ядом для Брата Хэнка. …или, скорее, это и было заклинание… (Но я ошибался в том, что все закончено. Чертовски ошибался.) Ты должен знать, что мы ничего не обретаем и все наши труды тщетны. Йонас налегает, подергиваясь туманом. Джо Бен отправляется в парк штата со складным ножом и ангельским личиком во имя свободы. Хэнк ползет, продирается сквозь ежевичные заросли во имя тернистой неволи. Рука закручивается на веревке и медленно раскручивается. Лесоруб, сидящий в грязи, шлет проклятия через реку.
– Меня выело одиночество! – плачет женщина. Вода течет. Лодка движется размеренными толчками. Внезапно закапал дождик; миллионы белых глаз перемигиваются на водной глади. Хэнк оглядывается, хочет предложить женщине свою каску, но женщина прикрывает черные волосы разноцветным одеялом. Красная, желтая, голубая лоскутная фигура мягко вздымается и опускается, будто на неких особых волнах, не тревожащих лодку. Хэнк пожимает плечами и закрывает рот. Он расправляет брезент и снова принимается обозревать реку, но вот его глаза встречаются с глазами мальчика – и взгляд замирает.
Долгие секунды эти двое пристально глядят друг на друга.
Хэнк первым разрывает мучительный противоток взглядов. Он опускает глаза, приятельски ухмыляется и пытается разрядить напряженность, игриво ухватив мальчика за коленку.
– Так что, Малой? Теперь Нью-Йорк тебе вроде как дом родной будет? Всякие эти… музеи-галереи… и всякое такое прочее? И все эти миленькие школьные мышки – так к тебе и липнут, к такому крепкому парню из северных лесов?
– Ммм… Погоди… я…
Генри смеется.
– Так и есть, Лиланд… – Размеренно гребет. – Так и я мамку твою заполучил… Эти девчонки с Востока моментом голову теряют… при виде такого здоровенного красавца лесоруба… ты уж спроси ее, коли не веришь.
– Ммм… Э, я… – (Ты уж спроси ее. Ты уж спроси…)
Голова мальчика запрокидывается, рот открыт.
– Что с тобой, сынок?
– Э-э… я… Ммм… – (Бессловесная насмешка звучала в каждом ухе, кроме ушей старика: «Ты уж спроси ее…» – эхом повторяющаяся молитва, обернувшаяся заклятьем.)
– Что с тобой, спрашиваю? – Генри бросает весла. – Опять приболел, что ли? Пазухи заложило?
Мальчик зажимает рот ладонью, стараясь совладать с голосом, стискивает пальцами слова. Он мотает головой, мычит сквозь пальцы.
– Нет? Может – может, тогда укачало? Утром ничего такого не кушал?
Он не видит слез, покуда мальчик не открывает лицо вновь. Он, должно быть, и не слышал отца. Генри качает головой:
– Видать, что-то чертовски жирное слопал, коли эдак тебя развезло.
Мальчик не смотрит на Генри – он вперился глазами в брата. Ему кажется, будто и говорит с ним – Хэнк.
– Ты… погоди… еще! – Мальчик выдавливает из себя угрозу. – Ммм! Мм, Хэнки, когда-нибудь ты получишь за свое…
– Я? Я? – Хэнк щерится, вскидывается. – Да твое счастье, что я не свернул твою цыплячью шейку! Потому что, сказать по правде. Малой…
– Ты погоди пока…
– …кабы ты не был таким сопляком и кабы я узнал, что ты…
– …я не подрасту!
– …узнал такое вот дерьмо – наверно, я б даже не возбухал, раз она…
– …пока не вырасту, чтобы…
– …а от тебя то же вранье…
– Что? – старик Генри своим возгласом гасит перепалку. – О чем – во имя всего святого – вы болтаете?
Братья уставились в дно лодки. Лоскутное одеяло замирает недвижным пестрым холмом. Наконец Хэнк смеется:
– А, наши с пацаном терки. Дела житейские, верно, Малой?
Тишина склоняет голову мальчика к робкому кивку. Старик Генри вновь берется за весла, внешне успокоенный, гребет; Хэнк бормочет, что лицам, подверженным морской болезни, следует избегать жирной пищи перед лодочной прогулкой. Мальчик сдерживает слезы. Он стискивает челюсти, презрительно отворачивается, устремляет взор на воду. Но лишь после того, как прошептал:
– Ты… – скрестив руки, с видом человека, излившего все, что было на уме и на сердце: – Ты… только… погоди!
Он хранит молчание весь остаток пути – и в лодке, и в машине, до самого вокзала Ваконды, даже когда они с матерью садятся в поезд, а Хэнк жалует их комическими «пока» и желает «всех благ» – мальчик хранит такое мрачное, трагическое и мстительное молчание, будто ему, а не старшему брату выпало ожидание.
И, сознавал ли то Ли, нет ли, он действительно ждал двенадцать лет – покуда не пришла открытка от Джо Бена Стэмпера из Ваконды, Орегон, в которой говорилось, что старик Генри повредился на руку и на ногу, выбыл из строя, а потому с лесоповалом вроде как завал, и, чтоб уложиться в срок по контракту, им нужен еще хоть один работник – еще один Стэмпер, само собой, – чтобы профсоюз не просочился, а ты остался у нас один-единственный вольный родич не при деле, поэтому что скажешь, Ли? И если думаешь, что тебе такое по плечу – добро пожаловать к нашей колоде…
А внизу – приписка тем же карандашом, но почерком увереннее, напористее: Наверно, ты уже подрос достаточно, Малой!
Частенько мне думается: хорошо бы приспособить расторопного зазывалу, чтоб он толкал мой товар. Подмигивающего, улыбчивого торгаша, шинкующего овощи, прогонистого корифея ярмарок, с микрофончиком у манящего кадыка – чтоб он высовывался из будки, а из-под закатанных манжет длинные пальцы совершали гипнотические пассы, дергая за ниточки внимания и нагнетая ажиотаж в праздных взорах:
– Гляньте-гляньте-гляньте-ка! Гляньте, други и подруги, на это маленькое Чудо Посередь Наших Серых Буден! Ви-зу-аль-ная диковина, вы не можете не признать. Потрясите, повертите, поглядите сквозь нее откуль захотите… и взгляд ваш выйдет с со-вер-шен-но другого боку. Во как: сферы вложены одна в другую, будто стеклянные шарики до самого крохотули! самого малого так и не разглядеть без научных приборов. Да уж, ребятки, подлинная диковина, аб-со-лютно уникальный феномен, с чем, я уверен, вы согласитесь…
Однако по всему Западному Побережью разбросаны городки точь-в-точь как Ваконда. От Виктории на севере до Эврики на юге. Городки эти живут с того, что сумеют отвоевать у моря перед носом и гор за спиной, стиснутые между. Им подрезали поджилки географические экономики, проштампованные мэры и торговые палаты, зыбучие времена… с консервных заводиков лупится списанная армейская краска по доллару за кварту, штабеля покоробленного гонта на лесопилках поросли мхом… Да, все они так похожи, что хоть суй их один в другой, наподобие матрешек. Проводка сплошь гнилая, оборудование сплошь ржавое. Народ сплошь вечно жалуется на худые времена и беды, с работой плохо, а с платой еще хуже, ветры холодные, а зима еще холоднее…
У каждой лесопилки найдется поселок коробчонок, обычно – на реке, и консервный заводик у пристани, где не мешало бы полы настелить. Главная улица – полоса мокрого асфальта с мазками неона от барной вывески. Если ж там стоит светофор – это скорее символ престижа, а не атрибут уличной безопасности… Слово городскому советнику по транспорту:
– Эти ребята в Нагалеме обзавелись уже вторым светофором! Почему бы нам не поставить хотя бы один? Проблема этого города, ей-бож, – в недостатке Гражданской Гордости.
Вот в чем он видит неприятность.
Там есть синематограф, веч. сеансы: чт, пт, сб, расположен по соседству с прачечной, и оба заведения принадлежат одному землистому и смурному предпринимателю. На козырьке синематографа читаем: ПУШКИ НАВАРОНЕ Г ПЕК И 3 РУБАШКИ ЗА 99 ЦЕНТОВ – ТОЛЬКО ДО КИНЦА НЕДЕЛИ.
По мнению этого застиранного гражданина, все неприятности – от нехватки О.
Через дорогу, за стеклами витрин, сплошь заклеенными фотографиями с фигурной высечкой: подретушированные домики и фермы, – сидит Агент по Недвижимости, колени усыпаны белыми сосновыми опилками… Агент этот – лысый шурин скорбноокого кино-прачечного магната, славен хваткой в ипотечных делах и луженой глоткой на полдниках Младшей Торговой палаты по вторникам:
– Это земля будущего, ребята, это спящий исполин! Конечно, не все у нас было гладко. Не гладко и сейчас, после восьми-то лет под игом этого скаредного солдафона из Белого Дома, но мы вышли из чащи на простор, мы вписались в поворот!
А на его столе, как на благотворительном «Общинном Сундуке», дислоцирован целый полк статуэток, «подарков от фирмы» – изваяния Джонни Красное Перо, вырезанные из белой сосны умелыми пальцами Агента по Недвижимости, – и своими деревянными глазами взирают они в окно на длинные ряды пустых витрин напротив. И таблички «СДАЕТСЯ» на дверях тщетно взывают хоть к кому-нибудь, умоляя прийти, смыть известку со стекол и снова нанести ее на стены, заставить полки блестящими банками с острой тушенкой и пряными бобами, вновь набить конфетные автоматы упаковками «Дневных трудов», «Копенгагена», «Скола», «Экстаза»; усадить на скамьи у дровяной печи ядреных бородачей в подбитых сапожищах – они когда-то, три-четыре десятка лет назад, переплачивали втрое-вчетверо за дюжину яиц; бородачей, что признавали только купюры, ибо карманы их штанов штопали не для того, чтобы в них брякали жалкие гроши. «ПРОДАЕТСЯ», «СДАЕТСЯ ВНАЕМ», «В АРЕНДУ» – гласят вывески над дверями. «Процветание и новые горизонты», – говорит Дока по Недвижимости за кружкой пива. Ушлый хват, но его единственная сделка со Дня отца-основателя – с мучнистоликим зятем насчет обветшалого до полной несостоятельности синематографа, что рядом с прачечной.
– Кто бы сомневался. Дальше дела пойдут на лад. Наша единственная беда – некоторый спад из-за ярма этого генерала!
Но жители Ваконды начинают не соглашаться – до полного согласия в этом несогласии. Сначала возражают члены профсоюза:
– Беда не в администрации, а в автоматизации. Пилорамы, трелевочные машины, передвижные лебедки – да вдвое больше леса валят вдвое меньше работников. Выход прост: рабочий день для лесорубов нужно сократить до шести часов, как это проделали с укладчиками гонта. Дайте нам Шестичасовой День с оплатой за Восемь Часов – и, отвечаю, все наши парни нарубят вдвое больше!
И все члены поддерживают эту мысль дружными криками, свистом, топаньем, хотя знают, что непременно сыщется в баре пакостный зануда, который возразит:
– Беда лишь в том, что у нас больше нет «вдвое больше леса». Потому что какая-то гадюка вырубила слишком много за последние полвека.
– Ну нет! – восклицает Агент по Недвижимости. – Нам не хватает не древесины, но Цели!
– Быть может, – говорит преподобный брат Уокер, из Церкви Господа и Метафизической Науки, – нам не хватает Бога. – Перед тем, как развить мысль, он делает выверенный глоток пива. – Наши нынешние духовные беды гораздо существенней экономических.
– Так-то оно так! И я далек от умаления важности этого, но…
– Но мистер Луп имеет в виду, брат Уокер, что для поддержки духовности человеку потребно хоть немножко телесности, сиречь мяса на костях.
– Нужно как-то жить, брат.
– Да, но не «хлебом единым», помните?
– Так-то так, но и не «духом святым», верно?
– А я говорю, что если у нас не будет леса для рубки…
– Да завались того леса! Разве Хэнк Стэмпер не пашет со своим балаганом на всю катушку? Нет? А?
Все делают по вдумчивому глотку.
– Значит, беда не в нехватке леса…
– Не-а. Никак нет…
Они пили и дискутировали с самого полудня – за огромным овальным столом, традиционно забронированным под такие дебаты, и хотя собрание этих восьми-десяти мужчин не имело никакого официального статуса, они были признанными властителями дум города, и мнение их считалось священным, как тот зал, где они встречались.
– А знаете, интересный момент – касательно Хэнка Стэмпера?
Этот бар, «Коряга», расположен в нескольких домах от синематографа и прямо напротив Фермерской ассоциации. В обстановке необычного – не больше, чем в завсегдатаях: точная копия любого другого бара в подобном городке лесорубов. Но фасад – зрелищный до крайности. В широкой витрине представлено внушительное собрание неоновых вывесок, снятых с баров-конкурентов, капитулировавших перед Тедди за годы его предпринимательства. И когда спускаются сумерки, Тедди щелкает выключателем под стойкой, и эффект бывает столь внезапным и сокрушительным для подвыпивших новичков, что зачастую взрыв иллюминации сопровождается взрывом стакана, выпавшего из рук. Фасад бара наливается неистово пляшущим неоном. Огни мерцают, извиваются, воюют за место в окне, охватывают друг друга и переплетаются, шипя, словно электрические змеи. Закручиваются – раскручиваются. Огни эти столь ярки и яростны, что темной ночью их едва ли не слышно. А темной дождливой ночью от их гвалта рвутся барабанные перепонки. Прислушайтесь: у самой двери истошно вопит пламенно-алая вывеска – «Красный Дракон»; под ней, помигивая зеленым и желтым, другая настойчиво зовет выпить «На посошок», соблазняя бокалом мартини с вишенкой; рядом огромное оранжевое исчадие ревет «ЗАЙДИ И ВОЗЬМИ!»; по соседству «Пикадор» мечет багровые стрелы в сторону парикмахерской. «Чайка» и «Чорный кот» вопят друг на друга диссонансами красного и зелени. «Алиби», «Крабовая Похлебка» и «Ваконда-Хаус» сцепились насмерть. И все пивные компании наперебой изобличают друг друга рекламными слоганами: Дело в воде… и Здесь – жизнь… или Мэйбл, черный лейбл…
Сама же «Коряга», похваляющаяся трофейными флагами, собственной вывески не имеет. Много лет назад на вызеленном стекле значились слова «Коряга: салун и гриль», но по мере того, как Тедди скупал и закрывал другие бары, он сдирал все больше зеленой краски, чтоб дать место захваченным неонкам, которые вывешивал наподобие вражеских скальпов. В ясный день, когда вывески не горят, подойдя вплотную, можно различить смутные контуры букв за стеклом – но едва ли это потянет на «название». Темной же ночью, когда буйствует неон, разглядеть что-либо в этой свистопляске просто невозможно.
Однако ж есть одна вывеска, которой позволено выделяться. Но не электрическая, а затейливо выполненная из дранки – она висит особняком, над дверью, на двух грузовых винтах. Эта едва заметная вывеска обязана своим появлением не обычному финансовому натиску Тедди на конкурентов, а его браку, продлившемуся всего четыре месяца, – и она куда милее хозяину, нежели все мигалки и сверкалки. В ровных, умеренно голубых тонах эта неприметная вывеска напоминает всем прочим: «Помни… Один стакан – уже слишком много. Женское христианское общество трезвости».
Для Тедди, этого плюгавого толстячка в стране поджарых лесорубов, неоновые трофеи – бальзам на душу. Наполеону не требовались каблуки, чтоб возвыситься над прочими: у него была полная грудь медалей. Эти символы успеха и доказывали его величие. Да, с такими медалями он мог молчать, когда всякая мелюзга скулит о своих бедах…
– Эй, Тедди-съел-медведя, еще по одной!
…и хнычет в кружку…
– Тедди?
…и подыхает медленным, животным страхом…
– Тедди! Черт, парень, ты жив или нет?
– Да, сэр! – Его вырвали из раздумий. – А, пива, сэр?
– Господи, именно. Пива.
– Сейчас-сейчас, сэр…
Стоя в глубине бара, слушая треп в зале, доносящийся сквозь световое марево, он мог совершенно обособиться от их грубого, рычащего мира. Но вот он суматошно забегал взад-вперед вдоль стойки, и апломб его рассыпался вдребезги. Его пухлые пальчики подрагивали, собирая урожай стаканов.
– Я мигом! – Он подтащил заказ к их столу, показной своей спешкой возмещая задержку. Но они уже вернулись к обсуждению местных бед, напрочь забыв о Тедди. Еще бы. Не могут большие дурни его не игнорировать. Боятся присмотреться к нему повнимательней. Опасно разглядеть превосходство в таком…
– Тедди!
– Да, сэр. Я забыл: вы сказали «светлое»? Я заменю, как только разнесу остальные кружки…
Но мужик уже пьет пиво. И Тедди возвращается за стойку – на мягких подошвах, призрачный и всеми презираемый.
Вот осиянная электричеством дверь растворилась, и в проем шагнула фигура – крупнее, старше, громко клацает подкованными сапогами, но отчего-то столь же призрачна, как Тедди. То был местный отшельник, старик с окладистой седой бородой, известный не иначе, как «тот драный алкаш откуда-то с Южной Вилки». Некогда знатный лесоруб, верхолаз-мачтовик, ныне он слишком одряхлел и ослабел, опустился до того, что зарабатывает на жизнь, колеся по окрестным раскорчеванным лесозаготовкам на пикапе с раздолбанными рессорами и пару дней в неделю пиля кедровые пни на гонт. Гонт он сдает на фабрику, по десять центов за вязанку. Падение катастрофическое – от верхолаза до сборщика дранки. И, видно, позор такого падения едва ль не на корню сгноил тот механизм, что обозначает присутствие человека; старик прошел по залу, будто сокрытый туманом, а когда исчез из виду, никто не смог бы его описать или хоть доподлинно подтвердить факт его появления. И все же, поскольку он редко захаживал в «Корягу» (хотя проезжал мимо раз в неделю по меньшей мере), его присутствие нельзя было игнорировать, как Тедди. Он был чересчур редким гостем, а Тедди – всего лишь элемент интерьера. Не доходя до стойки старик на мгновение замешкался, прислушиваясь к разговору. Под гнетом его внимания беседа захромала, зачахла и издохла вовсе. Тогда он звучно хрюкнул в бороду и без слов двинулся дальше.
У него были свои соображения на предмет того, откуда все беды.
Дискуссия не возобновилась, покуда старик не заказал у Тедди большой стакан красного вина и не ухромал в темные глубины бара.
– Бедолага! – выдавил Главный по Недвижимости, первым одолевший мимолетную нервозность, повисшую над столом.
– Да уж! – согласился лесоруб в помятой серой каске.
– И чистую правду про него говорят.
– Виной – вино?
– Дешевый портвешок. Вроде Стоукс ему ящиками подгоняет, ящик в неделю.
– Дело дрянь, – сказал кино-прачечный магнат.
– Цок-цок-цок! – сказал брат Уокер: он научился сострадательно цокать языком по «Джо Палуке» [14]14
«Джо Палука» (1930–1984) – спортивный комикс Хэммонда Эдварда «Хэма» Фишера о добродушном и глуповатом боксере.
[Закрыть] и полагал, что это междометие прямо так и произносится.
– Да уж. Паршиво дело.
– Мужик валил лес до черта много лет. Позор!
– Позор? – переспросил лесоруб. – Да это преступление, мать-перемать… простите, брат Уокер, – но я принимаю близко к сердцу. – И, совсем войдя в раж, припечатал чумазый кулачище к столу: – Это, мать-перемать, преступление! И грех! Такой вот старый горемыка, вроде него, имеет право на – слушайте все! – на пенсию и учет трудового стажа! Разве не об том распинается Флойд Ивенрайт уж два года как?
– Все так, все верно.
Они снова были на коне.
– Беда этого города в том, что мы не можем рулить той самой организацией, которая создана, чтобы нас защищать: профсоюзом.
– Господи, а разве Флойд не то же самое говорит? Он говорит, мол, этот Джонатан Бэйли сказал, Ваконда на годы отстала он других городов лесорубов. И я держусь того же самого мнения.
– А это самое мнение выводит нас прямехонько на сами-знаете-кого и его упертую родню!
– Точно! Именно!
Мужчина в каске снова грохнул кулаком по столу:
– Позор!
– И хотя сам я лично в чем-то даже восхищаюсь Хэнком и его семейством – черт, да мы выросли вместе! – я считаю, все корни наших бед в них. И если куда и наставить пушку – то аккурат на тот дом, так я полагаю.
– Аминь, брат.
– Еще какой аминь! А теперь все слушайте! – вновь потревоженный всплеском агрессии, Тедди поднял глаза. – Если кому и грозить пальцем – то все мы знаем, в кого им тыкать!
Сквозь натираемый бокал Тедди видит перст, грозно воспрянувший из чумазого черношерстного кулака.
– Да, прямой наводкой в этот проклятый домище!
…музыкальный автомат стрекочет, лопочет, пульсирует цветом. Жужжит электрический фасад. Мужчины тихонько дышат в унисон. Перст, шишковатый и упрямый, озаренный вечерним солнцем, медленно поворачивается, будто стрелка компаса. Дом. Суровая громада, чернеющая на заре, уже звенящая утренними хлопотами…
– Да, наверно, ты прав, Хендерсон.
– Еще б я был не прав! И если тебе нужно мое взвешенное мнение – в них все наши проблемы!
Из кухонного окна вырываются свет и крики; смех, ругань. «Просыпайся и встряхнись, ребята! Старик вас опередил, хоть он дряхлый и увечный!» И оглушительный запах жареных колбасок. Это колокол Хэнка. Как раз в его вкусе. Это по Хэнку звонит его колокол.
А из-за стойки бара, чураясь солнечного света, Тедди следит за мужчинами, прислушивается к их доводам – и в глубине души уверен, что проблема не в финансах: пока вели они свой кретинический диспут про оборотные капиталы, капитал Тедди вырос почти на двенадцать баксов – и это среди бела дня. И у него серьезные сомнения в том, что все беды города следует валить на крылечко дома Стэмперов. Нет, проблема в другом. По его взвешенному мнению…
– Кстати, Хендерсон, коль уж ты завел речь о Флойде: я его целый день не видел, а то и больше…
А к западу от дома в своей лачуге на буро-глинистом берегу Индианка Дженни просыпается, встает с раскладушки и натягивает платье, некогда алое, но вылинявшее до буро-глинистого, принимается вопрошать, кто повинен в плачевном состоянии ее дел и куда запропастилась чертова медаль Святого Христофора. На юге же Джонатан Бэйли Дрэгер вглядывается в дорогу перед собою в поисках места, где бы переночевать на пути в Орегон. На востоке почтальон пытается разобрать каракули на трехцентовой открытке и уже близок к капитуляции.
– Да, где Ивенрайт?
– На севере, в Портленде. Пытается раз и навсегда уладить то самое дело, о котором мы тут толкуем.
Кулак стискивается крепче, но перст по-прежнему указует. Старый дом безмятежно завтракает, по-прежнему шумный и гомонливый, ему и невдомек, что по всей округе вздымаются гневные персты и тычут в него, будто копья охотников, кольцом обложивших кабана…
На севере Флойд Ивенрайт восседал, будто воздушный шарик, втиснутый в костюм за сорок долларов: тугой, непроницаемый, надутый. Онусердно перепахивал толстую папку желтых бумаг – и допахал до самой сердцевины. Бумаги, некогда свеженькие и хрустящие, ныне валяются перед ним на столе кипой прелых павших листьев. На листах различаются капельки пота. Его руки всегда потеют обильно, когда не заняты своей, ручной работой. Хотя на самом деле он и не припомнит, чтоб они когда-нибудь потели. Сейчас же, утирая лоб и мелкий красноватый нос, он не узнает своих рук. Они кажутся оголенными и нервными, чужими. И будто все мозоли сошли. Занятно. И не подумаешь, что можно вот так вот свыкнуться с мозолями, верно? Мозоли – это как сапоги крепкой толстой кожи и с рифлеными подошвами. Когда ты в них – не замечаешь их тяжести, но стоит переобуться во что другое – и земля под ногами до конца дней будет казаться непривычной и зыбкой, даже если годами не носишь ничего тяжелее полуботинок.
Утерев лицо, Флойд посидел недвижно, зажмурившись. Глаза устали. И спина устала. Да весь он, оптом, чертовски устал! Но дело того стоило. Он знает, что произвел нужное впечатление на этого лизоблюда. И он доволен отчетом. Там – убедительные доказательства того, что «Лесопилка Стэмпера» совершенно, господи боже мой, точно обязалась поставлять кругляк «Тихоокеанскому Лесу Ваконды». Неудивительно, что ни старик Джером, ни еще кто из шайки «ТЛВ» не парятся из-за этой уже месячной забастовки. Ребята могут бастовать, покуда в аду лава не замерзнет, – а убытка не выйдет. Пока Стэмпер и его паршивое семейство рубят лес для «ТЛВ»! Все обстояло еще хуже, чем он полагал. Он-то думал, Джером связался со Стэмпером и, возможно, заключил некую сделку на поставку древесины в будущем, чтобы компенсировать убытки от забастовки. Флойд заподозрил это, приметив, с каким пылом и жаром стали вдруг работать Стэмперы. И уже один этот факт был хуже геморроя: они вкалывают, когда весь город ушел в отказ. Поэтому он написал Джонатану Дрэгеру, а тот назначил профсоюзное расследование. И, господи всеблагой, что же выявило это расследование? Оказывается, еще в августе Стэмпер сговорился с «ТЛВ» о заготовке бревен и складирует их у себя, чтоб никто не узнал. Выходит, эти сукины сыны с того берега реки не только работали как обычно, когда весь город, стиснув зубы, бастовал, – они стригли двойные, а то и тройные купоны!
Его глаза резко распахнулись. Он сгреб неряшливую кипу бумаг и пихнул их в светло-коричневую папку.
– Сгодится! – молвил он, кивнув тощему конторскому лизоблюду, что сидел напротив и нервно барабанил пальцами все то время, пока Флойд изучал доклад. Казалось, этот человечек не желает расставаться с Флойдом.
– Да, я слышал, вы учились с Хэнком Стэмпером в одной школе? – уточнил он слишком приятельским, на вкус Флойда, тоном.
– Неверно слышал, – холодно ответил Флойд, избегая смотреть на собеседника. Взял банку пива свободной рукой, сделал глоток. Он знал, что клерк за ним следит. Знал, что каждый его чих и вздох фиксируется в памяти этого тщедушного, узкоплечего ябеды – и обо всем будет доложено мистеру Дрэгеру. И сам отчет, хоть был он о другом, – тому свидетельство: этот проныра и комариной реснички не оставит незамеченной. И его доклад Дрэгеру будет не менее детальным. Флойда тошнило от подхалимской ухмылки этого задохлика, и аж руки сводило – так хотелось кулаком размозжить пучок этих липких пальчиков. Его бесило, что подобный человечишко в принципе как-то связан с профсоюзом. И Флойд пообещал себе: лишь только он подружится с ребятами наверху – добьется, чтоб этого склизкого змееныша выперли. Но чтобы произвести впечатление на тех, кто на вершине, – сначала приходится якшаться с подонками на дне. Поэтому он хранит бесстрастное лицо, держит спину прямо – и заставляет себя снова глотнуть выдохшееся пиво.
– Ну, мне так говорили, – напирает человечек.
Ивенрайт поднимает свои натруженные глаза на этот вкрадчивый голосок и прикидывает успех своего визита. Он ради этого доклада гнал машину из самой Ваконды. Хотел проверить себя на этом человечке, перед тем как выйти непосредственно на Дрэгера. Он угробил почти час на поиски дома этого лизоблюда в лабиринте портлендских улочек. Прежде он бывал в городе лишь раз, и к тому же в такой ярости и досаде, что все вспоминается в красном мареве. Тогда его друзья по команде во Флоренсе скинулись, чтоб оплатить ему проезд на турнир Кубка Штата. Они совали ему билет и утешали: «Тебя должны были взять, Флойд. Ты был лучшим защитником. Тебя просто кинули!»
Это кидалово – а затем и благотворительность – разом всколыхнулись в нем от одного вида реки и огней Портленда, вновь расплывшихся красным маревом. Он блуждал по городу, вглядываясь в указатели сквозь ожившую пелену гнева. И ему некогда было поужинать. И дрянное пиво жгло кишки. И глаза пылали; и нечеловеческие усилия требовались, чтоб выдать свою постыдно малую скорость чтения за намеренную дотошность. И его спина болела от необходимости сидеть прямо, втянув живот. Но сейчас, глядя на лицо этого человечка, Флойд понял, что справился. Он видел, что тот впечатлен своей первой встречей с окружным координатором из Ваконды. Вполне достаточно впечатлен и благоговеет. Флойд нарочито поставил пивную банку на стол и вытер руку о штанину.
– Нет, – сказал он. – Не совсем так.
Он говорил убедительно и со значением: когда-нибудь он будет давать пресс-конференции в подобной манере.
– Нет, я учился во Флоренсе, это в десяти милях к югу от Ваконды. А туда я переехал уже после школы. А слышать ты мог, – он сделал паузу, нахмурил брови, будто припоминая, – что мы оба играли, в защите и нападении, в команде… каждый в своей. И целых четыре года сходились лицом к лицу. Даже на Кубке Штата.
Был небольшой риск – но Флойд сомневался, что этот пижон разбирается в спорте достаточно хорошо, чтобы понимать: в принципе не мог Флойд повстречаться с Хэнком на Кубке Штата, если их команды – из одного округа. Он мельком глянул на часы, поднялся.
– Что ж, у меня впереди долгий путь.
Эта крыса в рядах профсоюза тоже соскочила с табуретки и протянула лапку. Ивенрайт, которому когда-то приходилось бегать за пятьдесят ярдов и мыть свои мозолистые ладони в ручье, чтоб нагрянувшая с визитом профсоюзная шишка снизошла до рукопожатия, теперь взирал на пижонскую кисть так, будто у нее между пальцами клопы.