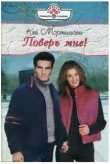Текст книги "Порою блажь великая"
Автор книги: Кен Элтон Кизи
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Они смотрят, как канат подползает ближе.
– Вот, когда конец там, где надо, дерни два раза. – Гудок свистит дважды. Канат замирает. Чокерный трос содрогается на весу, будто в омерзении от собственной грязи. – О'кей. Теперь смотри. Покажу тебе еще разок.
(Старик, значит, заявил, что в Библии сказано, будто всем ниггерам с рождения предначертана участь рабов, ибо кровь их черна, как кровь Сатаны. Вив немного поспорила, а потом встала, подошла к оружейной тумбочке, где у нас хранится семейное издание Библии с именинным календарем, и давай листать, а Генри только пялился злобно.)
Повторив процедуру, Хэнк обернулся к Ли:
– Ну что, усвоил? – Я кивнул, решительно, как мои сомнения. Братец Хэнк извлек из кармана наручные часы, глянул на них, завел и положил обратно. – Я тебя проведаю, когда смогу, – пообещал он. – До полудня мне нужно поставить мачту на том холме, потому как сегодня-завтра придется уж передвинуть лебедку на новое место. Ты уверен, что готов?
Ли снова кивает, плотно стиснув губы. Хэнк говорит:
– Тады лады! – и идет, с треском продираясь через кустарник, к обшарпанному грузовику. – Эй! – Через несколько шагов он оборачивается. – Бьюсь об заклад, перчатки ты так и не сподобился захватить, ага? Ну само собой. Вот. Возьми мои.
Ли ловит пару перчаток, связанных тесьмой, и лопочет:
– Спасибо, спасибо огромное. – Но Хэнк уже снова крушит кустарник…
(Отыскав в Библии нужное место, Вив зачитывает вслух: «Едина кровь всех людей». И захлопывает Библию. И говорю вам: старик так взбеленился, что… что наверно, он бы с ней вообще с тех пор больше ни единым словом не обмолвился бы, кабы она не стала собирать нам обеды на работу…)
Ли теребит перчатки, сам сгорает от стыда и ярости и испепеляет взглядом удаляющуюся спину брата. «Вот гандон! – безмолвно бросает он вослед. – Напыщенный, надутый гандон! Возьми мои! Ха, будто правой рукой ради меня пожертвовал. Да я готов поставить все свои капиталы, когда-либо грядущие, на то, что в этом грузовике у него не меньше дюжины таких перчаток!»
Хэнк, закончив инструктаж, пошел прочь, предоставив мне разбираться дальше самому. Я посмотрел, как он топает через ягодник, затем глянул на трос, затем – на ближайшее поваленное дерево и, распалившись энтузиазмом соперничества, с дальним прицелом, как давеча, напялил перчатки и приступил…
После ухода Хэнка Ли снова бросает проклятье и рывком натягивает перчатку, жестом утрированной пародии на салонную ярость комильфо, но элегантность его стиля нарушается, а негодование скукоживается, когда из двух пальцев второй перчатки выпадают плотные, слипшиеся от пота ватные тампоны, предохранявшие нежную кожу Хэнковых обрубков…
Работа и впрямь была простой – по сути. Простой, спиноломный такой труд. Но если чему и учат в колледже, так тому, что лиха беда начало: сдай хорошо свою первую сессию – и гуляй смело весь семестр. Вот и в тот первый день я мечтал, что утру нос братцу Хэнку одним махом и разом сравняюсь с ним, прежде чем эта работа сломает мне хребет…
Первый выбранный им ствол покоится на бугорке, в постели из бурой травы. Ли направляется туда. Кажется, будто маленькие красные цветочки с серно-желтыми венчиками сами расступаются перед ним и его тросом. Он перебрасывает крюк через комель, висящий в воздухе, там, где бугорок обрывается стеной оврага. Дергает трос, затягивая петлю. Отступает, чтоб оценить проделанную работу, слегка озадаченный: «Вроде ничего особо сложного…» Возвращается к сигнальному проводу. Гудит свисток на лебедке. Бревно шевелится, разворачивается срезом к мачте. «Ничего такого сложного…» Он оборачивается – не смотрит ли на него Хэнк? – и видит брата, как раз когда тот скрывается за гребнем, по которому тянется соседний трелевочный трос. «Куда это он? – Ли озирается, прикидывая, какое бы дерево подцепить следующим. – Он что, к другому тросу направляется?» (Да, все дело в обедах, которые собирала для нас Вив…) Хэнк, минуя парня у другого сигнального провода, советует ему подналечь: «Ли одну штуку уже спаковал», – и шагает дальше, к лесу… (Да уж, поверьте уж, на порубке порубать – дело вдвое более важное, чем дома, потому как к полудню успеваешь зверски проголодаться. А уж для такого чревоугодника, как Генри, обед – это как матч Высшей лиги. Поэтому когда Вив отобрала у Джен готовку обедов – на том основании, что Джен беременна, это Вив так объяснила, хотя я всегда подозревал, что ей просто хотелось снова завоевать батино расположение, – вот, тогда Генри как-то сразу позабыл все эти глупости и про Библию, и про черную кровь. И не то чтоб обеды Джен какие-то несъедобные были, но… и только-то, что съедобные. А обеды Вив – они не просто съедобные, они бесподобные. Это просто праздник вкуса и брюха. И не только что сытные, щедрые – в них всегда что-то особенное…)
Второе бревно ушло так же легко, как и первое. Когда его снимали, Ли глянул на тот гребень в нескольких сотнях ярдов: оттуда сигнала все еще не поступало. Ли видит, как сквозь ольховые заросли пробирается фигурка с тросом на плече. И хотя на фигурке этой даже свитер другого цвета, Ли вдруг проникается уверенностью в том, что это Хэнк. «Заменил того нерадивого стропальщика!» Натягивается фал над головой Ли, и со все возрастающим возбуждением смотрит он, как, избавившись от второго бревна, возвращается, обдирая ветви, чокерный трос. Ли хватает его еще до полной остановки и что есть прыти тащит к очередному бревну, не теряя времени даже на то, чтоб полюбопытствовать успехами конкурента, в котором предполагает брата… (Да, в ее обедах всегда есть что-то особенное, непредсказуемое – нечто большее, чем сэндвичи, печенья и яблоко. Что-то такое, что смакуешь с королевским достоинством и чем хвастаешься перед всяким сбродом с их плебейской снедью. Но главное, обеды Вив скрашивают предвкушением первую половину дня и наполняют теплыми воспоминаниями вторую…) Трос за что-то цепляется – но Ли остервенело его дергает. Трос освобождается. Ли спотыкается о ветку и падает на колени, с усмешкой вспоминая совет Джо Бена. Но и несмотря на эту заминку он успевает закрепить петлю и подать сигнал на несколько секунд раньше, чем с той стороны гребня. Даже издалека видно, с каким удивлением поворачивается голова Джо Бена: он уже держал руку на рычагах, ответственных за тот, южный гребень, и не ждал сигнала от Ли так скоро. «Во дает парень!» – и Джо берется за нужный рычаг. Затаив дыхание, Ли смотрит, как снова напрягается канат, как дерево выпрыгивает из кустов: он ведет в счете на один, даже на два, если считать его первое бревно! Как тебе это, Хэнк? (Ее обеды безусловно изменили батино суждение…) На два бревна впереди!
Но следующее дерево завалено на чистую, почти идеально ровную поверхность. Не встречая сопротивления кустов и колючек, Ли добегает до ствола с легкостью, не без удовлетворения отмечая, что соперник вынужден опять воевать с ольшаником. Но эта ровная земля вдруг порождает неожиданную трудность: как завести трос под ствол? Ли пробегает до самого пня, перепрыгивает через бревно, пыхтя движется обратно, согнувшись, вглядывается сквозь нагромождение веток, срезанных пилой Энди… но нигде ни единой щели: ствол на всем своем протяжении, от комля до самой верхушки, покоится на гладкой каменистой почве, утонув в ней на пару дюймов. Ли выбирает место поудобней, встает на колени и подкапывается под кору руками, словно собака, выцарапывающая суслика из норы. За спиной он слышит гудок от того парня, за грядой, и принимается рыть почти в исступлении. Проблема с моей затеей отличиться в первый же день, даже ценой сломанного хребта, была в том, что я действительно чуть не надорвался… Проделав нору, он просовывает в нее трос, затягивает петлю, дергает сигнальный провод… Но только в первой половине того первого дня. Потом, задыхаясь, спешит осмотреть следующее бревно. «Он бы лучше рассказал, как норы сподручнее рыть, гандон!» (И вот в чем забавная штука: именно обеды Вив окончательно растопили лед и дали мне долгожданную возможность поговорить с парнем по душам…) Вторая половина дня оказалась проще: тогда я уже был в курсе, что надрывался зря… Над головой трепыхается фал. Трос возвращается. Мох на старых пнях задышал паром… и что мне нипочем не сравняться с братцем Хэнком просто потому, что он сменил измерение и сопоставлять невозможно. Солнце поднимается все выше.
К тому моменту, как Джо Бен дал долгий изголодавшийся гудок, возвещавший обеденный перерыв, Ли восстановил свое преимущество перед другим стропальщиком в одно бревно. Когда последний отголосок этого гудка затих в лесных просторах, Ли наконец позволил себе осесть на землю подле сигнального провода. Какое-то время он сидел неподвижно, отрешенно взирал на свои руки, потом стащил перчатки, осторожно, палец за пальцем. В запарке он позабыл обстоятельства, сопутствовавшие дарению перчаток. И замечания Хэнка стерлись из памяти. И злоба, и стыд от этих замечаний. Перчатки теперь существовали сами по себе, без связи с прошлым, и – Великий Боже! – как же благодарен он был им, оберегавшим его нежные, розовые университетские пальчики! Он раз сто успел об этом подумать. Тяжелую же рубаху Ли снял вскоре после ухода Хэнка, предоставив свежему ветерку сушить свой пот. Пот никуда не делся, пока Ли скакал по буеракам и грудам хвороста, продирался с неуклюжим кабелем на плече сквозь бурьян, кустарник и душные миазмы, но руки, от раструбов перчаток до плеч, за какие-то полчаса изукрасились узорами шрамов и ссадин. А картина, какую ныне являлего живот, и вовсе относилась скорее к какому-то трикотажному абстракционизму, нежели к плотскому реализму: разноцветные лоскутки, сшитые пунктирными стяжками царапин. Он предпочел спрятать это зрелище под рубашкой, и лишь дюйм или около того проглядывали на запястьях, между манжетами и перчатками. Время от времени он останавливался, тяжело дыша, в ожидании, когда Джо Бен смотает свои стальные снасти на катушки или Энди распилит очередной ствол на куски по тридцать два фута, бережно поглаживал рукав рубашки и хмурился на эти дюймы голых запястий, алевших этакими гранатовыми браслетами. Он боялся даже вообразить, на что были бы похожи его руки, если б не толстые кожаные перчатки.
Расслабившись, он позволил голове откинуться назад, пока затылок не уперся в шероховатую кору пня. Он видел, как другие работники движутся в дымке, искажавшей дистанцию, к повозке, что доставила их в этот ад. Его мутило от усталости. Он отказывался плестись эти десять миль до грузовика, даже если там его ждет самый сочный из эскалопов. Никогда больше его желудок не примет в себя пищу. И не сойти ему с этого места, как бы ни затекли ноги, как бы ни донимали эти проклятые древесные муравьи, крупные, блестящие, и кусачие, как кнопки для марли, забирающиеся под рубашку, ползающие по потному животу, и как бы ни дурманили заросли – явно сумаха, – куда Ли угораздило завалиться, как бы ни… да никак не сойти! Он вздохнул. К чему покрывать позолотой этот мир, изобличенный Данте? И он дал обет полнейшей неподвижности. Закрыл глаза. В кронах деревьев плутали обрывки песни из радио Джо:
Живу во снах… воспоминанья… вновь…
Луна… очарованье… и любовь.
Дыхание его замедлилось. Очки запотели, но это меньше всего его заботило. Он отгородился от собственного изможденного тела портьерами век… он соскальзывал в долгий, жаркий, сияющий сон… горка на детской площадке… он спотыкается на самой вершине, скользит вниз по тысяче стальных ступенек, некогда рифленых, но начисто истертых столетиями детских кед, падает на песчаный пустырь школьного двора… Из окошка младшей школы, если дотянуться до подоконника, видна доска на фасаде спортзала старшей: АКУЛЫ ВАКОНДЫ. СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ. И кто это там? Чье это имя во главе списка рекордсменов по прыжкам в высоту? А с шестом – кто шествует впереди всех? А рекорд штата в стометровом заплыве? И так далее, всю дорогу. Кто? Да бросьте валять дурака: вы знаете, кто. Это мой брат Хэнк Стэмпер. И погодите еще. Когда я стану большим. Он сам мне сказал. Он научит. Обязательно, зуб даю. Он сказал. И тогда я… В здоровом теле – одно из двух… Но я не сдаюсь. На бревно впереди. Видят боги, сегодня я не сдался…
Муравьи одолевали его. А приемник Джо сотрясал горячий воздух:
В детские годы когда-то…
Обеспечивая музыкальное сопровождение как снам Ли, так и мягкой поступи Хэнка.
Я играл во дворе до заката…
(Едва только свистали всех жрать, я направился к колымаге, а Ли нигде не видать. Прихватив два пакета, я сказал Джо, что пойду поищу Малыша. Пошел – и нашел: он свернулся калачиком в траве, шагах в пяти от опорного пенька…)
Пока мама не крикнет в окно…
Губернатор Джимми Дэвис [38]38
Джимми Дэвис (Джеймс Хьюстон Дэвис, 1899–2000) – луизианский исполнитель кантри-блюза и госпелов, автор ряда крайне популярных песен; дважды избирался губернатором Луизианы.
[Закрыть] перебирал свои сакральные воспоминания стальнострунным гитарным перебором:
Всем домой: ужин стынет давно!
И тени росли под вечерней росой,
– а Хэнк долго стоял и изучал вновь обретенные братом царапины и мозоли.
В дреме Ли пытался подчинить себе сюжетное развитие сна, как обычно ему удавалось, но сейчас утомленный мозг игнорировал его потуги и продолжал дрейфовать своим вольным курсом, прямиком на рифы благополучно позабытых впечатлений детства. Отчаявшись перехватить управление, Ли уж почти что сдался на милость своего сна, когда какой-то особо наглый древесный муравей решил провести глубинную геологическую разведку территории.
(Я уж присел рядом с Малышом и приступил к еде, решив дать ему отдохнуть, как вдруг он разразился диким воплем и давай охлопывать себя по всему телу. Когда он успокоился, я утер губы рукавом и ткнул пальцем в распах его рубашки, с которой он содрал половину пуговиц.
– Это тебя в колледже такому стриптизу научили?
– Сукина букашка тяпнула меня! Блядь!
– Ты посмотри. Он и материться умеет. Ну кто бы мог подумать, – говорю я, беру с земли второй пакет и протягиваю ему. Он все еще потирает место муравьиного укуса.
– Да не буду я есть эту дрянь! – орет он, полуистеричный от такого неожиданного пробуждения. Я ухмыляюсь. Знаю, что у него на душе. Однажды со мной тоже такое было: заснул на воздухе, а проснувшись, обнаружил бурундучка в ботинке… но я молчу. Пожимаю плечами, кладу пакет на землю, возвращаюсь к собственному харчу. Парень смущается. Точно так же, как я давеча утром, когда на Джоби рыкнул. Делаю вид, будто не замечаю. Жую, мурлычу себе под нос, откинувшись спиной на рыхлую кучу трухлявого валежника. Тишь да гладь, а с этим обедом – так вовсе божья благодать. Думаю, как раз подходящее у меня настроение, чтоб перекинуться с парнем парой слов – и чтоб звучали они чуточку дружелюбнее приговора к повешению. Главное – начать: лиха беда, как говорится…
Я роюсь в своем пакете и выстраиваю перед собой на листе вощенки вареные яйца, оливки, яблоки и термос. Он ведет себя так, будто собирается снова уснуть, а еда ему и даром не нужна, но пронзительный горчично-уксусный аромат этих нечеловечески аппетитных яичек звенит призывно, что твой обеденный гонг. Он снова распрямляется и будто бы невзначай, одним пальчиком раскрывает свой пакет… так, совершенно случайно… из чистого любопытства… снизойти – не снизойти?
– Я, кажется, закемарил, – говорит он, глядя в землю. Это он насчет своей вспышки в ответ на любезно предложенный мною обед. Что-то вроде объяснения-извинения. Я снова ухмыляюсь и киваю – дескать, все понял…)
Радиация спалила
Сердце бедное мое, —
сетует радио Джо. Лесная сойка стрекочет укоризненно, страстно и голодно, наблюдая их трапезу. Если не считать немузыкального урчания Хэнка, в такт ритмичной работе челюстей над бутербродом с олениной, больше не слышно почти никаких иных звуков. Разве лишь – со стороны грузовика, где едят остальные, до Хэнка с Ли доносится колокольчатая симфония трепа, смеха и музыки в стиле вестерн, накатывает, захлестывает ласковыми обессиленными волнами. Радио играет. Сойка стрекочет. Время от времени Хэнк порывается подурчать радио Джо, а в остальное время передразнивает птицу свистом. Друг с другом братья не заговаривают, жуют молча. Они сидят лицом к лицу, но глаза их избегают встреч. Поднимая же взгляд от еды, Хэнк со всепоглощающим вниманием изучает елки за спиной Ли, мысленно замеряя, заваливая, расчленяя и даже распуская на доски каждое дерево. А Ли и не поднимает глаз. Он всецело поглощен поглощением обеда. Ему ясно, что этот пакет со снедью – еще один дар той девушки, с которой он до сих пор так и не встретился, но к которой проникается все большим уважением. Пища приготовлена для человека, отправляющегося на трудную работу, – как калорийное топливо для вездехода, – но, опять же, сквозило во всем, чего ни касалась эта барышня, нечто неуловимое, но неизбывное, что поднимало даже пошлый пакет с обедом над вещами банальными. На самом дне пакета Ли находит, будто рождественский подарок, завернутую в фольгу плитку шоколада с орешками. Ли откусывает самый уголок и смакует кончиком языка.
– Жена сама шоколад варит?
Хэнк кивнул:
– Потому-то я обычно и ем особняком от этих прощелыг. Все так и норовят угоститься десертом Вив.
– Очень вкусно.
Еще секунду Хэнк поразглядывал деревья, потом решительно подобрал губы, внезапно повернулся к Ли и подался вперед. (И тогда, за едой, я наконец заговорил…) Он выставил вперед руку, и три пальца слегка согнулись, будто стиснув некий невидимый предмет.
– Хочешь знать, Малой, что я делал этим утром? Давай расскажу… – Голос его горит азартом. И Ли азартно вслушивается в натужные слова Хэнка: ему не терпится услышать об исходе сегодняшней дуэли на чокерах… – … значит, эта новая мачта под шкивы… Знаешь, старик… – Увечная рука продолжает хватать воздух, словно оттуда он вылавливает нужные слова. – Видишь ли, я, так сказать… – Ли ждет с надеждой и нетерпением, а Хэнк отвлекается, чтобы достать пачку сигарет. Одну вытряхивает и протягивает Ли, другую сует в уголок рта. – …Как бы тебе этообъяснить? Вот. Дерево под мачту должно быть самым большим на самом высоком холме, что только можно найти. Это вродь-как опорный столб по центру нашего цирка-шапито. И его рубят последним, понимаешь? После того, как мы зачистим всю остальную арену. Ага? И я, значит, обвешиваюсь снаряжением, двадцать фунтов всей этой долбаной принадлежности, а то и больше. Ножовка, топор, крюки, веревка. Охватываю ствол шлейкой, для упора, в перекидочку, – и лезу на верхотуру. Знай только ветки вниз летят. – (И я повел рассказ о том, как подготовить мачту. Сначала – просто чтоб время скоротать. Я прикинул, что, если ему по кайфу было смотреть, как валят дерево, то, наверно, и про верхолазанье послушать не без интересу будет…) – Значит, взбираешься и перекидываешь опорную петлю, которая вокруг ствола. Выбираешь трос помаленьку, потому как ствол все тоньше. А другой рукой – срубаешь сучья: кряк-хряк, сучьям сучья смерть, как говорится. А больших-то веток до самой кроны не много попадается. Но все же. И вот тут – глаз да глаз, потому как один неверный взмах – и ага. Сколько уж верхолазов собственную шлейку подрубали. Так и Перси Уильямс спекся, муж двоюродной сестры Генри. Хватанул по собственной шлейке – да и ухнул. Упал на ноги – их и переломал, но по самые плечи. Поэтому – берегись! Особенно берегись – острых сучьев, что мы зовем «кишкодралами». И думай, на что ногами опереться, а то проедешь в обнимку со стволом футов двадцать… Морковку чистил? Вот для груди и живота – примерно то же самое. Что тебе еще рассказать, Малой? Да просто страшно там, как на страшном суде. Вот говорят, будто первая мачта – самая высокая, а остальные – так, дело привычное. Ерунда: каждая мачта самая высокая. И чтоб мне сдохнуть и не встать, конкретно эта, сегодняшняя, точно уж с пару Эверестов вымахала, тысяч сорок футов!
(Но знаете? Когда он смотрел на меня пустым взглядом из-под этих стекляшек, я вдруг понял, что он и понятия не имеет, как это страхолюдно высоко. И никак ему это не втемяшить. И теперь мы уже не просто время коротали: я хотел рассказать ему кое-что, встряхнуть его, растормошить, черт бы его побрал! Даже если б для этого пришлось врезать ему по сопатке, как тому парню в Рокки-Форде. Поэтому я повторил: «Сорок тысяч футов!» И он снова кивнул в ответ.) Ли теряется в догадках: Хэнк в принципе-то намерен снизойти с вершин своей акрофобии к делам земным, чокерным? (Я, конечно, безмерно далек от того, чтоб считать этот кивок за убедительный, потому втолковываюеще раз: «Да, сорок тысяч футов!» – и надеюсь. На этот раз он кивнул хоть с каким-то разумением – и я продолжаю…)
– И вот… вот ты на вершине, там, где ствол всего-то дюймов восемнадцать в обхвате – и тут-то, старик, начинается веселуха. Чуешь ветерок? Здесь не слишком-то штормит, верно? Внизу и десятой доли того ветра не встретишь – а там болтаешься, ровно пьяный. Но ты крепишь себя веревкой, в пару оборотов, и берешься за ножовку. Вжик-вжик-вжик… пока не почувствуешь, что затрещало, закачалось… крык-крык… Вот, попробуй оценить остроту ситуации: прямо над тобой нависает дура футов тридцать длиной – и дерево за собой клонит… вместе с тобой, разумеется. И, блин, я уж не знаю, может, градусов на пятнадцать всего и клонит, но оттуда кажется, будто почти параллельно земле ложишься! А когда верхушка наконец отваливается – ушш! – тебя швыряет обратно! И вот тебя мотает, что вымпел на ветру. – (Я видел, конечно, что он по-прежнему не получил ни малейшего представления об этих ощущениях – об эмоциях верхолаза, готовящего мачту к оснастке…)
Ли пытается встрять в паузу, начинает что-то рассказывать о собственных впечатлениях от этого первого утра в лесах: «А мне бы внизу не помешала хоть малость того ветерку… Смотри. – Он двумя пальцами распахивает на груди влажную рубаху. – И кто бы подумал, что в парне из Йеля столько соку, а? Черт. Тот коллега на соседней делянке – кто бы он ни был, он задал мне жару». – И он с надеждой смотрит на брата…
(И я задаю себе вопрос: как ему это объяснить? Как дать хоть какое-то понятие? Как вырвать его, как-грится, из тумана – и не пособачиться?) Хэнк не отреагировал никак – и Ли закатывает штанину, чтобы показать синяк на лодыжке, крупный и изжелта-синий, как желток, сваренный вкрутую. Касается пальцем, корчит мученическую гримасу: «Был момент, сразу, как я обзавелся этим самоцветом, когда я готов был дать слабину, послать все к черту, все эти цепи и тросы, и вообще признать свое поражение. „Да у тебя закрытый перелом, – сказал я себе. – Хочешь сделать его открытым, гоняясь за тем парнем?“ Пфф! – он дует на рану. – Пффф! Готов спорить, к ночи он расцветет всеми цветами радуги, видишь?» – «Чего?» – «Вот…»
Уделив наконец внимание синяку, Хэнк смотрит на него с задумчивой усмешкой, но ничего не говорит. Сойка щебечет равнодушно – один Ли поглощен изучением своей многострадальной лодыжки… К середине дня я искренне гордился своей выносливостью, и, сказать по правде, надеялся услышать хоть какую похвалу от братца Хэнка. Вдруг Хэнк отрывает взгляд от ноги Ли, прищелкивает пальцами. (И тут меня осенило…)
– Эй! Сейчас покажу, к чему я, Малой! Глянь! – (И я вытянул вперед обе руки, чтоб он видел. Как всегда с верхотуры, я был изодран до чертиков, весь саднил и кровоточил, а опорная рука, которой я цеплялся за шлейку, в костяшках напоминала кусок сырой говядины.) – Видишь? Вот я к чему. Я уж до середины забрался, когда, блин, вспомнил: а где сраные перчатки? До середины. Въезжаешь, о чем я?
Ли отпускает штанину и пялится на протянутые руки. И снова к его полному желудку подкатывает тошнота, развеянная было полуденным отдыхом, но ему удается с нею совладать. Но вместо похвалы я получил отчет о всех дополнительных работах, какие успел проделать Хэнк, поджидая меня… «Въезжаешь, о чем я, Малой?» – Хэнк повторяет свой вопрос, и Ли усилием воли заставляет себя посмотреть брату в глаза. «Да, въезжаю, о чем ты», – отвечает он, стараясь, чтоб в голосе не прозвучала жгучая обида, саднящая нос и глотку.
(А когда я спросил его, он посмотрел на меня, впервые по-настоящему посмотрел, с самого своего прибытия, и говорит: «Да, въезжаю». И впервые с его прибытия я подумал: чес-слово, дело идет на лад. Думаю, он не окончательно потерян для нас. Колледж, шмолледж – но мы еще можем найти точки соприкосновения. Да, сэр – у нас отлично выходит. Джоби и Джен зря преувеличивают. Мы с Малышом споемся в один тон.) И всякий кураж слетел с меня: он всегда будет на шаг впереди, а мне придется его нагонять. Он меняет правила гонки на бегу, а то и направление. Он бежит то на двенадцать лет впереди меня, то в другую сторону, то вообще заявляет, что это совсем другой забег, не тот, в котором участвую я. Он предлагает мне померяться силами на чокерах, а когда я уматываюсь до полусмерти, сообщает, что сам в это время лазал по деревьям… Он никогда не даст мне ни единого шанса! Визжит гудок на лебедке: «тум-тутутум-тум». Хэнк достает из кармана часы: «Черт. Второй час уже. Целый час просачковали. – Прикладывает ладони рупором ко рту, весело кричит в направлении мачты: – Что говоришь, Джоби?.. – Джо Бен отвечает еще одним „тум-тутутум-тум“. Хэнк смеется: – Ох уж этот Джо». Наворачивает колпачок на термос. Почесывает подбородок, пряча улыбку… (Так я подумал. Но потом кое-что случилось. Я спросил парня: «Нудык, Малой… и что ты думаешь, проболтавшись несколько часов на конце чокерной цепи?») Ли отворачивается, бережно пакует остаток шоколада в фольгу. «Я думаю, – говорит он глухо, – что это сопоставимо с чисткой Авгиевых конюшен. Я думаю, что таскать этот дурацкий трос по ягодным кустам и колючим зарослям – одно из самых жалких, утомительных, изматывающих и… и… и… самых неблагодарных занятий, какие только возможны на этом долбаном шарике, если ты, конечно, хочешь знать мое мнение о строплении чокеров».
(И вот что он ответил: «Да засунь ты все свои чокера и весь свой бизнес себе в жопу!»)
Они стояли, и воздух между ними все еще сотрясался от слов Ли. Хэнк отступил на шаг, смотрел исподлобья. Ли, трясясь негодованием, пытался протереть очки потной рубашкой. А сойка в близлежащем молодом кедровнике, вдохновленная бранью Ли, защебетала как никогда громко и радостно.
(Вот, значит, как оно обернулось. Как раз когда я думал, что мы поладили. Это было превыше моего разумения. Что ж, старина Хэнк, сказал я себе, вот и будет тебе о чем подумать остаток дня. И я пошагал к своим снастям, оставив дипломатию кому другому.)
Сойка замолкла, Ли надевает очки, смотрит на брата сквозь них. «Вот, собственно, – говорит он, пожимая плечами, – что я думаю о твоем замечательном лесоповальном деле».
Хэнк с легкой улыбкой изучает стоящего перед ним рослого парня.
– Ладно, Малой, ладушки. Дай уж и я тебе кое-что скажу… – Он достает из кармана пачку сигарет, закуривает. – Знаешь ли ты, что любой работяга, хоть раз ободравший лодыжку или сломавший палец, согласится с тобой? Если уж говорить о сути вещей – он подпишется под каждым твоим словом, до последней запятой. Это черная, трудная, грошовая работа. Это чуть ли не самый опасный способ заработать на хлеб и масло. Порой так и хочется послать все к чертовой бабушке, лечь на землю и сдохнуть.
– Так какова же причина…
– Ли, свои… причины я только что обозначил. В этой истории с мачтой. Объяснил, как сумел. И эта моя причина очень похожа на причины Джо Бена, или Энди, или даже этого урода Леса Гиббонса. Но вот что я пытался понять, Малой… – он собирает объедки в пакет и швыряет его в овраг – …какая причина может быть у Лиланда Стэмпера? – Подтягивает штаны и направляется вверх по склону, оставив этот вопрос животрепетать перед Ли. – Подъем, еноты! – покрикивает он на толпу у грузовичка, прихлопывая в ладоши. – Не одолеем с первого раунда – добьем в следующем!
А радио Джо вторит ему:
Машинист, воды не жалей в котле.
Всех быстрей этот поезд на южной земле,
Двигай вперед…
Парень смотрит, как он снова исчезает за южным гребнем за пологом зеленой хвои. Сойка в кедровнике стрекочет без устали, вокалом сиплым и сухим, под стать полуденному зною. Ли снова протирает очки: надо бы починить те, прописанные. Он выжидает у своего пенька, пока сосед не подает первый сигнал на подбор. Тогда Ли вздыхает, встает, на деревянных ногах идет за своим тросом, даже не глядя в сторону бывшего соперника. Ворчит на этого парня, кто бы он ни был: пусть хоть все кровеносные сосуды себе понадрывает, если ему так угодно. А мне бы просто до вечера дожить. И все. Просто дожить до вечера.
Но даже при этом, даже при том, что с полудня я прохлаждался, первый день почти совершенно выжал меня, и физически и умственно, как целая неделя утомительного труда. Я по-настоящему не осознавал всего опустошительного эффекта почти до самого конца дня, пока мы не вернулись, не сплавились вспять по реке и не добрались до дома – под небом темным, как и благословлявшее нас в путь утром, – и пока я не вскарабкался по ступенькам к своей комнате. А вот и кровать. Она казалась мне еще желаннее, чем накануне. Если так и дальше дела пойдут, сказал я про себя, лучше поспешить с воплощением всего, что у меня на уме, до конца этой недели – ибо следующей я уже не вынесу.
Ли лежит на постели, тяжело дышит. На небе серебряный перезвон звезд предвосхищает неизбежную луну. Хэнк проверяет, надежно ли привязана лодка на ночь, и идет к дому. Там не наблюдается никого, кроме старика – тот сидит перед телевизором с гипсовой рукой на подушке.
– Ты тут один, что ли? – спрашивает Хэнк. Генри не отрывает глаз от мельтешащего на экране вестерна.
– Похоже на то. Джо со своей – на кухне. Я услал их туда: хоть минутка покоя. А Вив, думаю, в сарае…
– А Малыш?
– Только что протащил свою задницу по лестнице. Ухайдокал ты его.
– Есть малость, – соглашается Хэнк, вешая плащ. – Пойду скажу Вив, что мы вернулись… (Я ломал голову весь остаток дня, но без толку; к возвращению мы с Малышом были совсем уж на ножах; я не придумал, что бы сказать Вив, и по-прежнему в горле першило от досады. Похоже, предстоит еще одна долгая ночь…)
В спасительной юдоли своей комнаты я растянулся на кровати, как всего двадцать четыре часа назад, – слишком измотанный, чтобы даже скинуть ботинки, – но на сей раз не шел ко мне сон, распускающий клубок заботы… [40]40
Уильям Шекспир «Макбет». Акт II, сцена 2. Здесь и далее цитаты из «Макбета» в переводе М. Лозинского.
[Закрыть]
Хэнк ступает по устланному соломой полу сарая и находит Вив, погруженную в свои мысли, у задней двери – гибкий силуэт на фоне сине-черного неба. Ее ладонь покоится на деревянной ручке двери, она смотрит вслед корове, бредущей прочь во тьме. (Когда я вернулся, Вив была в сарае. Это меня порадовало…) Он подходит, обнимает ее сзади за талию.