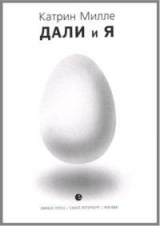
Текст книги "Дали и Я"
Автор книги: Катрин Милле
Жанр:
Эротика и секс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
«Больше всего меня страшит смерть, а воскресение плоти, важнейшая для испанского искусства тема, – это то, что мне труднее всего принять с точки зрения… жизни».
Глава III… к фениксологии
Итак, Дали забавляется, предлагая способы доступа к бессмертию, основанные не столько на религиозной концепции, сколько на научных фактах – надо сказать, истолкованных весьма вольно, – например, открытие ДНК. В 1973 году художник создает книгу-объект «Десять рецептов бессмертия». Однако наиболее убедительной оказывается изобретенная им новая наука под названием фениксология (о которой Кокто вспомнит в фильме «Завещание Орфея»), хотя и здесь мы вряд ли обнаружим научную достоверность. Во всяком случае, именно благодаря фениксологии были написаны самые волнующие страницы «Дневника гения», посвященные самоубийству Рене Кревеля. Мы уделили немало внимания нереализованным любовным отношениям Дали и Лорки [102], однако дружба, о которой свидетельствуют страницы, посвященные Кревелю, также заслуживает внимания.
Как и все физические характеристики, которые дает Дали людям, описание Рене Кревеля отличается беспощадным синкретизмом, правда, окрашенным нежностью. «Внешне он был похож на эмбрион, вернее сказать, на побег папоротника… Вы, несомненно, уже обращали внимание, какое у него насупленное, как у падшего ангела, лицо, по-бетховенски глухое, ну прямо завиток папоротника! Если вы еще не обратили на это внимание, то задумайтесь и будете иметь точное представление о том, что напоминает вытянутое, как у недоразвитого, болезненного ребенка, лицо нашего дорогого Рене Кревеля» (ДГ. 136). Конечно, судьба поэта была предопределена его именем: «Кревеля звали Rene/Рене, что, вполне вероятно, происходит от причастия прошедшего времени глагола renaitre(возрождаться, воскресать). Но в то же время он сохранил свою настоящую фамилию Кревель (Crevel), которая как бы подразумевает действие, определяемое глаголом crever– „подыхать“, „умирать“ или, как сказали бы философы, мало-мальски подкованные в филологии, „витально неодолимое стремление к смерти“». Но сходство с эмбрионом на время уберегло его. «Фениксология дарует нам, живущим, великую возможность обрести бессмертие в течение нашей земной жизни, и все благодаря скрытой способности, помогающей вернуться в эмбриональное состояние и получить возможность вечно возрождаться из собственного пепла, в точности как Феникс…» Поскольку вся жизнь Кревеля была чередованием лечения в санаториях и периодов интенсивной литературной и политической деятельности, «никто так часто не „умирал“ и так часто не „воскресал“, как наш Рене Кревель» (ДГ).
Событие, предшествовавшее рождению Дали, если не предопределило, то по меньшей мере создало предпосылки для этих фениксологических наблюдений. Старший брат художника, родившийся в 1901 году, умер за девять месяцев до его появления на свет. Родители Дали в том же неизбывном горе, что и родители Винсента Ван Гога, назвали новорожденного именем брата. Дали несколько отступает от фактов, утверждая в «Тайной жизни», что его брат скончался за три года до его рождения в возрасте семи лет. Это отступление от хронологии маскирует то, что краткий временной разрыв между смертью старшего и рождением младшего определялся стремлением родителей создать замену умершему ребенку. Дали, когда ему было уже под семьдесят, все еще злился на отца: «Когда он смотрел на меня, то взгляд его столь же был обращен на моего двойника, сколь и на меня. Он воспринимал меня как полчеловека, как лишнее существо. Моя душа съеживалась от страдания и гнева под лучом этого лазера, непрестанно копавшегося в ней в поисках того, другого, кого более не существовало» (CDD). Как в подобных условиях отказаться от того, чтобы быть всего лишь двойником и «отвоевать себе право на жизнь» (CDD)? Разумеется, отрицая то, что был рожден как замена брату; акцентированный биографизм творчества Дали направлен на личное самоутверждение. И это происходит в опровержение естественного порядка вещей. «Мало-помалу Моисей (Дали вначале сравнивал отца с Моисеем. – КМ.) освободился от своей бороды, а Юпитер от молний. Остался лишь Вильгельм Телль: человек, успех которого зависел от героизма и стоицизма его сына» (CDD). Сын порождает отца. Следует признать, что если Сальвадор Дали Куси (отец) все еще существует для нас, то лишь потому, что Сальвадор Фелипе Хасинто Дали Доменеч (сын) оживляет его черты в портретах отца (которому придано сходство не только с Вильгельмом Теллем).
Ребенком Сальвадор Дали выбирал самые неожиданные места в доме (ковер в гостиной, ящик для обуви…), чтобы справлять там нужду, сводя с ума домашних, всем семейством пускавшихся на поиски экскрементов. Интересно, знай Эренцвейг об этой «кака-церемонии», истолковал бы он ее как продление стадии свободной анальной диссеминации, первой анальной стадии? Что, если бы он попытался, рассматривая творчество как нечто большее, чем биографическая реконструкция, обратиться к еще более примитивным стадиям развития ребенка? Автор пишет: «На анальном уровне Белая Богиня соединяет в себе власть обоих родителей. Ее агрессия усиливается, и угроза кастрации уступает место угрозе смерти. <…> В конце концов, божественный ребенок впитывает созидательную мощь родителей. Он сливается с чревом матери; в едином акте он вынашивает, исторгает и хоронит себя самого, – маниакально-океанический образ, с трудом визуализируемый в фазе крайней недифференцированности». Похоже, Дали является образцовым примером, иллюстрирующим теорию Эренцвейга. Дали, сумевший превозмочь угрозу кастрации и смерти, воплощаемую в его глазах самкой богомола; Дали, провозгласивший: «Сальвадор Дали был сотворен в чреве, сотворенном Сальвадором Дали. Я есмь одновременно отец, мать и я сам, и быть может еще отчасти божество» (CDD); Дали, который нравился себе настолько, что именовал себя «Божественным Дали». И наконец, Дали, творивший двойные образы, чья высшая недифференцированность делает границы между ними почти невидимыми.
Глава IV. Scanning [103]
Немало иных далианских тем можно рассмотреть в предложенном Эренцвейгом ракурсе. Например, сон, а также ослабление сознания в момент перед засыпанием благоприятствуют наступлению стадии дедифференциации. Эренцвейг уточняет: «Когда частичное обездвиживание, затрагивающее рациональное мышление, ощущается как саморазрушение и даже как смерть, тогда и грезы могут обретать характер самодеструкции». Дали пишет: «Сон это разновидность смерти, или, по меньшей мере, смерть по отношению к реальности, или лучше сказать смерть реальности, но реальность умирает в любви как в грезе. Кровавый осмос грезы и любви полностью вбирает жизнь человека» («Любовь»), Значение слова «осмос» не слишком удалено от «дедифференциации».
Грезы на грани сна и пробуждения Эренцвейг называет «сумеречными». Сумерки, обволакивающие контуры реальных, воображаемых или даже духовных предметов, – это время, отведенное феномену дедифференциации. В новелле «Мечты» самые разрушительные сцены выглядят вполне оправданно, поскольку разворачиваются в обрамлении сумерек или во время сиесты, представляющей еще один момент ослабления власти сознания. Но сумерки – это прежде всего час молитвы «Анжелюс». «Именно с „Анжелюсом“ Милле для меня связаны все сумеречные и предсумеречные воспоминания моего детства, относя их к наиболее бредовым или поэтическим (используя расхожее выражение)… я очень часто покидаю городские улицы, чтобы услышать в полях звуки, издаваемые насекомыми, и погрузиться в утонченные мечты» (МТА). «Дневник юного гения» подтверждает пристрастие автора к вечерним прогулкам.
Дали возвращается к ним в «Трагическом мифе об „Анжелюсе“ Милле». Художник сообщает, что во время таких прогулок он декламировал стихи собственного сочинения, где сожалел о том, что цивилизация исказила девственное состояние мира, «разрушив таким образом идеал, который подводил ее к чистому и целостному пантеизму, восходящему к истокам вселенной». Ностальгия по девственному миру – одна из значительных тем современности. Поборники авангарда давно могли набрести на эту идею, поскольку жаждали вернуть цивилизацию к истокам потерянного рая. Ив Кляйн, если вновь обратиться к нему, предлагает в качестве решения свою Архитектуру воздуха. «Воздвигнутая» лишь из натуральных материалов – из воздуха, воды, огня и разнообразной машинерии, скрытой в почве, эта архитектура вернет поверхности земли ее первоначальное состояние, а человек обретет рай, где сможет жить нагим.
Океаническое чувство и порождающий его эффект дедифференциации приводят к пантеизму: как было показано, океаническое ощущение было как бы возвращением в пространство материнской утробы, парадоксальным образом воспринимаемой как бесконечное пространство; мы также видели, что стирание различий может доходить до стирания границ собственного «я». Напомнив, что Фрейд характеризовал океаническое чувство как религиозное состояние, Эренцвейг продолжает: «Мистика, в действительности, дает чувство полного единения с вселенной и уподобляет индивидуальное существование капле воды, затерянной в океане». В опыте Кестлера, описанном Катрин Милло, смешиваются «ужас полученной травмы и блаженное растворение во всеобъемлющем начале». Позиция Ива Кляйна представляет оригинальный вариант самопреодоления в сотрудничестве с различными художниками – что он неоднократно осуществлял, – отсюда вывод, что «мыслящий человек не является более центром вселенной, но вселенная становится центром человека». Он добавляет: «Мы осознаем, таким образом, преимущество по отношению к „головокружению“ былых времен». Итак, мы становимся «воздушными людьми, мы познаем силу тяготения вверх, в пространство, в никуда и одновременно во все стороны; сила земного притяжения таким образом покорена, и мы начнем прямо-таки левитировать, пребывая в тотальной физической и духовной свободе» [104]. Эта столь естественная жажда бесконечности может быть сведена к фразе Жака Лакана, процитированной Катрин Милло с долей юмора:
«Для любого человека, чего бы он ни хотел и что бы ни делал, бесконечность говорит о чем-то основополагающем, она ему о чем-то напоминает. И он внимает ее зову».
Мы знаем, как глаз Дали пронизывал препятствия, и не случайно художника заинтересовало фасеточное зрение мухи. В статьях 1929 года, объединенных в сборнике «Документы», фиксируется различная визуальная информация без разделения на ближнее и отдаленное, существенное и чисто декоративное. Переходя от импрессионизма к творчеству Вермеера, Дали обнаруживает, что материя является пористой, составленной из отдельных элементов, сквозь нее можно проникнуть, по крайней мере взглядом. Подтверждение этого положения он находит в теории строения атома, которая приводит Дали в так называемый «мистический период» к созданию композиций, где отдельные элементы вообще не соприкасаются, – таковы два варианта картины «Мадонна Порт-Льигата» (1949 и 1950), в духе изображений начала пятидесятых годов, таких как «расколотые» рафаэлевские головы.
Работа зрения проявляется в том, что Эренцвейг называет словом сканирование, наверняка куда менее распространенным в его время. «На уровне сознания условия гештальта заставляют нас выделять в визуальном поле значимые „фигуры“ и „фон“, не имеющий значения. А между тем для художника как раз и невозможно разделить плоскость картины на значимые и незначимые части. <…> Истинный художник, подобно психоаналитику, признает, что в творениях человеческого духа ничто нельзя считать не имеющим значения или случайным». Истинный художник входит в состояние, близкое к дедифференциации, которое «не отрицает реальности… но трансформирует ее в соответствии со структурными принципами, действующими на более глубоких уровнях. <…> Художник, стремящийся создать глубоко оригинальное произведение, не должен опираться на условное различие между „плохим“ и „хорошим“. Следует предпочесть более глубокие, снимающие дифференциацию способы восприятия, которые позволят ему охватить структуру целого и неделимого произведения искусства… и это сканирование целостной структуры предоставит художнику средства для переосмысления деталей…» Дали максимально использовал возможности этого метода интегрального просвечивания, сканированиядля создания не только красочного изображения, но и всего визуального поля. В конкретном пространстве картины двойные образы стимулируют внезапное проявление фрагментов «фона», которые, образуя дополнительные связи с другими элементами, создают различные «значимые фигуры». Приведем простой пример: выберем в картине «Бесконечная загадка» лодку и разные мелкие детали пейзажа (самая крупная из них – упавшая катушка без ниток, что катится вдоль тротуара…), эти детали обнаруживаются, если смотреть на картину как на морской берег, потом исчезают, чтобы усугубить «пустоты», то есть расчистить место «фону» под верхней частью фруктовой чаши, и потом «вновь появляются», что для нас превращает фруктовую чашу в человеческое лицо.
Даже рискуя застать читателя врасплох, скажу, что монохромная живопись, и разумеется живопись Ива Кляйна, также является продуктом дедифференциации. Спору нет, это происходит в ином формальном ряду, готова подтвердить это! Но и двойные, и монохромные образы направлены к одной цели. И те и другие наводят на мысль о бесконечности, непрерывном круговороте превращений для двойных образов и расширении красочного поля – для монохромных. Обе разновидности образов разрушают границы и отрицают противоречия [105].
Глава V. Революция в революции
Синий ультрамарин, в конце концов избранный Кляйном как экслюзивный цвет для его монохромных произведений, – это цвет, где мощь излучения такова, что с трудом допускает соседство других цветов. Дали уже заметил в тридцать седьмом из «Пятидесяти магических секретов ремесла», «выданных» в публикации 1948 года, «несовместимость ультрамарина с другими цветами». Ультрамарин стремится размыть края картины; это путь проникновения в зону нематериальной живописной чувствительности, по определению Кляйна, это трамплин в бесконечность, который зачаровал юного уроженца Ниццы, когда он часами на пляже созерцал лазурный горизонт. В октябре 1960 года перед объективом Гарри Шунка Кляйн взметнулся в небо. Испытывал ли он в тот момент «ощущение бесконечной протяженности», о котором говорил Эренцвейг? Подобно тому как цвет, минуя контур, распространяется во всех направлениях, монохромный Ив нарушил закон притяжения. По крайней мере в тот миг, когда щелкает фотоаппарат.
В картине «Мадонна Порт-Льигата», особенно в первом варианте, тела Мадонны и младенца открыты бесконечности неба и моря; мы даже видим лазурный клин, раскалывающий голову Мадонны. Так же парят фигуры и предметы на картине «Леда atomica» (1947–1949). Дополнением к этой «Леде» является снимок Хальсмана «Дали atomicus» (1948). Если Кляйн и Шунк рассчитывали на помощь и силу дзюдоистов, которые должны были принять современного Икара на натянутый брезент, то Дали и Хальсман на протяжении восьми часов, пока длился сеанс съемки, испытывали терпение жены и помощников фотографа, а также воспользовались добровольной помощью кошек (их потом щедро вознаградили сардинками в масле!). Однако результат налицо: два мольберта, стул и Дали отрываются от земли, пересекая траекторию полета трех кошек, одну из которых, похоже, выплеснули с потоком воды [106]. Несколькими годами позже Дали и Хальсман повторят трюк, сделав фотографию, где Дали предстанет парящим с раскинутыми руками и ногами, – он как бы взмывает в воздух. Этот кадр будет использован для обложки американского издания «Дневника» и дважды воспроизведен – в центре и вверху большой картины 1965 года «Вокзал в Перпиньяне». В этот период Дали размышлял об антигравитации; он нанес визит жившему как раз в Перпиньяне доктору Паже, который запантентовал идею «космического аппарата», способного бросить вызов силе притяжения…
Мечта воспарить появилась у Дали в детстве – уже во всей амбивалентности. Прачечная, где Дали устроил свою первую мастерскую, находится под крышей. «„Наверху“! вот уж поистине прекрасное, ключевое слово! Вся моя жизнь держалась и продолжает держаться на противостоянии двух диаметрально противоположных начал: верха и низа… С самого детства я отчаянно и безнадежно стремился очутиться наверху» (ТЖД. 110). Однажды он, не удержавшись, поднялся на крышу и впервые испытал головокружение: «…больше уже нет ничего, отделяющего меня от пропасти. Мне пришлось несколько минут полежать с закрытыми глазами на животе, чтобы устоять перед искушением, которое притягивало почти неумолимо» (ТЖД. 114). Доказав свою неустрашимость, он возвращается в лохань с теплой водой. Несколькими страницами ранее Дали поведал о причинах этой тяги к пустоте: «Большинству моих читателей наверняка доводилось переживать это впечатление внезапного обрушения в пропасть: оно наступает в то самое мгновение, когда мы целиком погружаемся – или скорее проваливаемся – в сон. А когда мы спустя какое-то время пробуждаемся с бешено колотящимся сердцем, которое по непонятной причине готово выскочить из груди, никому из нас даже в голову не приходит, что это впечатление ужаса и сжавшегося нутра – всего лишь реминисценция изгнания из рая, наступившего в момент рождения… Все, кто бросился в пустоту, в глубине души стремились возродиться любой ценой» (ТЖД. 53). Следует напомнить о том, что Фрейд считал, будто «полет является символом эрекции». Самоуничтожение во сне, падение в пустоту и возрождение, связанное с обещанием наслаждения, – мы по-прежнему в русле океанического чувства.
В зависимости от того, смотрим ли мы на вещи снизу или сверху, точка зрения на них меняется. Далианская философия достаточно долго относилась с презрением к системе общепринятых ценностей, иначе говоря, к самому принципу этой системы ценностей. «Объективные описания» реальности волнуют подобно поэтическим описаниям, меж тем как «прекрасные и отвратительные слова утрачивают смысл» (МРС. 18). В этом открытии явно не обошлось без психоанализа. Лучшие чувства смешиваются с самыми скверными, так что с точки зрения традиционной морали «фрейдистские механизмы весьма отвратительны» (МРС. 37). В подтверждение этой декларации Дали приводит такой пример: женщина преданно ухаживала за больным мужем, но едва он выздоровел, она тут же заболела. Разве не потому, что подсознательно хотела избавиться от него? Приведенный мной текст взят из лекции, прочитанной в 1930 году в Барселоне, а именно из лекции «Мораль сюрреализма», поскольку «сюрреалистская революция это прежде всего революция морали». Революция, следствием которой, в глазах сюрреалистов, является то, что маркиз де Сад мнит себя «бриллиантом чистой воды». Таким он мог казаться сюрреалистам, но отнюдь не Сальвадору Дали-отцу у которого не укладывалось в голове, что его сын мог написать на рисунке, изображающем Святое сердце Иисуса: «Порой я ради удовольствия плюю на портрет своей матери». Не будучи посвященным во фрейдистскую диалектику, нотариус не мог уразуметь, что это совершенно не затрагивало чувства, которое сын испытывал к своей покойной матери.
К различиям между добром и злом, о которых Эренцвейг говорит, что в процессе дедифференциации они стираются, следует добавить и различия между истинным и ложным, реальностью и обманом… Антагонизмы исчезают. Выше было сказано, что этому процессу может сопутствовать экстаз. В «Минотавре» в 1933 году был напечатан текст Дали «Феномен экстаза»: «Можно полагать, что благодаря экстазу мы получаем возможность войти в мир, столь же далекий от реальности, как мир мечты. – Отталкивающее здесь способно превращаться в желанное, привязанность в жестокость, безобразное в прекрасное, недостатки в достоинства, блага в беспросветную нужду» (МРС. 47). Этот процесс также является этапом творчества, которое Дали подвергает систематизации. Характерное для него смешение творчества и творца делает такую дедифференциацию практически неотъемлемым свойством его собственной морали. Уже в первых главах «Тайной жизни», посвященных вначале «ложным воспоминаниям», а затем «истинным», нас предупреждают, что «разница между лжевоспоминаниями и подлинными воспоминаниями… как между поддельными бриллиантами и настоящими: фальшивые бриллианты выглядят куда более настоящими» (ТЖД. 65). Во всяком случае, память Дали «настолько сплавила воедино правду и ложь, реальность и вымысел, что сейчас их способна распознать лишь объективная критическая оценка тех событий, которые представляются уж слишком абсурдными» (ТЖД. 66). На самом деле, если следовать параноидно-критическому методу, то сама объективная реальность становится залогом сюжета. Материализующиеся в картине образы столь же реальны, как сама реальность. Позднее сюда подключится, теория атома и логика изменится: реальность в конечном счете станет не более прочной, чем вымысел, и не более единой, чем изображение, созданное при помощи сетки с нанесенными точками, сквозь которую проходит взгляд. И в том и в другом случае возникает не противопоставление иллюзии и реальности, а некая преемственность.
«Что такое реальность? Все внешнее коварно, видимая поверхность всего лишь обман. Я смотрю на руку. <…> здесь есть нервы, мышцы, кости. Всмотримся глубже: это молекулы и кислоты. Еще глубже: неуловимый вальс электронов и нейтронов. И еще глубже: …нематериальная туманность. Кто докажет мне, что моя рука существует?»
(PSD)
Можно только сожалеть, что мастер далеко не всегда парил среди туманностей. В пятидесятые годы необходимость обосноваться в Испании в спокойной обстановке приводит его к генералу Франко. Но это было связано не с политическими убеждениями художника, а с присущим ему оппортунизмом, а также, по его собственному заверению, с «верностью неверности», с «духом врожденного предательства». Алену Боске, расспрашивавшему художника по поводу награды, врученной ему Франко, Дали ответил: «Давайте проясним мои политические позиции. Я всегда был противником ангажированности… я единственный сюрреалист, всегда отказывавшийся принимать участие в какой бы то ни было организации. Я никогда не был ни сталинистом, ни простофилей, втянутым в какую-то ассоциацию, хотя меня обхаживали известные фалангисты» (ESD). Он подытожил: «Если я и принял большой крест Изабеллы Католической из рук Франко, то лишь потому, что в советской России мне не дали Ленинской премии. <…> Я принял бы награду даже от Мао Цзе Дуна».
В 1956 году Дали публикует памфлет «Рогоносцы старого современного искусства». В эти годы утверждается нью-йоркская живописная школа. Нью-Йорк Дали покорил десятилетием ранее, поэтому он не испытывает к Джексону Поллоку той страстной привязанности, которой позднее проникнется к Де Кунингу; он определяет работы Поллока как «dripping [107]буйабес». Хотя я и ценю присущую этой живописи гармонию, я все-таки выскажусь в оправдание Дали. Когда мы судим этот его период, следует иметь в виду все его творчество и учитывать, что благодаря достаточно усложненной композиции и способности автора подняться над противоречиями творчество Дали впитывает и переваривает множество антагонистических явлений той эпохи, в том числе, быть может, и те, что были отвергнуты временем; по крайней мере то, что разделяет эти явления, для него достаточно эфемерно.
Как хорошо известно тем, кто не одобряет Дали, он не просто воздал хвалу современному стилю, он впоследствии начал восторгаться официально признанным искусством, так называемым art pompier. Но его хулители так и не смогли понять, что Дали защищал официальное искусство ( art pompier) как будущее авангарда! «Все, что относится к авангарду, возникло необходимо и неизбежно – как смертельные осколки взрыва 1900 года» (МРС. 73). Я склоняюсь к мысли, что это мнение, если пренебречь иронией, сложилось и укрепилось на основе увиденных произведений, и даже если мы смотрим на это иначе, чем Дали, мы вряд ли далеко отошли от его позиции. «Деталь [108]– со своими микроструктурами взрывается Сезанном в кубизме или повествовательном сюрреализме. <…> „Герника“ Пикассо представляет собой запоздалое ниспровержение „Мертвой женщины“ Каролюса-Дюрана» [109](МРС. 73). И разве «Христос из мусора» (1969), невероятная скульптура, которую можно было бы счесть инсталляцией в духе Arte povera, лежащая в саду в Порт-Льигате, сделанная из разнородных предметов, по большей части подобранных на пляже, не родственна «Посвящению Мейсонье» [110]?
Когда Дали отказался от абстракции, он все же постоянно считался с существованием пришедшего на смену новой пластике течения, доминировавшего на протяжении тридцатых-сороковых годов. Насмешки в адрес Мондриана вовсе не мешали Дали по мере надобности интегрировать некоторые элементы поп-арта, например в «Апофеозе доллара» (1965), а насмешки в адрес Поллока – несколько раз прибегать к опыту «ташизма». Беседуя с Джорджем Мэтью, он обращается к нему «мой друг», как, впрочем, и к Малькольму Морли, в ту пору одному из лидеров гиперреализма. Однако он откровенно предпочитает Виллема де Кунинга, которому он посвятил текст, озаглавленный «300-миллионная годовщина со дня рождения Де Кунинга», подлинный поэтический шедевр: «Взгляните на Кунинга с его рано поседевшими волосами и сомнамбулическими жестами – будто во сне он ждет, что откроются гасконские заливы, заставив взметнуться ввысь острова, как апельсиновые дольки или лепестки пармской фиалки, разрывая небесно-голубые континенты, которые обступает океан неаполитанской желтой… если, к счастью или к несчастью, в среде этого дионисийского демиурга… должен был возникнуть образ „вечно женственного“ то ничтожнейшее, что он мог придумать, это ее явление (из всеобщего хаоса) без одежд, лишь с мазком макияжа» (МРС. 75).
Следовательно, в противовес мнению, бытующему в кругах скорее политически и культурно более сдержанных, нежели беспримесно догматичных, Дали после сюрреалистического периода не становится старомодным. Он может возносить хвалу Мейсонье, но когда дело доходит до составления Сравнительной таблицы достоинств в соответствии с далианским анализом [111], уровень таланта Мейсонье оценивается как нулевой, в то время как Пикассо получает 20 баллов (против 19 баллов, присвоенных Дали самому себе). Дали – модернист, который остается современным при всех своих парадоксах и благодаря этим самым парадоксам. Еще в одной из своих лекций, названной «Пикассо и я», он привел такой аргумент: «В 1951 году с экс-сюрреалистом могут произойти две сбивающих с толку вещи: во-первых, он может сделаться мистиком, и во-вторых – может овладеть рисунком. Две этих напасти настигли меня одновременно» (МРС. 65). В беседе с Боске Дали заявляет, что буржуа, предав свой социальный класс во имя защиты монархии (дополнительная причина превозносить Франко, от которого Дали ждал, что тот реставрирует абсолютную монархию), сразу же становится анархистом. Однако я прерву свою речь в защиту художника, поскольку лучшим адвокатом, которого можно сыскать для Дали, является Пьер Навиль собственной персоной. «С чисто сюрреалистической точки зрения… знаменитое „кто я?“ немедленно рождает ответ, демонстрирующий одновременно обе стороны медали, так как Дали повторяет, что притворяясь, он говорит правду, а превознося инквизицию, созидает свободу с тем, чтобы разрушить сделанное; превращая свою супругу в образ вознесения девы Марии, он доказывает, что желает „быть „кретинизированным“ тем существом, к которому испытывает любовь“, а испрашивая у Папы Римского разрешения обвенчаться в церкви с разведенной еврейкой, при этом не имея христианской веры, он насквозь проникнут театральностью, церемониалами, комедией; короче, заявляет Дали: „я противоречу себе самому“» [112]. Будем надеяться, что скоро Дали воздадут по справедливости за предательский отказ от клише авангарда, в чем выразилась его верность бунтарскому духу. Как известно, именно так некоторое время назад был реабилитирован Пикабиа сороковых годов, периода китчевых сексуальных «ню». Тот же Пикабиа заявил: «Современная живопись, современная литература, все современные попытки наших доблестных юных модернистов, которые обращают плуг и лемех к солнцу, встающему на горизонте… Так вот! Плевать мне на это!» [113].








