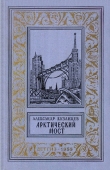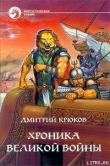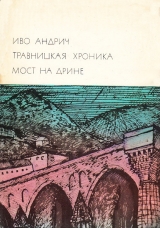
Текст книги "Травницкая хроника. Мост на Дрине"
Автор книги: Иво Андрич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Пустив лошадей вскачь, молодой человек и Анна-Мария съехались в конце ровной дороги, там, где она круто сворачивала и становилась каменистой и размытой. На этом повороте стоял небольшой сосновый лесок. В блеске солнечного дня деревья казались плотной черной массой, тогда как земля под ними, покрытая опавшей хвоей, была красноватая и сухая. Дефоссе неожиданно слез и предложил Анне-Марии последовать его примеру, чтобы осмотреть лесок, напоминавший, по его словам, Италию. Слово «Италия» ввело ее в заблуждение. Перекинув уздечку через руку и ступая онемевшими от верховой езды ногами по гладкому ковру сосновых игл ржавого цвета, они углубились в лес, который, сгущаясь, сомкнулся за ними. Анна-Мария в высоких сапогах шла с трудом, одной рукой придерживая длинный подол черной амазонки. Она остановилась в нерешительности. Дефоссе продолжал говорить, словно желая нарушить лесную тишину и успокоить и себя, и свою спутницу. Он сравнивал лес с храмом или чем-то в этом роде. А слова прерывались паузами и тишиной, наполненными быстрым горячим дыханием и учащенным биением сердца. Молодой человек накинул и свою и ее уздечку на одну ветку. Лошади стояли смирно, подрагивая мускулами. Дефоссе увлек колебавшуюся Анну-Марию еще на несколько шагов вперед, до лощины, где они оказались совсем скрытыми ветвями и стволами сосен. Она сопротивлялась, испуганно и неловко скользя по густому ковру сосновой хвои. Но прежде чем она успела вырваться или вымолвить слово, рядом с ней оказалось раскрасневшееся лицо Дефоссе. Больше не было разговора ни об Италии, ни о храме. Без единого слова крупные красные губы Дефоссе приближались к ее губам. Анна-Мария побледнела, широко раскрыла глаза, как бы вдруг пробудившись, хотела оттолкнуть его и бежать, но ноги у нее подкосились. Рука его уже обвила ее талию. Как беззащитный человек, которого предательски убивают, она вскрикнула: «Нет! Только не это!» Она закатила глаза и, вдруг обессилев, выпустила из рук длинный подол амазонки, который до сих пор судорожно сжимала в пальцах.
Все исчезло – окружающий мир, слова, прогулки, консулы и консульства. Исчезли и они в этом клубке, катавшемся и извивавшемся на густом ковре сосновой хвои, которая потрескивала под ними. Обхватив обмершую женщину, Дефоссе обнимал ее словно сотней невидимых рук. На своих губах он чувствовал соленый вкус слез, потому что она плакала, и крови, так как у кого-то из них из губы пошла кровь. Они слились в поцелуе. Объятие обезумевшего от страсти молодого человека и не помнившей себя женщины не длилось и минуты. Анна-Мария вздрогнула, еще шире раскрыла глаза, будто внезапно увидела перед собой бездну; опомнившись, с неожиданной силой гневно оттолкнула опьяненного молодого человека и быстрыми, яростными ударами стала бить его в грудь, как разозленный ребенок, при каждом ударе выкрикивая:
– Нет, нет, нет!
Страшное наваждение, одурманившее их, исчезло. Если раньше они не помнили, как опустились на землю, то теперь, сами не зная как, очутились на ногах. Всхлипывая от злости, она поправляла прическу и шляпу, в то время как он взволнованно и неловко смахивал сухие сосновые иглы с ее черной амазонки, потом подал хлыст и помог выбраться из лощины. Лошади стояли смирно, помахивая головами.
Они вышли на дорогу и сели на коней прежде, чем сопровождавшие их могли заметить, что они спешивались. Расставаясь, они еще раз взглянули друг на друга. Лицо Дефоссе было краснее обычного, он щурился от яркого солнца. Анна-Мария была неузнаваема. Губы у нее побелели до того, что еле выделялись на бледном лице, а в глубокое сияние ее глаз, новых, внезапно пробудившихся, с черными расширенными зрачками, стало еще труднее смотреть. Ее припухшее лицо, выражавшее гадливую злобу и безграничное отвращение к самой себе и ко всему окружающему, казалось постаревшим и поблекшим.
Дефоссе, нелегко терявший присутствие духа и врожденную хладнокровную самоуверенность, на этот раз был по-настоящему растерян и чувствовал себя неловко, понимая, что тут не было ни кокетства, ни обычной для светской женщины боязни позора и скандала. Он показался себе ничтожнее и слабее этой чудачки, довольствовавшейся своим собственным миром причудливых настроений и разочарований.
Все ему теперь виделось другим, переменившимся. И вокруг него, и в нем самом, словно бы он даже ростом стал меньше.
Так навеки расстались эти наездники зимней поры, нежные влюбленные с Купила.
Фон Миттерер сразу заметил, что в отношениях между его женой и новым несостоявшимся рыцарем наступил, как и столько раз раньше в подобных случаях, критический момент, и теперь пришла пора домашних бурь. И в самом деле, после двухдневного полного уединения, когда Анна-Мария ни с кем не разговаривала и ничего не ела, начались сцены и беспричинные упреки и мольбы («Иосиф, ради всего святого!»), предвидя которые полковник принял твердое и мучительное решение вынести их, как он выносил и все предыдущие сцены, до конца.
Давиль также вскоре заметил, что Дефоссе прекратил свои верховые прогулки с госпожой фон Миттерер. Это его обрадовало, освободив от неприятной обязанности толковать с молодым человеком о необходимости прервать близкие отношения с австрийским консульством. Ибо из донесений было ясно, что отношения между австрийским двором и Наполеоном снова обостряются. Давиль читал их с тревогой, прислушиваясь, как завывал снаружи утомительный южный мартовский ветер.
А в это время «молодой консул», сидя в натопленной комнате, еле сдерживал злость на Анну-Марию и в еще большей степени на себя. Он напрасно мучился, стараясь объяснить поступок женщины. Что бы ни приходило ему в голову, все равно оставалось ощущение разочарования, стыда и оскорбленного тщеславия, а также острая боль от всколыхнувшегося и неудовлетворенного желания.
Только теперь, когда было уже поздно, он вспомнил своего дядю в Париже и совет, который тот ему однажды дал в Palais Royal, где Дефоссе ужинал с одной актрисой, известной своим капризным характером. «Вижу, что ты уже стал мужчиной, – сказал ему старый господин, – и, как все прочие, готов сломать себе шею. Это в порядке вещей. Я дам тебе лишь один совет: избегай сумасбродных женщин».
Во сне ему приснился мудрый и добрый дядя.
Теперь, когда вся эта история окончилась таким глупым и смешным образом, он словно пробудился и понял также и моральную мерзость всей этой «канители» с немолодой и чудаковатой женой австрийского консула, к которой его так глупо толкнула минутная потеря самообладания и травницкая скука.
Вспомнилась ему теперь и прошлогодняя «живая картина» в саду с Йелкой, девушкой из Долаца, о которой он было позабыл. И случалось, что за ночь он по нескольку раз вскакивал из-за стола или с постели; кровь бросалась ему в голову, в глазах темнело, он весь горел от стыда и гнева на самого себя, – чувств, которые в молодости переживаешь еще так живо и сильно. Стоя посреди комнаты, он бранил себя, что так глупо и безобразно забылся, не переставая в то же время искать объяснения своей неудаче.
– Что это за страна? Какой тут воздух? – спрашивал он. – Что это за женщины? Смотрят на тебя нежно и кротко, как цветок из травы, или с такой страстью (сквозь струны арфы), что у тебя сердце тает. По стоит откликнуться на этот умоляющий взгляд, как одна падает на колени, меняя ситуацию на сто восемьдесят градусов, и с выражением жертвы во взоре умоляет тебя умирающим голосом так, что становится тошно и пропадает всякое желание жить и любить; другая же бросается на тебя, словно на гайдука, и пускает в ход кулаки не хуже английского боксера.
Так этажом выше над комнатами Давиля и его спящей семьи «молодой консул» разговаривал сам с собой, борясь с тайной мукой, пока не преодолел ее и пока она, как и прочие мучения молодости, не начала забываться.
XVВести и инструкции из Парижа, которые в последнее время Давиль получал с большим опозданием, свидетельствовали о том, что огромная военная машина империи снова пришла в движение, и прямо против Австрии{35}. Давиль чувствовал в этом угрозу и для себя лично. На его беду, казалось ему, лавина должна двинуться как раз в эти места, где он на своем маленьком участке несет столь большую ответственность. Болезненная потребность что-то предпринять, что-то делать, мучительный страх ошибиться или упустить что-нибудь не покидали его теперь и во сне. Спокойствие и хладнокровие Дефоссе раздражали его больше, чем когда-либо. Молодой человек считал вполне естественным, что императорская армия должна где-то воевать, и он не видел ни малейшего повода менять образ жизни или направление мыслей. Давиль еле сдерживал гневную дрожь, слушая шутки и остроумные словечки, модные в среде парижской молодежи, которыми Дефоссе щеголял в разговорах о новой войне, без всякого уважения и воодушевления, но и без тени сомнения в победоносном исходе кампании. Это наполняло Давиля бессознательной завистью и острой тоской, потому что ему не с кем было поговорить («обменяться опасениями и надеждами») об этой войне и обо всем остальном в духе тех понятий и с тех точек зрения, которые свойственны и близки ему и его поколению. Теперь, больше чем когда-либо, мир представлялся ему начиненным западнями и опасностями и теми неопределенными мрачными мыслями и страхами, которые распространяются вместе с войной и влияют особенно на пожилых, слабых или утомленных людей.
Иногда Давилю казалось, что он задыхается, падает от усталости, что он годами марширует в мрачной и бездушной колонне и уже не может идти в ногу, что она грозит растоптать и раздавить его, стоит только ему приостановиться, обессилеть. Оставаясь один, он вздыхал, шепча тихо и быстро:
– Ах, боже милостивый, боже милостивый!
Слова эти он произносил бессознательно, без всякой видимой связи с тем, что в данную минуту совершалось вокруг него; они вырывались вместе с его дыханием и вздохом.
Как не упасть от усталости и головокружительной сутолоки, длившихся столько лет, как бросить все и прекратить дальнейшие усилия и труд? Как разглядеть и хоть что-нибудь понять в этой всеобщей беспорядочной суете и путанице и, невзирая на усталость, затруднения и неизвестность, маршировать в новую, туманную, безграничную даль?
Будто только вчера он с волнением слушал известие о победе под Аустерлицем, сопровождавшееся надеждой на мир и избавление, и только сегодня утром писал стихи о битве под Иеной; будто только что читал бюллетень о победе в Испании, о взятии Мадрида и изгнании английских войск с Пиренейского полуострова. Не успевали смолкнуть победные клики одной битвы, как их уже заглушал гул новых событий. Изменит ли эта сила естественные законы природы или разобьется об их неумолимое постоянство? Иногда казалось одно, иногда – другое, но точного вывода сделать было невозможно. Дух захватывало, и мозг отказывался работать. И вот в таком состоянии и настроении, никому не рассказывая о своем смятении и тяжких, горестных сомнениях, ничем себя не выдавая, Давиль вместе с миллионами других людей продолжает шагать, работать, разговаривать, стараясь идти в ногу и вносить свою долю в общее дело.
Опять теперь повторится все до мельчайших подробностей. Будут выходить «Moniteur» и «Journal de l’Empire» со статьями, объясняющими и оправдывающими необходимость нового выступления и предсказывающими его неминуемый успех. (Читая их, Давиль будет верить, что все это так и иначе быть не может.) Потом наступят дни и недели размышлений, выжиданий и сомнений. (К чему опять новая война? Сколько же еще воевать? И куда это приведет людей, Наполеона, Францию, самого Давиля и его семью? Не изменит ли на этот раз счастье Наполеону, не потерпит ли он поражение, которое послужит предвестником окончательного крушения?) А потом появится сообщение об успехах с перечнем взятых городов и покоренных стран. И, наконец, полная победа и победоносный мир с территориальными приобретениями и новыми обещаниями всеобщего долгожданного успокоения, которое никак не наступает.
И тогда Давиль, вместе со всеми, даже громче других, будет прославлять победу и говорить о ней как о событии, вполне естественном, в котором есть доля и его участия. И никто никогда и знать не будет о его мучительных сомнениях и колебаниях, которые победа рассеет, как туман, и которые он и сам тогда постарается забыть. Какое-то время, правда очень короткое, он будет обманывать самого себя, но вскоре военный механизм империи снова придет в движение, и он опять попадет во власть прежних переживаний. Все это изнуряло и утомляло, и жизнь его, на вид покойная и счастливая, была на самом деле невыносимо мучительна и находилась в нестерпимом противоречии с его внутренним складом и подлинным существом.
Пятая коалиция против Наполеона{36} была образована в течение этой зимы, а весной внезапно стала общеизвестной. Как и четыре года тому назад, только еще быстрее и смелее, Наполеон ответил на коварный заговор молниеносным движением на Вену. Теперь и непосвященным стало ясно, для чего были созданы консульства в Боснии и чему они должны были служить.
Французы и австрийцы в Травнике прекратили всякие сношения. Служащие не здоровались друг с другом, консулы старались не встречаться на улице. По воскресеньям во время большой мессы в долацкой церкви госпожа Давиль становилась подальше от госпожи фон Миттерер и ее дочки. Консулы проявляли удвоенную деятельность у визиря и его сотрудников, у монахов, православных священников и видных граждан. Фон Миттерер распространял манифест австрийского императора, а Давиль – французское сообщение о первой победе под Экмюлем{37}. Курьеры между Сплитом и Травником встречались и обгоняли друг друга. Генерал Мармон хотел любой ценой поспеть со своей армией из Далмации к Наполеону до начала решающего сражения. Поэтому он требовал от Давиля сведений о краях, через которые ему предстояло пройти, и все время засыпал его распоряжениями. Это втрое увеличивало работу Давиля, затрудняло и усложняло ее, повышало расходы. Тем более что фон Миттерер следил за каждым его шагом и как опытный офицер, изучивший пограничные интриги и козни, старался всячески помешать продвижению Мармона через Лику и Хорватию. Но с ростом заданий и их трудности росли и силы Давиля, его сметливость и жажда борьбы. С помощью Давны он сумел подыскать людей, которые в силу собственных симпатий и интересов были настроены против Австрии и готовы предпринять что угодно в этом направлении. С этими лицами он установил тесную связь. Давиль обратился к комендантам городов в Крайне, в особенности к коменданту Нови, родному брату того несчастного Ахмет-бега Церича, которого ему не удалось отстоять, подстрекал их и снабжал деньгами для набегов на австрийскую территорию.
Фон Миттерер с помощью монахов в Ливно пересылал в Далмацию, занятую французами, газеты и воззвания, поддерживал связь с католическим духовенством в северной Далмации и содействовал организации сопротивления французам.
Платные агенты и добровольные сотрудники обоих консулов были разосланы во все стороны, и о деятельности их можно было судить по всеобщему беспокойному состоянию и частым столкновениям.
Монахи совсем перестали встречаться со служащими французского консульства. В монастырях молились за победу австрийского императора над якобинскими армиями и их безбожным императором Наполеоном.
Консулы посещали или принимали таких лиц, которых в другое время никогда бы не допустили, делали подарки и не скупились на подкупы. Работали денно и нощно, не брезгуя никакими средствами и не щадя сил. При этом положение австрийского консула было гораздо выгоднее. Правда, это был человек усталый, больной, удрученный к тому же семейными неприятностями, но для него такой образ жизни и такой темп борьбы были привычны, они соответствовали его опыту и воспитанию. Получая приказ свыше, фон Миттерер сразу забывал о себе и семье и шел по проторенной дорожке императорской службы, без радости и воодушевления, но и без рассуждений или возражений. Кроме того, он знал язык, страну, людей, обычаи и на каждом шагу мог легко встретить искренних и бескорыстных помощников. Всего этого Давиль не имел и принужден был работать в гораздо более трудных условиях. Но живость духа, чувство долга и прирожденная галльская стойкость в борьбе поддерживали его и заставляли не отставать в соревновании; и он не оставался в долгу, отвечая ударом на удар.
Но при всем этом, если бы дело шло только о консулах, отношения между ними не были бы чересчур плохи. Гораздо хуже вели себя мелкие служащие, агенты и прислуга. Они не знали меры в борьбе и взаимной клевете. Служебное рвение и личное тщеславие целиком поглощали их, как охотника его страсть, и они теряли голову настолько, что, желая вытеснить и оскорбить друг друга, сами себя унижали, роняли в глазах райи и злорадных турок.
И Давиль и фон Миттерер отлично понимали, насколько такой наглый и беспощадный способ взаимной борьбы вредит обеим сторонам, авторитету христиан и европейцев вообще, как недостойно для консулов, единственных представителей культурного мира в этой глуши, бороться и состязаться на глазах у народа, который ненавидит их обоих, презирает и не понимает, а они именно этот народ приглашают в свидетели и судьи. Давиль, чье положение было менее устойчиво, ощущал это особенно сильно. Он решил обратить внимание фон Миттерера на это обстоятельство косвенным образом, через доктора Колонью как лицо неофициальное, и предложить австрийскому консулу обоюдно слегка укротить своих зарвавшихся сотрудников. С Колоньей поговорит Дефоссе, так как Давна с ним в постоянной ссоре. Одновременно он собирался воздействовать на монахов через свою набожную жену и другими возможными способами и попытаться доказать им, что как представители церкви они действуют неправильно, заступаясь только за одну из воюющих сторон.
Чтобы показать монахам, сколь неосновательно они обвиняют французский режим в безбожии, и установить с ними более тесную связь, Давиль надумал попросить у них для французского консульства постоянного капеллана на жалованье. Через долац-кого священника он послал письмо епископу в Фойницу. Так как ответа не последовало, то госпожа Давиль должна была переговорить по этому делу с братом Иво и постараться убедить его, как будет хорошо и правильно, если монахи назначат одного из братьев капелланом и вообще переменят свое отношение к французскому консульству.
Госпожа Давиль отправилась в Долац в одну из суббот, после полудня, в сопровождении иллирийского толмача и телохранителя. Она специально поехала к вечерней службе, считая, что в это время удобнее будет переговорить со священником, чем в воскресенье, когда много народа.
Священник принял жену консула, по обыкновению, хорошо. Он сообщил ей, что «утром» получил ответ епископа и как раз собирался переслать его господину генеральному консулу. Ответ был отрицательный, так как, к сожалению, в эти тяжелые времена у них, гонимых, несчастных и малочисленных, не хватает монахов даже для самых необходимых нужд паствы. Кроме того, турки сразу сочли бы этого капеллана доверенным лицом и шпионом и отомстили бы за это всему ордену. Одним словом, епископ сожалеет, что не может удовлетворить просьбу французского консула, просит правильно его понять, и так далее, и тому подобное.
Так писал епископ, но брат Иво не скрывал, что даже если бы он смел и мог, то никогда бы не допустил, чтобы в наполеоновском консульстве служил их капеллан. Госпожа Давиль старалась мягко склонить его на свою сторону, но, защищенный жировой броней, монах оставался непоколебимым. Госпожу Давиль он почитал и уважал за искреннюю и несомненную набожность (монахи вообще гораздо больше уважали госпожу Давиль, чем госпожу фон Миттерер), но упорно и твердо оставался при своем мнении. Свои слова он сопровождал резкими, угрожающими взмахами огромной белой руки, что заставило госпожу Давиль невольно содрогнуться в душе. Было очевидно, что он получил точные инструкции, что позиция его вполне определенна и он не желает ни с кем об этом разговаривать, а тем более с женщиной.
Еще раз заверив госпожу Давиль, что он всегда к ее услугам для всех ее духовных нужд, но в остальном остается при своем мнении, брат Иво вошел в церковь, где началась служба. По какому-то случаю в Долаце в этот день было много монахов и гостей, и служба оказалась торжественной.
Расстроенная госпожа Давиль предпочла бы сразу вернуться домой, но должная осмотрительность заставила ее остаться, дабы не выглядело так, что она приезжала только для разговора со священником. Эта всегда рассудительная женщина, лишенная излишней чувствительности, была сейчас взволнована и ошеломлена его поведением. Неприятный разговор был для нее тем более мучителен, что по своему воспитанию и характеру она была далека от мирских и общественных дел.
Теперь она стояла в церкви у деревянной колонны и слушала приглушенное и еще нестройное пение монахов, коленопреклоненно молившихся по обе стороны главного алтаря. Служил Иво Янкович. Большой и грузный, он все же по ходу службы умудрялся легко и ловко опускаться на одно колено и сразу снова подниматься. А у госпожи Давиль так и стояли перед глазами его крупная рука, делающая отрицательный жест, и его сверкающий надменностью и упрямством взгляд, устремленный на ее толмача во время их недавнего разговора. Такого взгляда она никогда не видела ни у мирян, ни у священнослужителей во Франции.
Своими крестьянскими грубыми голосами монахи тихо пели акафист богородице. Начинал глубокий голос:
– Sancta Maria…
Хор глухо отвечал:
– Ora pro nobis.
Голос продолжал:
– Sancta virgo virginum…
– Ora pro nobis, – дружно подхватывали голоса.
Молитвенный голос продолжал протяжно перечислять хвалебные наименования Марии:
– Imperatrix Reginarum…
– Laus sanctarum animarum…
– Vera salutrix earum…
После каждого возгласа хор монотонно отзывался:
– Ora pro nobis.
Госпоже Давиль хотелось помолиться под звуки знакомого акафиста, который она когда-то слушала на прохладных хорах в кафедральном соборе в своем родном Авранше. Но она никак не могла забыть недавний разговор и отогнать мысли, мешавшие ей молиться.
«Все мы молимся одинаково, все мы христиане и исповедуем одну веру, но какие глубокие пропасти разделяют людей», – думала госпожа Давиль, а перед глазами ее все время стоял твердый, жесткий взгляд и резкий жест руки того самого священника, который пел теперь славословие.
Голос продолжал перечислять:
– Sancta Mater Domini…
– Sancta Dei genitrix.
Да, человек знает, что существуют такие пропасти и противоречия между людьми, но, только столкнувшись с жизнью и испытав их действие на самом себе, он понимает, насколько они огромны, трудны, непреодолимы. И какие нужны молитвы, чтобы заполнить и сровнять эти пропасти? В своем подавленном настроении она была готова допустить, что таких молитв не существует. Но тут ее мысль, напуганная и беспомощная, обрывалась. Госпожа Давиль тихо шептала, присоединяя свой неслышный голос к монотонному бормотанию монахов, возвращавшемуся подобно волне и повторявшему:
– Ora pro nobis!
Когда служба окончилась, она сокрушенно приняла благословение все той же руки Иво Янковича.
Возле церкви, кроме своих провожатых, госпожа Давиль увидела Дефоссе со слугой. Он проезжал верхом через Долац и, узнав, что госпожа Давиль в церкви, решил ее подождать и проводить в Травник. Она была рада увидеть знакомое лицо веселого молодого человека и услышать родную речь.
По широкой сухой дороге они возвращались в город. Солнце уже село, но все вокруг было залито каким-то ярким желтым светом. От красноватой глинистой дороги веяло теплом, а свежие листья и цветочные бутоны на кустах будто светились на черной коре.
Раскрасневшись от верховой езды, молодой человек шел рядом с госпожой Давиль, оживленно разговаривая. За ними слышались шаги сопровождающих и топот копыт лошади Дефоссе, которую вели в поводу. А в ушах все еще звенел акафист. Дорога начала спускаться. Показались травницкие крыши с легким синеватым дымком и с ними действительная жизнь со всеми ее требованиями и задачами, далекими от всяких размышлений, сомнений и молитв.
Приблизительно в это же время у Дефоссе состоялся разговор с Колоньей.
Под вечер, часов около восьми, он отправился к доктору в сопровождении телохранителя и слуги, несшего фонарь.
Дом стоял в стороне, на крутой возвышенности, в окружении непроницаемой ночи и сырого тумана. Доносился шум невидимого ключа Шумеча. Мрак приглушал шум воды, а тишина его усиливала. Дорога была мокрая и скользкая и при скудном мерцающем свете турецкого фонаря выглядела новой и незнакомой, как лесная прогалина, по которой люди идут впервые. Столь же таинственными выглядели и ворота. Только подворотня и кольцо на калитке были освещены, а все остальное тонуло во мраке, нельзя было различить ни формы, ни объема предметов, ни догадаться об их точном назначении. Удары в ворота отдались тяжело и глухо. Дефоссе ощутил их как что-то грубое и неуместное, почти как боль, а чрезмерное усердие телохранителя показалось ему особенно безобразным и неприличным.
– Кто стучит?
Голос доносился сверху и прозвучал не как вопрос, а как эхо на удары телохранителя.
– Молодой консул. Отвори! – крикнул Алия тем неприятным и подчеркнуто резким тоном, каким подчиненные разговаривают между собой в присутствии старшего.
И мужские голоса, и далекий шум воды походили на какую-то случайную и неожиданную перекличку в лесу, без ясного повода и без видимых последствий. Наконец послышался звук цепочки, скрип замка и стук засова. Калитка медленно отворилась, за ней стоял человек с фонарем, бледный и сонный, закутанный в пастуший плащ. Два разной силы фонаря озаряли круто поднимающийся двор и низкие темные окна первого этажа дома. Фонари соперничали, который из них лучше осветит дорогу «молодому консулу». Смущенный этой игрой голосов и светотеней, Дефоссе неожиданно очутился перед распахнутыми дверями большой комнаты первого этажа, застоявшийся воздух которой был полон дыма и тяжелого табачного запаха.
Посреди комнаты, у высокого подсвечника, стоял длинный и сутулый Колонья; на нем вперемежку было надето множество турецкой и европейской одежды; на голове была черная шапочка, из-под которой торчали длинные редкие пряди седых волос. Старик, низко кланяясь, произносил громкие приветствия и комплименты на своем языке, который мог быть и испорченным итальянским, и плохим французским, но Дефоссе все это казалось наносным и случайным, пустой формальностью, лишенной сердечности и подлинного уважения, как будто говоривший эти слова отсутствовал. И тогда все, что он встретил в этом низком дымном помещении – запах и вид комнаты, облик и речь человека, – вылилось в одно лишь слово, и так быстро, живо и ярко, что ему стоило усилий не произнести его вслух: старость. Печальная, беззубая, забытая, одинокая, трудная старость, которая всему придает горький привкус, все изменяет и растравляет: мысли, воззрения, жесты, звуки – все, вплоть до самого света и запаха.
Старый доктор церемонно предложил молодому человеку сесть, но сам продолжал стоять, извинившись тем, что этого требует доброе старинное салернское правило: «Post prandium sta»[23]23
После обеда надо постоять (лат.).
[Закрыть].
Молодой человек сидел на твердом стуле без спинки, чувствуя свое телесное и духовное превосходство, отчего миссия его казалась ему легкой и простой, почти приятной. Он начал говорить с той слепой уверенностью, с какой молодые люди так часто вступают в разговор со стариками, которые кажутся им несовременными и отжившими, забывая, что их умственной медлительности и физической немощности сопутствует большой опыт и искусство во взаимоотношениях с людьми. Дефоссе передал поручение Давиля для фон Миттерера, стараясь, чтобы оно выглядело тем, чем оно было на самом деле, то есть доброжелательным предложением в общих интересах, а не проявлением слабости или страха. Высказав все это, он остался доволен собой.
Уже при последних словах молодого человека Колонья поспешил заверить, что польщен тем, что его избрали посредником, что он все передаст самым добросовестным образом, что он вполне понимает намерения господина Давиля и разделяет его образ мыслей и что он по своему происхождению, званию и убеждениям как нельзя лучше подходит для этой роли.
Ясно, что теперь настала очередь Колоньи быть довольным собой.
Дефоссе слушал его, как слушают шум воды, рассеянно глядя на его правильное продолговатое лицо с живыми круглыми глазами, бескровными губами и зубами, шатавшимися, когда он говорил. «Старость! – думал молодой человек. – Не то плохо, что страдаешь и умираешь, плохо то, что стареешь, потому что старость – это страдание, от которого нет ни лекарств, ни избавления, это медленная смерть». Но молодой человек думал о старости не как о судьбе всех людей, в том числе и своей собственной, а как о каком-то личном несчастье врача Колоньи.
А Колонья говорил:
– Мне не надо объяснять подробно; я понимаю положение господ консулов, как и всякого культурного человека Запада, которого судьба загнала в эти края. Жить в Турции для такого человека – все равно что ходить по острию ножа или гореть на медленном огне. Мне это хорошо известно, потому что мы на этом острие рождаемся, на нем живем и умираем, в этом огне растем и сгораем.
Не оставляя свои мысли о старости и старении, молодой человек стал внимательнее прислушиваться и лучше понимать слова Колоньи.
– Никому не понять, что значит родиться и жить на грани двух миров, знать и понимать один и другой и быть бессильным что-либо сделать, чтобы они договорились и сблизились, любить и ненавидеть и тот и другой, всю жизнь колебаться и отклоняться, иметь две родины, не имея, в сущности, ни одной, чувствовать себя всюду дома и вечно оставаться чужестранцем: одним словом, жить распятым, но чувствовать себя одновременно и жертвой и палачом.
Дефоссе слушал с изумлением. Словно в разговор вмешалось третье лицо. Теперь не было уже ничего похожего на пустые слова и комплименты. Перед ним стоял человек со сверкающими глазами и распростертыми длинными и худыми руками и показывал, как живут распятые между двумя противоположными мирами.
Как часто бывает с молодыми людьми, Дефоссе казалось, что этот разговор не случаен, что он находится в какой-то тесной и особой связи с его собственными мыслями и деятельностью, к которой он готовился. В Травнике редко находились поводы для таких разговоров; это его приятно взволновало, и в волнении он сам стал задавать вопросы, а потом делать замечания и делиться впечатлениями.