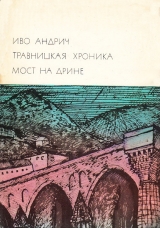
Текст книги "Травницкая хроника. Мост на Дрине"
Автор книги: Иво Андрич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Дивлюсь я тебе, госпожа, что ты утруждаешь себя, разъезжая по нашим деревенским дорогам, когда бог дал тебе возможность сидеть дома в уюте да холе. Не сумеешь ты, дай бог тебе здоровья, навести порядок в наших церквах и часовнях, даже если выпотрошишь для этого всю казну императора. Каковы мы сами, таковы и наши церкви; а были бы церкви лучше – не подошли бы нам. Если у тебя есть подарки для деревенских церквей, пошли их с кем-нибудь. Они нам пригодятся, а бог тебя вознаградит.
Оскорбленная госпожа фон Миттерер снова заводила разговор о церкви и народе, но Мият обращал все ее слова в шутку. И когда она в гневе взобралась на своего вороного коня, священник снял свою маленькую скуфейку с всклокоченной головы, поклонился с какой-то дьявольской ухваткой, учтиво и насмешливо, и проговорил:
– А хорош у тебя конь, госпожа, самому епископу под стать!
Больше Анна-Мария никогда не приезжала в церковь Орашья.
Приблизительно в это же время и долацкий священник разговаривал с фон Миттерером по тому же поводу. Так как монахи уважали консула как друга и защитника и ни в коем случае не хотели его обижать, они уполномочили упитанного и громадного, но хитрого и ловкого брата Иво любым способом довести до его сознания, что усердие госпожи фон Миттерер им неприятно, но сделать это так, чтобы не задеть ни консула, ни его супругу. И брат Иво, которого турки не напрасно прозвали мудрецом, прекрасно справился с этим поручением. Сперва он рассказал консулу, какую они, опасаясь турок, должны во всем проявлять осторожность и осмотрительность, в том числе во встречах и знакомствах, как они рады подаркам госпожи фон Миттерер и как они непрестанно молятся богу за нее и за того, кто их посылает. В конце концов из всего рассказа можно было сделать вывод, правда невысказанный, что от подарков они не отказываются, но предпочитают, чтобы доставлял их кто-нибудь другой, а не лично госпожа фон Миттерер, и что они будут рады, если она перестанет вмешиваться в их дела.
Но госпожа фон Миттерер уже пресытилась церквами и разочаровалась как в народе, так и в монахах. В одно прекрасное утро она раскричалась на полковника и вылила на него целый ушат неприятных и обидных слов. Французский консул прав, кричала она, что дружит с евреями, они лучше воспитаны, чем эти турецкие католики. Подскакивая к самому его лицу, она требовала ответа, кто он – генеральный консул или причетник? Клялась, что ноги ее больше не будет ни в церкви, ни в одном из долацких домов.
Вот каким образом молодой капеллан из Орашья спасся от того, что для Анны-Марии было лишь игрой, а для него подлинным несчастьем. Этим одновременно закончился и религиозный этап в травницкой жизни госпожи фон Миттерер.
Сила, о которой мы здесь все время говорим, не пощадила и французское консульство на том берегу Лашвы, потому что она не считается ни с гербом, ни с флагом.
В то время как на первом этаже «Дубровницкой гостиницы» госпожа Давиль предавалась заботам о своих детях, а господин Давиль корпел над обширными консульскими донесениями и путаными литературными планами, этажом выше «молодой консул» боролся со скукой и с желаниями, которые она порождает, но не в состоянии удовлетворить. Он и помогал Давилю в работе, и ездил верхом по окрестностям, изучая язык и обычаи народа, и писал книгу о Боснии. Он делал все, чтобы как-нибудь заполнить дни и ночи. Но все же у того, кто молод и бодр, остается еще много сил и времени и для желаний, и для скуки, и для похождений, известных лишь молодости.
Так случилось, что «молодой консул» приметил Йелку, девушку из Долаца.
Мы уже знаем, что по приезде в Травник госпоже Давиль пришлось потратить немало времени и терпения, чтобы заслужить доверие монахов и расположение долацких жителей. Вначале даже бедняки не хотели отдавать своих детей на службу во французское консульство. Но когда люди узнали госпожу Давиль поближе и увидели, чему научились поработавшие у нее девушки, они стали добиваться работы у жены французского консула. По несколько девушек сразу прислуживали в доме или занимались рукоделием, которому их учила госпожа Давиль.
Летом обычно три-четыре девушки вышивали или вязали. Склонившись над работой, они сидели возле окна на широкой веранде и тихо напевали. Дефоссе по пути к Давилю часто проходил мимо них. Тогда они еще ниже склоняли головы над работой, пение разлаживалось и обрывалось. Меряя своими большими шагами широкую веранду, молодой человек стал приглядываться к девушкам, иногда бросал им какое-нибудь слово приветствия, на которое они от смущения не отвечали. Да и трудно было ответить, потому что каждый раз это было новое слово, только что им выученное и смущавшее их так же, как и его свободные манеры, быстрота движений и смелость интонации. Проходя таким образом все чаще и чаще, Дефоссе, согласно логике, присущей подобным отношениям, наибольшее внимание обратил на лицо девушки, ниже всех склонявшей перед ним голову.
Звали ее Йелкой, и была она дочерью мелкого торговца, у которого в Долаце был скромный дом и куча детей. Густая каштановая челка падала ей на самые глаза. Чем-то неуловимым в одежде и типе красоты девушка эта отличалась от остальных. Дефоссе стал узнавать ее темный затылок и белую крепкую шею среди склоненных голов других рукодельниц. И как-то раз, когда он немного дольше задержал свой взгляд на этом затылке, девушка вдруг подняла голову, словно его взгляд обжег ее и она захотела избавиться от него, и тогда он на мгновение увидел юное скуластое лицо с блестящими, кроткими карими глазами, крупным и не совсем правильным носом, большим, но безукоризненно очерченным ртом, с ровными, чуть соприкасавшимися губами. Дефоссе, пораженный, засмотрелся на ее лицо и заметил, что уголки ровно очерченного рта слегка задрожали, будто от сдерживаемых слез, в то время как в карих глазах сияла улыбка, которой они не могли скрыть. Улыбнулся и молодой человек и бросил первое попавшееся слово из своего «иллирийского» словаря, потому что в эти годы и при таких обстоятельствах любое слово хорошо и полно значения. Чтобы скрыть смеющиеся глаза и губы с едва заметной черточкой печали, девушка снова опустила голову, предоставив ему смотреть на свою белую шею среди каштановых волос.
Своеобразная игра между ними повторилась несколько раз. А любую игру всегда хочется продолжить. Это стремление становится непреодолимым, когда дело идет о такой девушке и об одиноком и страстном юноше. Так незначительные слова, долгие взгляды и бессознательные улыбки образуют прочный мост, который строится сам собой.
Он стал думать о ней по ночам и, просыпаясь утром, начинал искать ее сперва в мыслях, а потом и живую, и каким-то чудом выходило так, что он встречал ее все чаще и все дольше глядел на нее. Так как это было время, когда все росло и зеленело, и она ему казалась частью, правда одухотворенной и особой, этого богатого растительного мира. «Как растение», – говорил он про себя, будто слова какой-то песни, не думая, ни почему их произносит, ни что они означают. Такая, какой она была, – румяная, улыбающаяся и стыдливая, ежеминутно склоняющая голову, как цветок склоняет венчик, она и вправду была в его представлении сродни цветам и плодам, в каком-то глубоком и особенном смысле, в котором он сам себе не отдавал отчета, чем-то вроде совести и души плодов и цветов.
Когда весна вступила в свои права и деревья покрылись листвой, девушки перешли в сад. Тут они вязали в течение всего лета.
Если бы кто-нибудь говорил о Травнике с двумя путешественниками, из которых один провел там зиму, а другой лето, то услышал бы два противоположных мнения об этом городе. Первый сказал бы, что побывал в аду, а второй – неподалеку от рая.
В таких невыгодно расположенных городах с неблагодарным климатом всегда выпадает несколько недель в году, своей красотой и мягкостью как бы вознаграждающих за все капризы и неприятности остальной части года. В Травнике такой период бывает между началом июня и концом августа и захватывает обычно весь июль.
Когда даже в самых глубоких канавах растает снег, когда пройдут весенние дожди и бураны и перебесятся ветры, то холодные, то теплые, то порывистые и шумные, то тихие и легкие, когда облака прочно осядут на высоких краях крутого амфитеатра гор, окружающих Травник, когда длинные, теплые, сверкающие дни почти совсем вытеснят ночи, когда на склонах пожелтеют поля и отяжелевшие груши начнут ронять на жнивье обильные перезрелые плоды, тогда и наступает пора короткого и прекрасного травницкого лета.
Дефоссе стал сокращать свои прогулки по окрестностям и по многу часов проводил в большом, обрывистом саду консульства, изучая хорошо знакомые дорожки и кусты, словно это было что-то удивительное и невиданное. Йелка приходила либо раньше других девушек, либо старалась задержаться подольше. С небольшого пригорка, на котором они работали, она стала все чаще спускаться в консульство то за нитками, то за водой или полдником. Теперь она встречалась с молодым человеком на узких, заросших зеленью дорожках. Она опускала свое скуластое белое лицо, а он с улыбкой выговаривал свои «иллирийские» слова, в которых буква «р» звучала не звонко и раскатисто, а глухо и растянуто, а ударение всегда падало на последний слог.
Раз после полудня они дольше обычного оставались вдвоем на одной из боковых дорожек среди густой листвы, где и тень дышала теплом. На девушке были широкие синие шаровары и узкая безрукавка из светло-голубого атласа на одной застежке. Рубашка в сборку застегнута на шее серебряной булавкой. Рукава рубашки доходили до локтей; руки у нее были молодые, полные, сквозь прозрачную кожу проступала сеть красноватых жилок. Дефоссе взял ее за локоть. Кровь сразу отлила, и на руке остались бледные следы от его пальцев.
Ее губы – розовые, необыкновенно пухлые и обе совершенно одинаковые – медленно раздвинулись, и в уголках их притаилась молящая, будто плачущая улыбка, но сразу вслед за этим девушка опустила голову и прильнула к нему, покорно и без слов, как травинка или ветка. «Как растение», – подумал он еще раз, однако к нему прижималось человеческое существо, женщина, до боли преисполненная сердечной истомы, душа которой еще боролась, но уже примирилась с гибелью и падением. Руки беспомощно повисли, рот приоткрылся, веки опустились, словно девушка потеряла сознание. Так она прильнула к нему, изнемогая от любви, от наслаждения, которое сулит любовь, и от ужаса, который следует за ней, как тень. Прижавшись к нему, ослабевшая, сломленная, она являла собой не только полную преданность, беспомощность, гибель и отчаяние, но и неожиданное величие.
У Дефоссе заиграла кровь от предчувствия совершенного счастья и безудержного торжества. В нем загорались и гасли, подобно светлячкам, бесконечные видения. Да, это – то! Он всегда чувствовал и неоднократно утверждал, что эта убогая, бесплодная и запустелая страна на самом деле богата и роскошна. И вот перед ним одна из скрытых красот этого края.
Зеленые и цветущие крутые склоны еще раз зацвели, и воздух наполнился неведомым пьянящим ароматом, который всегда – как ему теперь казалось – наполнял эту долину. Обнаружилось сокровенное богатство этого на первый взгляд мрачного и бедного края, неожиданно выявилось, что его напряженная тишина таит быстрое, прерывистое дыхание любви, в котором стон сопротивления борется со сладостью согласия, что ночное безмолвие и серость этого края – лишь маска, под которой струится трепетный свет, алый от сладостной крови.
Рядом оказалось расщепленное, толстое и старое грушевое дерево; поваленное, оно лежало на крутом склоне наподобие дивана. Ствол его уже высох, но на ветвях еще зеленели листья. Обнявшись, они прислонились к дереву, потом – сначала девушка, а за ней Дефоссе – опустились на раздвоенный ствол, как на приготовленную постель. Она все еще не сопротивлялась – ни звука, ни жеста, но когда руки Дефоссе скользнули вдоль ее тела и обхватили талию между шароварами и безрукавкой, там, где была только рубашка, девушка вывернулась, как ветка, которую сгибают во время сбора винограда, а она упруго выпрямляется. Он даже не почувствовал, как девушка оттолкнула его, не заметил, как снова очутился на дорожке. У ног его на коленях стояла Йелка, сложив руки и подняв к нему лицо, как на молитве. Она вдруг побледнела, в глазах стояли слезы. Так, на коленях со сложенными руками, она произносила слова, которых он не понимал, но которые в ту минуту были ему понятнее, чем если бы они были сказаны на его родном языке: она умоляла его быть человеком и пощадить ее, не дать ей погибнуть, потому что сама она не может защититься от того, что нахлынуло на нее с неотвратимостью смерти, но что было опаснее и страшнее смерти. Заклинала его жизнью матери и всем, что ему дорого на свете, и все повторяла голосом, вдруг ставшим глухим от страсти и волнения:
– Не надо, не надо!..
Дефоссе, чувствуя, как у него на шее стучит в жилах кровь, старался сосредоточиться и понять эту неожиданную и чрезвычайно быструю перемену ситуации. Он спрашивал себя с удивлением, что могло вырвать из его объятий обомлевшую девушку и что держит их теперь в таком смешном положении: он стоит взволнованный и прямой, как некий языческий царь, а она на коленях у его ног, сложа руки и подняв на него глаза, полные слез, как святая на картине. Он хотел поднять ее, снова привлечь к себе и положить на раздвоенный ствол поваленной груши, но не нашел в себе ни сил, ни порыва. Все вдруг и непонятным образом изменилось.
Он не знал, как и когда это случилось, но ясно видел, что, слабая и податливая, как тростник, девушка каким-то чудесным образом перешла из «мира растительного», в котором до сих пор находилась, совсем в другой мир и тайком укрылась под надежную защиту чьей-то сильной воли, которой он не мог противостоять. Он чувствовал себя обманутым, осмеянным и испытывал мучительное разочарование. Его обуял стыд, а потом гнев – на нее, на себя, на весь мир. Он нагнулся и бережно поднял ее с земли, бормоча какие-то слова. Она по-прежнему не сопротивлялась, была покорна и подчинялась каждому движению его руки, но словами и взглядом продолжала умолять смилостивиться и пощадить ее. Он и не собирался больше обнимать ее. Нахмуренный и подчеркнуто учтивый, он помог ей разгладить складки на шароварах и застегнуть серебряную булавку на шее. А затем девушка так же внезапно и непонятно для него скрылась, сбежав по круче к консульству.
Дефоссе провел несколько беспокойных ночей. Им все время владело смущение, бессильный гнев и стыд за те первые минуты в саду. Он постоянно спрашивал себя: что же такое было с ним и с девушкой и как это могло случиться? Он упорно отгонял от себя этот вопрос и старался не думать о мимолетной встрече на запущенной садовой дорожке. И все-таки то и дело говорил себе с горькой усмешкой:
– Да, да, ты действительно непогрешимый психолог и превосходный любовник. Почему-то вбил себе в голову, что она из растительного мира, воплощение языческого духа этой страны, неоткрытое сокровище, которое стоит только подобрать. И ты удостоил ее тем, что нагнулся. И вдруг все меняется. Она стоит на коленях вроде Исаака, которого отец его Авраам намеревается принести в жертву, но которого в последнюю минуту ангел спасает от смерти. Да, она именно так стояла на коленях. А ты разыгрывал из себя Авраама. С чем тебя и поздравляю! Ты вздумал играть роль в живых картинах на библейские темы с глубоко моральной, религиозной тенденцией. Поздравляю!
Только дальние прогулки по горным дубравам в окрестностях города успокаивали его и давали другое направление мыслям.
Неутоленное желание и тщеславие молодости мучили его в течение нескольких дней, но и это прошло. Он стал успокаиваться и забывать. Проходя мимо вязальщиц в саду, он видел опущенную голову Йелки, но не останавливался в смущении, а, обронив непринужденно и весело какое-нибудь выученное в тот день слово, спешил дальше, всегда улыбающийся и свежий.
И только в одну из ночей он добавил в своей книге о Боснии, в том месте, где говорится о типах и этнических особенностях боснийцев, следующий абзац:
«Женщины обычно высокие; многие из них обращают на себя внимание правильными чертами лица, хорошим сложением и ослепительной белизной кожи».
XIВсе в этой стране принимало с течением времени неожиданный оборот и в любой момент могло стать противоположным тому, чем казалось. Давиль уже стал мириться с тем неприятным фактом, что потерял Хусрефа Мехмед-пашу, живого и откровенного человека, у которого всегда можно было встретить сердечный прием, доброжелательное понимание и хоть какую-то помощь, что вместо него появился черствый, холодный и несчастный Ибрагим-паша, бывший в тягость и себе самому, и другим и от которого, как от камня, трудно было добиться теплого слова или человеческого участия. В этом мнении он утвердился после первого же свидания с визирем, а особенно под влиянием всего того, что он узнавал о нем от Давны. Но очень скоро консул и на этом примере должен был убедиться, насколько Давна в своей трезвой и верной оценке людей был, в сущности, односторонен. Собственно, его суждения были проницательны, беспощадны и достоверны в тех случаях, когда дело шло о вещах обычных, связанных с повседневной, будничной жизнью. Но, сталкиваясь с более тонкими и сложными вопросами, он по духовной лености и моральному равнодушию спешил с обобщениями и судил скороспело и упрощенно. Так было и в данном случае. Уже после второй и третьей встречи консул заметил, что визирь не так неприступен, как показалось сначала. Прежде всего и у нового визиря был свой «конек». Только это было не море, как у Хусрефа Мехмед-паши, и не другой какой-нибудь живой и реальный предмет. Для Ибрагим-паши исходной и заключительной точкой всякого разговора было свержение его государя Селима III и его, Ибрагим-паши, личная трагедия, тесно с этим связанная; это служило отправным пунктом для его суждений обо всем. Отталкиваясь от этого события, он оценивал все происходящее вокруг, и, разумеется, с этой точки зрения все выглядело мрачно, трудно и безнадежно. Но для консула главным было то, что визирь не просто «физическое чудовище и духовная мумия», что существуют темы и слова, способные тронуть его и взволновать. Больше того, со временем консул убедился, что черствый, мрачный визирь, каждая беседа с которым походила на урок о тщете всего сущего, был во многих случаях надежнее и лучше быстрого, блестящего и вечно улыбающегося Мехмед-паши. Визирю очень нравилось, доставляло удовольствие и внушало доверие умение Давиля выслушивать его пессимистические суждения и общие рассуждения. И визирь никогда так подолгу и доверительно не разговаривал ни с фон Миттерером, ни с кем-либо другим, как он все чаще разговаривал теперь с Давилем. А консул все больше привыкал к таким собеседованиям, когда оба они погружались в обсуждение всевозможных несчастий в этом далеком от совершенства мире. Кончались они обычно тем, что консул разрешал какое-нибудь маленькое дело, ради чего, собственно, и приезжал к визирю.
Беседы их всегда начинались с прославления одного из последних успехов Наполеона на поле битвы или в международной политике, но, следуя своей склонности, визирь сразу переходил с предметов положительных и радостных на тяжелые и неблагоприятные. Например, на Англию, на ее упорство, бесцеремонность, алчность, с которыми тщетно борется даже гений Наполеона. Отсюда был только один шаг до рассуждений о том, как вообще трудно управлять народом и приказывать людям, как неблагодарна задача государя и предводителя, о том, что дела на этом свете всегда идут не так, как надо, вопреки законам бессильной морали и желаниям благородных людей. А отсюда уже легко было перейти на судьбу Селима III и его сподвижников. Давиль слушал с молчаливым вниманием и глубоким участием, а визирь говорил с горестным воодушевлением.
– Мир не хочет счастья. Народы не желают иметь ни мудрых правителей, ни благородных государей. Доброта на этом свете – голая сирота. Да поможет всевышний вашему императору, но я своими глазами видел, что произошло с моим государем султаном Селимом. Этого человека бог наделил всеми достоинствами, физическими и духовными. Он горел как свеча, целиком отдавая себя на благо и процветание империи. Умный, отзывчивый, справедливый, он никогда не помышлял о зле и предательстве, не подозревал, какая бездна злобы, лицемерия и вероломства кроется в людях; потому и не умел он оберегать себя, и никто не смог его уберечь. Отдавая все силы на выполнение своих обязанностей государя и живя такой чистой жизнью, какой не помнят со времен первых халифов, Селим ничего не предпринимал, чтобы защитить себя от нападения и предательства дурных людей. Потому и могло случиться, что отряд ямаков, военного сброда, под предводительством взбесившегося хама смог свергнуть с престола такого султана, заточить в сераль и тем сорвать его спасительные и дальновидные планы, а на престол посадить тупоумного и развратного неудачника, окруженного пьяницами, невеждами и матерыми предателями. Вот что творится на свете! И как мало людей, которые это понимают, а еще меньше таких, которые хотели бы и могли этому помешать.
Отсюда легко переходили на Боснию и обстоятельства, в которых и визирь и консул принуждены жить в этой стране. Говоря о Боснии и боснийцах, Ибрагим-паша не находил достаточно резких слов и мрачных красок, а Давиль слушал его с искренним участием и полным пониманием.
Визирь никак не мог примириться с тем, что свержение Селима произошло как раз тогда, когда Ибрагим-паша находился во главе армии{29}, готовый выбросить русских из Молдавии и Валахии, в тот самый момент, когда успех был обеспечен, а из-за этого происшествия империя, замечательный султан и сам он, Ибрагим-паша, лишились крупной победы, которую он уже держал в руках; вместо этого, униженный, сломленный, он неожиданно оказался заброшенным в далекую и нищенскую страну.
– Вы сами видите, мой благородный друг, где мы живем, с кем я должен бороться и иметь дело. Легче справиться со стадом диких буйволов, чем с этими боснийскими бегами и айянами. Дикари, дикари, дикари, неразумные, грубые и тупые, но щепетильные и заносчивые, своевольные, но пустоголовые. Поверьте мне: у боснийцев нет ни чувства чести в сердце, ни ума в голове. Они соревнуются в ссорах и взаимных подлостях, и это единственное, что они знают и умеют делать. И вот с таким-то народом я должен теперь усмирять восстание в Сербии! Вот как идут дела в нашей империи с тех пор, как свергли и заточили султана Селима, и одному богу известно, что нас ждет дальше.
Визирь остановился и замолчал, а на неподвижном лице его слабым блеском темных кристаллов засияли глубоко запавшие глаза, которым лишь отчаяние могло придать жизнь.
Молчание прервал Давиль, заметив рассчитанно и осторожно:
– А что, если бы по какому-то счастливому стечению обстоятельств положение в Стамбуле изменилось и вы вновь стали бы великим визирем…
– Ну и что! – махнул рукой визирь, словно задавшись целью в это утро привести и себя и консула в состояние самой мрачной безысходности. – Ну и что! – продолжал он глухим голосом. – Рассылал бы фирманы, которых не исполняли бы, защищал страну от русских, англичан, сербов и всех, кто бы на нее ни напал. Спасал бы то, что трудно спасти.
В конце подобных разговоров консул обычно касался вопроса, ради которого пришел, – о разрешении на вывоз пшеницы в Далмацию, о каком-нибудь пограничном споре и тому подобном, – визирь, занятый скорбным раздумьем, без долгих размышлений на все давал согласие.
В следующий прием визирь затрагивал другие вопросы, но всегда с таким же глубоким и безнадежным спокойствием и такой же горечью. Рассказывал о новом великом визире, который ненавидит его, завидуя его успехам в прежних войнах, а потому не посылает ему ни указаний, ни информации, ни средств для борьбы против Сербии. Или о своем предшественнике в Травнике Хусрефе Мехмед-паше, которого тот же великий визирь изгнал в страшную даль, за тридевять земель.
Все это нагромождалось и переплеталось в голове консула, и, хотя ему обычно удавалось благополучно закончить свое дело, он возвращался домой словно отравленный, не мог обедать, а по ночам ему снились несчастья, изгнания и всевозможные беды.
И все же Давиль испытывал удовлетворение, ибо неизлечимый пессимизм визиря в этом грубом турецком мире без тени понимания и человечности был понятен злосчастному иностранному консулу и хотя бы на мгновение их сближал, являясь для обоих той укромной обителью, где они могли встречаться друг с другом как человек с человеком. Временами ему казалось, что еще немного усилий – и между ним и визирем установится настоящая дружба, наладятся подлинно человеческие отношения.
Но как раз тогда случалось обычно нечто такое, что сразу обнаруживало непроходимую пропасть между ними и показывало визиря в новом свете, хуже и печальнее, чем характеризовал его Давна, и это вновь повергало Давиля в полную растерянность и отнимало всякую надежду встретить когда-либо в этих краях «луч человечности», который жил бы дольше, чем слеза, улыбка или взгляд. В удивлении и отчаянии консул говорил тогда себе, что суровая школа Востока длится вечно и что в этих странах нет конца неожиданностям, как нет и правильного мерила, твердого суждения и прочных ценностей в человеческих взаимоотношениях.
Даже приблизительно нельзя было предвидеть или сказать, чего можно ждать от этих людей.
Однажды визирь неожиданно пригласил обоих консулов вместе, чего еще не бывало. Их свиты встретились у ворот. Зал выглядел торжественно. Ичогланы расхаживали, перешептываясь. Визирь был любезен и полон достоинства. После того как подали первый кофе и чубуки, появились каймакам и тефтедар и заняли места в сторонке. Визирь сообщил консулам, что его чехайя Сулейман-паша с боснийским войском переправился на прошлой неделе через Дрину и уничтожил самый сильный и самый организованный сербский отряд, обученный «русскими офицерами», которые им командовали. Он выразил надежду, что после этой победы в Сербии не осталось больше русских и что это, по всей вероятности, начало конца восстания. Победа весьма важная, сказал визирь, и недалек тот час, по-видимому, когда порядок и спокойствие будут восстановлены и в Сербии. Зная, что консулы как добрые друзья и соседи будут довольны этим, он и пригласил их разделить с ним радость по поводу столь приятных вестей.
Визирь умолк. Это послужило как бы сигналом, и в зал чуть не бегом ввалились многочисленные ичогланы. Посредине разостлали циновку. Притащили корзины, мешки из грубой кожи и черные сальные кабаньи бурдюки. Все это быстро развязали, открыли и стали вытряхивать содержимое. В это время слуги подали консулам лимонад и новые чубуки.
На циновку посыпались отрезанные человеческие уши и носы – неописуемая куча человеческого мяса, посоленного и почерневшего от запекшейся крови. По комнате распространился тяжелый, отвратительный запах мокрой соли и затхлой крови. Из корзин и мешков извлекли фуражки, ремни и патронташи с металлическим орлом, красные и желтые знамена, узкие и обшитые золотом, с изображением святого посередине. Вместе с ними выпали две-три рипиды, глухо стукнувшись о пол. Наконец принесли несколько штыков, связанных лыком.
Это были трофеи победы над сербской повстанческой армией, «созданной и предводительствуемой русскими».
Кто-то невидимый в углу проговорил глубоким молитвенным голосом: «Бог благословил оружие ислама!» На это все присутствовавшие турки ответили невнятным бормотанием.
Давиль, который и во сне не мог увидеть подобное зрелище, почувствовал, как его мутит, а выпитый лимонад подступает к горлу. Он позабыл о чубуке и только глядел на фон Миттерера, словно ожидая от него спасения и объяснения. Австриец тоже был бледен и подавлен, но, давно привыкший к подобным неожиданностям, он первый нашелся и поздравил визиря и боснийскую армию. Ревность и боязнь отстать от своего соперника побороли в Давиле чувства ужаса и отвращения, и он произнес несколько фраз в честь победы, пожелав дальнейшего успеха султанскому оружию и мира в империи. Все это он проговорил каким-то деревянным голосом. Он отчетливо слышал каждое свое слово, но как бы произнесенное другим. Все было переведено. Тогда снова заговорил визирь. Он поблагодарил консулов за добрые пожелания и поздравления и выразил радость, что видит их около себя в момент, когда, глубоко взволнованный, глядит на это оружие, постыдно брошенное вероломными москалями на ноле сражения.
Давиль решился взглянуть на визиря. Его глаза действительно стали живее и сияли в глубине, как кристаллы.
Тот же глубокий голос опять изрек несколько торжественных непонятных слов.
По залу разнесся едва слышный говор. Прием был окончен. Видя, что фон Миттерер разглядывает разложенное на циновке, Давиль собрался с силами и бросил взгляд на трофеи. Неодушевленные предметы из кожи и металла были вдвойне мертвыми и лежали тут, жалкие и брошенные, словно их выкопали спустя многие века и вынесли на свет божий. Не поддающаяся описанию груда отрезанных ушей и носов лежала спокойно; кругом была рассыпана соль, черная от крови, как земля, и смешанная с мякиной. Все это издавало едкий, одуряюще тяжелый запах.
Давиль несколько раз поглядывал то на фон Миттерера, то на разостланную перед ним циновку в тайной надежде, что это зрелище исчезнет, как ужасное видение, но взгляд его каждый раз наталкивался на те же предметы, невероятные, но материальные и неумолимые в своей неподвижности.
«Проснуться! – мелькало в голове у Давиля. – Проснуться, стряхнуть с себя это наваждение, выбежать на солнце, протереть глаза и глотнуть свежего воздуха!» Но пробуждения нет, ибо этот гнусный ужас – сама действительность. Таковы эти люди. Такова их жизнь. Так поступают лучшие из них.
Давиль снова почувствовал, что его мутит и что у него темнеет в глазах. Ему все-таки удалось вежливо проститься и доехать спокойно со своей свитой до дома, где, вместо того чтобы приступить к обеду, он лег в постель.
На другой день Давиль и фон Миттерер встретились, не задумываясь над вопросом, кто кому должен визит, и позабыв о том, сколько времени прошло после их последнего свидания. Они так и кинулись друг к другу. Долго жали руки и без слов смотрели друг другу в глаза, как двое потерпевших кораблекрушение. Фон Миттерер уже получил известие о действительных размерах турецкой победы и происхождении трофеев. Оружие было отнято у какого-то сербского отряда, а знамена и все остальное было результатом обычной резни, учиненной раздосадованной и праздной армией над боснийской райей во время церковного праздника где-то около Зворника.







