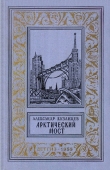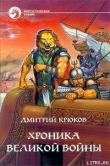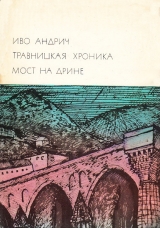
Текст книги "Травницкая хроника. Мост на Дрине"
Автор книги: Иво Андрич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Для Дембо, умного, язвительного и беспощадного насмешника, но доброго начальника и образцового монаха, брат Лука в течение многих лет служил предметом бесконечных рассказов и шуток. Но и Дембо, как и многие другие, дождался того, что умер на руках брата Луки. Правда, и тогда, морщась от боли, улыбаясь и одновременно задыхаясь, он говорил собравшимся вокруг него монахам:
– Братья, все монастырские счета в порядке, и кредит и наличные деньги. Викарий все знает до мельчайших подробностей. А теперь простите меня и поминайте в своих молитвах. И знайте, что меня доконали две вещи: одышка и Лекарь.
Так шутил Дембо и дошутился до смерти.
Только все это было давно, «во времена Дембо», когда брат Лука был моложе и проворнее, когда еще были живы его сверстники, из которых теперь уже почти никого не осталось в живых, потому что в день святого Ивана летнего ему пошел восемьдесят первый год. Брат Лука давно уже простил монахам, что не позволили ему остаться дольше в Падуе, что никогда не давали ему, сколько требуется, на книги и опыты, да и они с течением времени перестали дразнить его за необычный образ жизни, за страсть к врачеванию и за дружбу с Мордо Атиясом. Брат Лука продолжал ходить в Травник, сидел с Мордо в его лавке, обмениваясь с ним сведениями, опытом, травами и кореньями на ляпис и серу, потому что никто не умел так засушивать липовый цвет и сохранять козью вербу, зверобой и тысячелистник, как это делал брат Лука. Но монахи уже давно привыкли к этой «дружбе между Ветхим и Новым заветом».
И другая причина, из-за которой чаще всего возникали размолвки с монахами, а именно посещение и лечение больных за пределами монастыря, теперь почти сошла на нет. А когда-то это служило источником постоянных неприятностей для монастыря и единственной причиной серьезных столкновений между братом Лукой и монастырскими властями. И в ту пору брат Лука не искал пациентов среди мирян, в особенности среди турок; сами турки приходили к нему, иногда призывали его и просили, а чаще приказывали и под стражей отводили к больному. Эти посещения приносили как брату Луке, так и монастырю немало хлопот, убытков и неприятностей. Случалось, позовут его, умоляют вылечить турка или турчанку, а потом жалуются на него и на монастырь, что больному, мол, хуже стало, умер он. Но и тогда, когда лечение проходило успешно и обрадованные родственники одаривали брата Луку, находились злонамеренные и жадные турки, обвинявшие его в том, что он посещает турецкие дома. Свидетели доказывали, что монаха звали и что приходил он по доброму и богоугодному делу, но пока это докажешь, опровергнешь и пресечешь жалобу, монастырь претерпевает мучения и страхи и несет расходы. Поэтому монахи запрещали брату Луке лечить в турецких домах, пока хозяин дома не получит от властей разрешения, в котором прямо сказано, что приглашают его по доброй воле, а власти ничего против этого не имеют.
Но даже и при всем этом иногда не обходилось без затруднении и неприятностей. Были, однако, случаи, и много, когда лечение шло успешно, когда признательные и растроганные люди осыпали и брата Луку и монастырь благодарностями и дарами.
Один бег из мелких сельских бегов, но смелый и влиятельный, которому брат Лука вылечил запущенную рану под коленом, каждый раз говорил ему при встрече:
– Поутру, как только встаю, сразу тебя поминаю, первым после бога.
И до самой смерти этот бег защищал монастырь и монахов и в случае нужды бывал их поручителем и свидетелем.
Один богатый турок из Турбета, чью жену брат Лука спас, никому об этом не рассказывал (потому что о женщинах не принято говорить), но каждый год после праздника богородицы посылал монастырю две окки меда и овечью шкуру с поручением «передать священнику, который лечит».
Но бывали и случаи черной неблагодарности и дьявольской злобы. В монастыре долго помнили случай с молодой снохой Мустай-бега Миралема. На молодую женщину напала тоска, она не находила себе места, день и ночь кричала, дергалась, скрежетала зубами или же по целым дням лежала неподвижно, не произнося ни слова, ни на кого не глядя и не принимая пищи. Домашние по совету разных людей делали все, что могли, но ничего не помогало – ни ворожеи, ни ходжи, ни талисманы. Женщина таяла не по дням, а по часам. Наконец сам свекор, старый Миралем, послал в монастырь за монахом Лекарем.
Когда брат Лука пришел, женщина уже второй день находилась в полнейшем изнеможении, лежала скорченная, и никто не мог вывести ее из состояния мрачного молчания. Сперва она не хотела головы повернуть. Но вдруг, чуть приподняв веки, увидела грубые монашеские сандалии, подол сутаны и белый шнур, каким опоясываются монахи-францисканцы; потом недовольный взгляд ее стал медленно подниматься по тощей, долговязой фигуре брата Луки, и потребовалось много времени, пока он добрался до его седой головы и встретился со смеющимся взглядом его синих глаз. И тут женщина неожиданно разразилась безумным смехом, которому не было конца. Напрасно монах старался успокоить ее словами и жестами. Выходя из комнаты Миралема, он слышал за собой ее ужасающий смех, как далекое эхо.
А уже на другой день янычары отвели закованного брата Луку в тюрьму. Настоятелю было тут же объявлено: старый Миралем подал на Лекаря жалобу за то, что тот напустил порчу на его сноху, и вот уже второй день молодая женщина не перестает смеяться. Настоятель уверял, что этого не может быть, что доктор старается вылечить больного, а никакой ворожбой не занимается. Тщетно раздавал он направо и палево кому плету, кому две. Ему объявили только, что дело Лекаря весьма серьезно, так как сноха рассказала, что монах подсунул ей какое-то питье, «черное и густое, как колесная мазь», и дважды ударил большим крестом по лбу, после чего она и начала надрывно хохотать.
И вдруг, когда все казалось безнадежно мрачным, с брата Луки сняли кандалы и отпустили его, словно бы ничего не случилось. Оказалось, что на четвертый день сноха вдруг успокоилась, а потом разразилась обильными, но тихими слезами. Позвав свекра и мужа, она заявила, что возвела напраслину на монаха в минуту безумия, призналась, что он не давал ей никаких лекарств и креста у него не было, а он лишь распростер над ней руки и молил бога согласно своей вере; от этого ей теперь и полегчало.
Так дело и улеглось. И только монахи еще долго были недовольны братом Лукой. Брат Мийо Ковачевич, бывший в ту пору настоятелем, которому больше всех пришлось побегать да поволноваться из-за этого происшествия, потом сказал при всех в трапезной:
– Вот что, брат Лука: или ты убирайся со своими полоумными мусульманками, или я убегу в лес, а ты будь тут сразу и лекарем и настоятелем. Потому что так больше нельзя. – И он с серьезным видом сердито протянул ему ключи.
Но все успокоилось и позабылось. Осталась только запись настоятеля в монастырской книге штрафов и расходов:
«11 января пришел мубашир с цепью на груди с заявлением, что брат Лука Дафинич, врач (не в добрый час занялся он врачеванием!), дал снохе Миралема вредные пилюли… Уплачено кадии и эмину 148 грошей».
Но и в дальнейшем не обходилось без каверз из-за врачебной практики брата Луки. В монастыре об этом забывали, это помнила книга штрафов и расходов на взятки, где осталось много записей о брате Луке: «За то, что брат Лука лечил турка, – 48 грошей. По делу лекаря – 20 грошей».
Тут же был записан номер приказа, которым начальство строго-настрого запрещало «творить молитву над турком или турчанкой или давать им лекарства», даже если у них на то имеется разрешение турецких властей. Но сразу после этого записан новый штраф: «За то, что брат Лука не пошел к больному, заплатили 70 грошей».
И так подряд, из года в год.
За долгую жизнь брата Луки дважды в Травнике свирепствовала чума. Народ болел, умирал, спасался бегством в горы. Базар закрывался, много домов опустело навеки. Слабела связь между самыми близкими, исчезало уважение. Во время обеих эпидемии брат Лука выказал величие и бесстрашие и как врач и как монах. Он обходил пораженные кварталы, лечил больных, исповедовал и причащал умирающих, хоронил мертвых, помогал и давал советы выздоравливающим. Это признавали и монахи, и это создало ему положение и славу врача в глазах турок.
Но кто долго живет, тот переживает все, даже свои заслуги. После эпидемий и несчастий наступали мирные, благополучные годы, все менялось и забывалось, стиралось и бледнело. Среди всех этих успехов и неудач, благодарностей и брани, неприятностей и побед только брат Лука оставался неизменным и непоколебимым, со своим отсутствующим взглядом, легкой улыбкой и быстрыми движениями, с верой в тайную связь между лекарствами и болезнями. Для него, не имеющего иных интересов в жизни, кроме лекарств и возни с ними, все в мире находило надлежащее место и оправдание: и болезнь, и расходы, и гнев настоятеля, и недоразумения, и клевета. Он благословлял бы, в конце концов, даже арест, если бы не цепи на ногах и постоянная забота, что в монастыре испортятся его лекарства и подохнут пиявки, монахи перепутают или выбросят пучки заготовленных им трав и пакеты.
Но и своих «великих супостатов» – монахов, на которых он сетовал порой в глубине души, брат Лука всегда лечил, если им случалось заболеть, ухаживал за ними преданно и от всего сердца, а здоровым давал советы и заботился о них. Стоило закашлять кому-нибудь из них, брат Лука сейчас же ставил на мангал горшочек с травами и лично приносил больному в келью горячий душистый чай и заставлял выпить. Были среди монахов раздражительные, чудаковатые, мрачные, равнодушные «стариканы», которые слышать не желали ни о лекарствах, ни о Лекаре, прогоняли его из кельи, насмехаясь над ним и его лечением, но брата Луку нельзя было смутить или сбить с пути. Он не обращал внимания на шутки и обиды, словно и не слышал их, и настойчиво просил больных монахов лечиться и беречь себя, умолял их, заставлял и даже подкупал, чтобы они приняли лекарство, приготовленное им с таким трудом, а часто и с затратами.
Один из таких «стариканов» любил ракию больше, чем было дозволено начальством и полезно для здоровья и для духовного совершенствования. У старика болела печень, но он не бросал пить. Брат Лука, в списках которого имелось лекарство под названием «чтоб человеку опротивело пить», лечил старого монаха насильно и без успеха. Каждый день между ними возобновлялся один и тот же разговор:
– Оставь меня в покое, брат Лука, и заботься о тех, кто хочет лечиться и для которых есть лекарства, – ворчал старик.
– Одумайся, сердечный! Для всякого есть помощь. Каждому земля припасла лекарство.
И брат Лука садился подле угрюмого больного старика, который и в здоровом-то состоянии не любил ни книг, ни наук, приносил ему книжки и пространно и старательно доказывал, как богата земля и как она милостива к человеку:
– Знаешь ли, что Плиний говорил про землю, что она «benigna, mitis, indulgens, ususque mortalium semper ancilla»[16]16
Благодетельна, мягка, терпелива и всегда к услугам людей (лат.).
[Закрыть], и что он писал: «Illa medicas fundit herbas et semper homini parturit»[17]17
Она производит лекарственные травы и всегда рождает для людей (лат.).
[Закрыть]. Видишь, это Плиний говорит! А ты все твердишь: нет для меня лекарства. Есть, и мы должны его найти.
Старик только морщился и с досадой отмахивался от лекарств и от Плиния, но брата Луку трудно было переубедить или остановить.
А когда ему не удавалось помочь лекарствами и успокоить цитатами, он под видом лекарств приносил старику немного ракии, которую настоятель категорически запретил, и хоть таким образом облегчал его мучения.
Брат Лука пекся не только о монастырской братии. Заботясь о тех, кто был разбросан по приходам, он своим мелким почерком исписывал листы желтой бумаги и сшивал в тонкие тетрадки. Эти тетрадки, прозванные лекарскими, переписывались другими и распространялись по селам и приходам. В алфавитном порядке в них были записаны народные средства вперемежку с советами по гигиене, суевериями и полезными сведениями из области домашнего хозяйства. Например, как вывести с сутаны пятно от восковой свечи или как исправить прокисшее вино. Тут, наряду с лекарством от желтухи и от «лихорадки, которая бывает не от желчи», было выписано из итальянских источников, «как мастера добывают минералы в Индии и других местах» или «как делать вино, называемое вермут, которое полезно для укрепления внутренностей». Все собранные братом Лукой знания и сведения, от древних Compositiones medicamentorum[18]18
Собрание лекарств (лат.).
[Закрыть] до бабьих снадобий и лекарств Мордо, все находилось в этих тетрадях. Однако и здесь брат Лука наталкивался на неблагодарность братии и испытывал сильные разочарования. Одни переписывали неаккуратно, другие по незнанию или невнимательности искажали и пропускали слова и целые фразы, третьи на некоторых рецептах делали насмешливые замечания о лекарстве и о самом Лекаре. Но брат Лука и сам смеялся над этими замечаниями, когда они ему попадались, утешая себя тем, что труд по составлению лекарских руководств все-таки приносит больше пользы народу и монахам, чем ему – обид и страданий от невнимательности и непонимания братии.
Еще одна, более безобидная вещь, мешала брату Луке в его работе. Это были, как мы уже говорили, мыши. В огромном старом монастырском здании действительно было множество мышей. Монахи уверяли, что келья брата Луки, походившая на аптеку Мордо в Травнике, со всеми своими мазями и всевозможными бальзамами и лекарствами была главной причиной скопления мышей. А брат Лука, наоборот, жаловался, что мыши развелись из-за ветхости здания и беспорядка в кельях, что они портят ему лекарства и он бессилен с ними бороться. Это борьба с мышами превратилась с течением времени в безобидную манию. Он скулил и охал, преувеличивая тот вред, который они на самом деле причиняли. Запирал вещи и подвешивал лекарства к потолку, пускался на всевозможные выдумки, стараясь перехитрить своих невидимых врагов. Мечтал о большой металлической коробке, в которой мог бы хранить наиболее ценные снадобья под ключом, только не решался заговорить с монахами или настоятелем о такой крупной затрате. Но он не мог утешиться, если мыши в самом деле съедали заячье сало, тщательно приготовленное и старательно вымытое.
В келье у него всегда были две мышеловки: большая и маленькая. Каждый вечер он заботливо заряжал их, насаживая кусочек ветчины или остаток сальной свечи из подсвечника. А наутро, проверяя мышеловки перед уходом на общую молитву, он не находил в них ни мышей, ни ветчины, ни свечного сала. Но если, случалось, мышь и в самом деле попадалась, он, проснувшись от стука мышеловки, вставал и начинал ходить вокруг испуганной мышки, грозя ей пальцем и качая головой.
– A-а! Ну, что ты теперь будешь делать, бедняжка? Сальца заячьего захотелось? Вот тебе!
Потом, как был, босой, завернувшись в сутану, осторожно брал мышеловку и выносил на длинную веранду, шел к лестнице, отворял дверцу и говорил шепотом:
– Выходи, воришка! Давай, давай!
Мышь в смятении сбегала по ступеням, мчалась прямо по мостовой и исчезала в поленнице дров, возвышавшейся тут круглый год.
Монахи, знавшие, как брат Лука ловил мышей, часто дразнили его, уверяя, что Лекарь годами «ловит и выпускает все одну и ту же мышь». Брат Лука решительно отрицал это и подробно объяснял, что за год ему удается выловить нескольких мышей – больших, маленьких и средних.
– А я вот слышал, – говорил один из стариков, – что, выпуская мышь, ты отворяешь дверцу и говоришь: «Вылезай и беги в келью к настоятелю. Живей!»
– Ну и язва! Надо ж, что придумал! – отвечал, смеясь и защищаясь, брат Лука.
– Я не выдумываю, хечим-эфенди, это слышали те, кто по ночам шляется по веранде вроде тебя.
– Отстань лучше, язва!
Но тут подхватывали другие.
– А я, брат, если бы уж поймал ее, сунул бы ее вместе с мышеловкой в кипяток и посмотрел бы, вернется она или нет, – поддразнивая, говорил молодой монах.
Брат Лука приходил в необычайное волнение:
– Ну, несчастный, опомнись. Зачем кипяток? Креста на тебе нет!
И уже полчаса спустя, после всяких других шуток и разговоров, он снова напускался на молодого монаха:
– Гм, кипяток? Надо же! Божью тварь да в кипяток!
Так брат Лука боролся со своими большими и малыми врагами, так их лечил, кормил и защищал. И так проходила его долгая и счастливая жизнь.
Четвертый доктор, приглашавшийся в консульство во время болезни сына Давиля, был Джиованни Марио Колонья, состоявший при австрийском генеральном консульстве.
Теперь мы видим, что ошиблись, утверждая, что из всех четырех травницких врачей меньше всего можно сказать о Мордо Атиясе. Так же мало, оказывается, можно сказать и о Колонье. Только о Мордо ничего нельзя было сказать потому, что он всегда молчал, а о Колонье потому, что он слишком много говорил и то, о чем он говорил, постоянно менялось.
Это был человек неопределенных лет, неопределенного происхождения, национальности и расы, неопределенных религиозных и иных убеждений, как и неопределенных знаний и опыта. Вообще трудно сказать, что было в этом человеке определенного.
По его словам, родом он был с острова Кефалонии, где отец его был известным врачом. Отец был из Венеции, но родился в Эпире, а мать – из Далмации. Детство он прожил у деда в Греции, а молодость в Италии, где изучал медицину. Жизнь свою провел на Востоке, на турецкой и австрийской службе.
Был он высок ростом, но необыкновенно худ; ходил сутулясь, сгибаясь во всех суставах так, что в любую минуту мог, как на рессорах, то сложиться и сжаться, то вытянуться и выпрямиться, что и проделывал в разговоре постоянно в той или иной мере. На длинном теле сидела правильная голова, всегда в движении, почти совсем лысая, с несколькими длинными прядями свалявшихся, выцветших волос. Бритый, с большими карими глазами, всегда неестественно сверкавшими из-под лохматых седых бровей. В большом рту торчали редкие крупные желтые зубы, шатавшиеся, когда он говорил. Не только выражение лица, но и весь облик этого человека беспрестанно менялся полностью и самым невероятным образом. В разговоре с вами он мог по нескольку раз совершенно изменить свой вид. Из-под маски немощного старца вдруг появлялась вторая маска – крепкий, спокойный человек средних лет – или третья маска – нахальный, беспокойный, долговязый юноша, выросший из своего платья, не знающий, что делать с руками и ногами, куда смотреть. Выразительное лицо его было вечно в движении и отражало лихорадочную работу мысли. На правильном и необыкновенно подвижном лице быстро и неожиданно сменялись уныние, задумчивость, огорчение, искреннее воодушевление, наивный восторг, безмятежная, спокойная радость. В то же время из его широкого рта с редкими и расшатанными зубами лился целый поток слов многозначительных, грубых, сердитых, смелых, любезных, слащавых и восторженных. И все это на итальянском, турецком, новогреческом, французском, латинском, «иллирийском» языках. С той же легкостью, с какой он менял выражение лица и жесты, Колонья перескакивал с одного языка на другой, выхватывая слова и целые выражения то из одного, то из другого. На самом деле хорошо он знал только итальянский язык.
Он и подписывался не всегда одинаково, а в разные этапы своей жизни по-разному в зависимости от обстоятельств и смотря по тому, на какой службе состоял и чем занимался – научной, политической или литературной деятельностью: Giovanni Mario Соlogna, Gian Colonia, Joanes Colonis Epirota, Bartolo cavagliere d’Epiro, dottore illyrico. Еще чаще и глубже менялось содержание его деятельности и мнений. По своим основным убеждениям Колонья был человек современного склада, «философ», свободный и критический ум, лишенный всяких предрассудков. Но это не мешало ему изучать религиозную жизнь не только различных христианских церквей, но и мусульманских и других восточных сект и вероучений. А изучать означало для него слиться на известное время с предметом изучения, воодушевиться им и хотя бы на мгновение принять его как свое единственное и исключительное верование, отбросив все, во что верил и чем воодушевлялся раньше. Его незаурядный ум был способен на необычайные взлеты, но состоял из элементов, постоянно тяготеющих к слиянию, к отождествлению с тем, что их окружает.
У этого скептика и философа бывали приступы религиозных увлечений и активной набожности. Тогда он посещал монастырь в Гуче Горе, надоедал монахам, требовал религиозных диспутов и упрекал в недостаточности рвения, богословских знаний и религиозного пыла. Гучегорские монахи, люди глубоко религиозные, но простые и упрямые, как вообще все боснийские монахи, питали врожденное отвращение к ханжеству, экзальтации, ко всем, кто виснет на божьей одежде и лижет плиты перед алтарем. «Стариканы» сопротивлялись и ворчали, а один оставил даже письменное доказательство того, насколько подозрителен и неприятен был им этот доктор-проходимец, который называл себя «великого католического вероучения служителем, каждое утро обедню слушающим и многообразную набожность проявляющим». Но все же связи Колоньи с австрийским консульством и уважение, которое монахи питали к фон Миттереру, мешали им окончательно отвернуться от «иллирийского доктора».
Но Колонья посещал также и иеромонаха Пахомия, заходил и в дома православных в Травнике, чтобы познакомиться с религиозными обрядами, послушать службу и пение и сравнить их со службой в Греции. А с травницким учителем эфенди Абдуселамом Колонья вел ученые разговоры об истории мусульманских вероисповеданий, потому что хорошо знал не только Коран, но и все богословские и философские учения от Абу-Ханифы до Аль-Газали{34}. При каждом удобном случае он неукоснительно и неустанно засыпал травницких ученых мужей цитатами из мусульманских богословов, которых они в большинстве случаев не знали.
Такое же последовательное непостоянство было и в его характере. На первый взгляд он казался податливым, гибким и сговорчивым до отвращения. Он старался всегда подладиться под мнение собеседника и не только становился на его точку зрения, но и превосходил его по остроте выражений. Но случалось также, что совершенно неожиданно и внезапно он смело высказывал точку зрения, прямо противоположную всем и каждому, и защищал ее храбро и упрямо, целиком отдавшись ей, невзирая на возможные для него неприятные последствия и опасности.
С молодых лет Колонья состоял на австрийской службе. Это, быть может, было единственным, в чем он был постоянен и последователен. Некоторое время он был личным врачом скадарского и янинского паши, но и тогда не порывал связи с австрийскими консулами. Теперь он был прикомандирован к консульству в Травнике, причем тут сыграли роль в гораздо большей степени его старые связи и заслуги, а также знание языка и местных условий, чем его медицинские познания. В сущности, он не числился в составе персонала консульства, жил отдельно и лишь властям был представлен как врач, находящийся под защитой австрийского консульства.
Фон Миттерер, чуждый всякой фантазии и не понимавший философии, изучивший местный язык и условия жизни лучше, чем Колонья, не знал, что и делать с этим непрошеным сотрудником. Госпожа фон Миттерер испытывала физическое отвращение к этому левантинцу и взволнованно говорила, что предпочтет умереть, чем принять лекарство из его рук. В разговоре называла его «Chronos», потому что ей он казался символом времени, только этот Хронос был безбородый и в руках у него не было ни косы, ни песчаных часов.
Так и жил в Травнике этот врач без пациентов. Поселился он в полуразрушенном доме, прилепившемся к теневой части скалы. Семьи у него не было. Слуга-албанец вел его хозяйство, скудное и необычное во всем, начиная от мебели и еды и кончая распорядком дня. Время он проводил в тщетных поисках собеседника, который не уставал бы слушать и не сбегал бы от него, или над своими книгами и записками, охватывавшими все человеческие знания, – от астрономии и химии до военного искусства и дипломатии.
У этого безродного, неуравновешенного, но чистого сердцем и любознательного человека была единственная, болезненная, но всепоглощающая и бескорыстная страсть: проникнуть в судьбы человеческой мысли, в чем бы она ни проявлялась и в каком бы направлении ни шла. Этой страсти он отдавался целиком, без всякой определенной цели и расчета. Проявления всех без различия религиозных и философских движений в истории человечества занимали его ум, жили в нем, переплетаясь, сталкиваясь и переливаясь, словно морские волны. И каждое из этих движений было ему одинаково близко и одинаково далеко, с каждым из них он готов был согласиться и полностью слиться на то время, пока им занимался. Эти внутренние, духовные подвиги и были его подлинным миром; здесь он ощущал искреннее вдохновение и глубокие потрясения. Но они же разобщали его с людьми, отчуждали от общества и приводили к столкновению с логикой и здравым смыслом остального мира. Лучшее, что в нем было, оставалось незамеченным и недоступным, а то, что можно было видеть и угадывать, отталкивало каждого. Такой человек и в другой среде, менее тяжелой и отсталой, не нашел бы себе соответствующего места и положения. Здесь же, в этом городе и среди этого народа, он должен был чувствовать себя сугубо несчастным и выглядеть полоумным, смешным, подозрительным и ненужным.
Монахи считали его маньяком и пустомелей, а жители – шпионом или ученым дураком. Сулейман-паша Скоплянин говорил по поводу этого врача:
– Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им – истина.
Дефоссе единственный во всем Травнике не избегал Колоньи и проявлял желание и терпение беседовать с ним искренне и подолгу. Но из-за этого ни сном, ни духом неповинного Колонью обвиняли перед австрийским консульством в том, что он состоит на службе у французов.
Трудно сказать, каковы были медицинские познания и занятия Колоньи, но нет сомнений, что это было последней его заботой. В свете философских истин и религиозных вдохновений, беспрестанно в нем сменявшихся, нужды людей, их страдания, да и сама жизнь не имели для него ни большого значения, ни глубокого смысла. Болезни и изменения человеческого тела служили тишь поводом для гимнастики его ума, осужденного на вечное беспокойство. Как личность далекая от жизни, он даже и представить себе не мог, что значат для нормального человека кровные узы, здоровье и продолжительность жизни. Действительно, и в вопросах медицины у Колоньи все начиналось и кончалось словами, потоком слов, возбужденными разговорами, препирательством и часто быстрой и коренной переменой в суждении о той или иной болезни, ее причинах и способе лечения. Ясно, что такого врача никто без крайней надобности не приглашал. Можно сказать, что главным во врачебной деятельности этого речистого доктора была постоянная вражда и страстная ненависть к Цезарю Давне.
Колонья, учившийся в Милане, был сторонником итальянской медицины, тогда как Давна, презиравший итальянских врачей, доказывал, что университет в Монпелье уже много веков тому назад побил и превзошел салернскую школу, устарелую и несовременную. На самом деле Колонья заимствовал свою мудрость и многочисленные сентенции из большого сборника «Regimen sanitatis Salernitanum», который ревниво скрывал и берег и откуда черпал и щедро раздавал рифмованные правила о диетике тела и духа. Давна, напротив, пользовался несколькими тетрадями и записями лекций известных профессоров Монпелье и большим старинным руководством «Lilium medicinae». Но в основе их вражды были не столько книги и знания, которых они не имели, а их левантинская потребность в ссорах и состязании, их соперничество как врачей, травницкая скука, личное тщеславие и нетерпимость.
Взгляд Колоньи на человеческие болезни и здоровье, если можно говорить о постоянном взгляде у такого человека, был столь же примитивен, сколь нелеп и безнадежен. Верный своим учителям, Колонья считал, что жизнь – это «состояние активности, постоянно стремящееся к смерти и приближающееся к ней медленно и постепенно; а смерть является разрешением длительной болезни, именуемой жизнью». Но больные, называемые людьми, могут жить долго и с наименьшим количеством заболеваний и неудач, если они будут придерживаться испытанных медицинских советов и правил и умеренности во всем. Страдания, повреждения организма, как и преждевременная смерть, лишь естественные последствия нарушения этих правил. Человек, говорил Колонья, нуждается в трех врачах: mens hilaris, requies moderata, diaeta[19]19
Бодрый дух, умеренный отдых, диета (лат.).
[Закрыть].
С такими идеями Колонья и лечил своих пациентов, которым не становилось от этого ни лучше, ни хуже, и они либо умирали, если слишком удалялись от линии жизни и приближались к линии смерти, либо выздоравливали, то есть освобождались от болей и повреждений организма и возвращались в пределы спасительных салернских правил; а Колонья облегчал им это одним из тысячи полезных латинских рецептов, легко запоминающихся, но трудно выполнимых.
Таков вкратце был «иллирийский доктор», последний из четырех врачей, которые в этой Травницкой долине, каждый по-своему, вели тяжелую и безнадежную борьбу с болезнями и смертью.