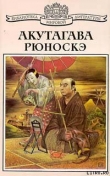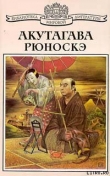Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Иван Франко
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
IV
Иоська на минуту замолчал. Пан Журковский, слушавший внимательно его рассказ, улыбнулся и сказал:
– Вот ты говорил, что глупая история будет, а рассказываешь, словно по книге читаешь.
– Э, пан, – ответил Иоська, – что я пока рассказал, не было глупой историей. А теперь вот пойдут глупости. А то, что я гладко рассказываю, этому вы не удивляйтесь. В селе научился я сказки рассказывать. Память у меня хорошая – если какую сказку услышу, расскажу ее потом еще лучше и интересней, чем тот, от кого я ее слышал. В ту зиму все на селе так меня за сказки полюбили, что ни одни вечерницы без меня не обходились.
– Э, да ты, как вижу, на все руки мастер, – заметил пан.
– Ой, пан, – ответил со вздохом Иоська, – не знаю, что оно значит, но мне кажется, что в этом мое несчастье. Когда чувствую, что надо мне что-нибудь сделать, что могу чему-нибудь научиться, так у меня в сердце что-то горит, так меня мутит и мучает, что нету мне ни минуты покоя, пока я этого не сделаю, не узнаю, не научусь. Вот это самое и довело меня до тюрьмы.
– Ну, ну, рассказывай!
Но Иоське не удалось на этот раз закончить свой рассказ – как раз в это время отворилась дверь нашей камеры. Иоську вызвали на допрос.
– Это хлопец необычный, – буркнул пан и начал в раздумье расхаживать по камере.
– А мне кажется, что он сильно врет, – говорю я. – Научился сказки мужикам рассказывать и нам вот сказку рассказывает.
– Думаешь, что так?
– Ну, а что ж, разве этого не может быть?
– Верно, что может быть, но по лицу видно, что он правду говорит. Впрочем, у нас хватит еще времени разобраться.
На допросе Иоська пробыл недолго, не больше получаса. Вернулся он более веселый и спокойный.
– Ну, что ж, – спрашиваю я у него, – судья не съел тебя?
– Э, что, судья человек добрый, – ответил Иоська. – Признаться, очень я его сначала боялся. Мне на селе говорили, что тут избивают на допросе, каленым железом пятки жгут.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся я. – Теперь-то я понимаю, отчего ты ночью все ворочался, кричал да взвизгивал. Должно быть, снилось, что тебе пятки жгут!
– Он, не смейтесь, пожалуйста! Мне страшно вспомнить о тех снах, столько я от них натерпелся! И все напрасно. Судья такой добродушный, говорил со мной по-человечески, не кричал, не бранился, не бил меня, как жандарм.
– А разве тебя жандарм бил? – спросил пан Жур-ковский.
– Ой, пан, я уж думал, что душу из меня выбьет. Вы только поглядите на мою спину!
И Иоська снял рубашку. Мы так и ахнули: вся спина у хлопца была покрыта синяками и полосами запекшейся крови.
– Ну, а о чем же тебя судья спрашивал? – затворил первым Журковский.
– Да об этом несчастном грабеже, как было дело.
– Ну, и что ж?
– Что ж? Рассказал я ему обо всем, как было, вот и все. Составил протокол и велел меня отвести.
– Ну, так расскажи теперь и нам, как дело было.
– Да как было! Вы ведь уж знаете, какое было житье мое у Мошки. Не хотел я у него больше оставаться, а к тому же боялся, что стоит мне только еще раз напомнить ему про бумаги, он возьмет их и сожжет. Вот и задумал я их украсть. Забраться в чулан мне было легче, чем постороннему вору: и собаки меня знают, и я сам знаю все входы и все обычаи в доме. Сначала я хотел выкрасть у Мошки ключи, но он, видно, что-то пронюхал и носил их всегда при себе или где-то прятал так, что я не мог их найти. А я сгорал от нетерпения, окончательно решив добыть свои бумаги. И ни о чем другом не было у меня мысли, как только об этом. Да, в конце концов, о чем мне было долго раздумывать? Однажды ночью, когда все спали, я быстро подстругал паз в одном из столбов чулана – построен он был на столбах, – приподнял долотом брус, забрался в чулан, взял свои бумаги, а потом засунул брус на прежнее место. Вот и все.
– Пустяки! – буркнул пан.
– А как только мои бумаги оказались у меня в руках, я, даже не рассмотрев их, не развязав шнурка, которым они были завязаны, обмотал их в тряпку, сунул за пазуху и покинул корчму Мошки. «Куда теперь итти?» подумал я. Страх еще не совсем у меня прошел. А вдруг Мошка меня обманул и показал мне вместо моих какие-нибудь другие, глупые бумаги! А вдруг в потемках я захватил какой-нибудь другой сверток? Надо было непременно с кем-нибудь посоветоваться, как поступить в таком случае. И вот, переночевав в первом попавшемся стогу сена, на другой день я направился к знакомому кузнецу и рассказал ему обо всем. Он первый облил меня холодной водой.
– Нехорошо, хлопец, ты поступил, – говорит. – Ступай сейчас же к войту, обо всем ему расскажи и отдай ему бумаги!
Заныло у меня сердце от таких слов. Но что же делать?
Вижу я, что совет разумный. Иду. Прихожу к войту и вижу уже со двора через окошке, что у стола сидит на скамье жандарм. Мне тотчас будто что-то шепнуло, что это смерть моя. Весь занемел я и шагу ступить не могу. Промелькнула у меня в голове мысль: бежать! Но было уже поздно. Войт меня заметил и крикнул радостно:
– А вот и он самый! Легок на помине! Ну, подходи, подходи поближе!
Вижу я, все уже обнаружено, меня разыскивают. И вот, собрав всю свою храбрость, вхожу в хату.
– Как тебя звать? – спрашивает меня жандарм.
– Иоська Штерн. – Откуда родом? – Не знаю.
– Ага, значит бродяга!
Я так и окаменел на месте. Не раз я слыхал это страшное слово, много страшных историй слыхал о том, что вытворяют жандармы с бродягами, и пуще всего этого боялся. А тут вот с первых же слов и сам в такое дело попался!
– Но я ведь здешний, – простонал я. – Пан войт меня знают.
– Я? Тебя? – говорит мне войт. – Врешь, миленький ты мой! Видел тебя, знаю, что зовут тебя Иоськой и что служишь у арендатора Мошки, но кто ты такой и откуда взялся, с том я не знаю.
– Ага, значит врет прямо в глаза! – крикнул жандарм и что-то записал у себя в книжечке. – Ступай сюда, – обратился он ко мне. – Ближе! А посмотри мне в глаза!
И в ту минуту, когда я к нему приблизился, он ударил меня своим тяжелым кулаком по лицу так, что я, обливаясь кровью, тотчас свалился наземь.
– Встань сейчас же, – закричал на меня жандарм, – и не смей мне кричать, а то еще больше получишь! А теперь отвечай правду, что тебя буду спрашивать! Ты служишь у Мошки?
– Да.
– Ты обокрал его? – Нет.
– Как это «нет»?
Я снова уставился на жандарма, стирая рукавом кровь с лица, и снова здоровенный удар свалил меня наземь.
Пан жандарм, – сказал на это войт, пока я старался подняться, – я как начальник крестьянского общества не могу смотреть на такое обращение с арестантом. Я обязан присутствовать при составлении протокола, а то что происходит до протокола, в мои обязанности не входит. Если вам угодно учить его, что он должен говорить, то ищите себе для этого другое место. У меня этого нельзя.
Жандарм прикусил губу, а затем, не говоря ни слова, поднялся со скамьи, достал из своей сумки кандалы, заковал меня и повел в корчму к Мошке. Что там со мной делали, как учили меня отвечать, о том я не стану рассказывать Во время этой науки я дважды терял сознание. Да и не напрасна была их злость. Причинил я им большие убытки. Мошка сразу же заявил жандарму, что я украл у него большие деньги, спрятанные в бумагах. Он предполагал, что как только жандарм меня поймает и приведет в корчму, он тотчас отберет у меня бумаги, сожжет их и останусь я навек у него невольником. Только вошел я в корчму, как первым же вопросом было:
– Где деньги?
– Не знаю. Никаких денег я не брал.
– А бумаги где?
– Спрятал.
– Где спрятал?
– Не скажу.
Стали меня принуждать сначала побоями, потом по-хорошему, а я все одно и то же отвечаю: бумаги взял оттого, что они мои. И даже не заглядывал, что в них находится. Спрятал их и никому не покажу, одному только войту.
Мошка чуть было не взбесился. Велел со злости сорвать с меня сапоги и одежу, которые были на мне, и одеть меня в эти лохмотья. Наконец избитого и почти голого повели меня к войту. Стали меня опять про бумаги допрашивать. Но не такой я дурак. Только когда увидел, что в хате много свидетелей, пошел я в сени и вытащил бумаги из щели. Сени у войта были темные, просторные. Входя в хату и заметив там жандарма, я засунул свой сверток в щель, чтобы не отобрали его у меня. Когда Мошка увидел сверток в руках жандарма, он кинулся к нему, точно ворон, крича, что это его деньги и чтобы их отдали ему.
– Го, го, пан Мошка, – возразил войт, – дело так не пойдет. Мы все это должны представить в суд. Составим сейчас протокол, а как только хлопец признается, что он этот сверток у вас украл, то дело уже суда, что делать с ним дальше. Наложим на все, как есть, общественную печать, и пан жандарм доставит все это заодно с арестантом во Львов. А вы уж ищите себе правду в суде.
Мой Мошка так на это скривился, словно кварту своей водки выпил. Но никто не обратил на это внимания. Жандарм засел писать протокол. А когда все было записано, жена войта дала мне немного поесть, жандарм опять заковал меня в кандалы, и мы двинулись во Львов. Я думал, что по дороге я пропаду от боли и холода, и до сих пор не знаю, как я выдержал. Ой, пан, как вы думаете, что теперь будет со мной?
– Ничего не будет, – ответил пан Журковскии. – Посидишь немножко и выйдешь на волю. И почем знать, не пойдет ли тебе вся эта история на пользу.
– А как же это?
– Ну, посмотрим. Никогда человек наперед не знает, что его ждет.
V
Так примерно дня через два или три вызывают Иоську, но не на суд, а к доктору. «Что оно может значить?» думаю себе.
– Ведь он же не заявлял себя больным.
– Сам-то он не заявлял, – поясняет мне Журковский, – да если б и заявлял, это ему мало бы помогло. Но заявил я об этом. Был я в воскресенье у председателя суда и попросил, чтобы он велел его освидетельствовать. Ведь это же страшное дело, что тут творится. Так дальше продолжаться не может.
И вправду доктор приказал Иоське раздеться и составил протокол. Что из этого вышло, не знаю. В наших судах подобные дела очень медленно разбираются, и не каждый бывает настолько счастлив, чтобы дождаться результата.
Тем временем говорит однажды Журковскии Иоське:
– Послушай, хлопец, хочешь, чтоб я тебя научил читать?
Вытаращил Иоська глаза на пана.
– Ну, чего так смотришь? Если у тебя только есть охота, через два дня будешь читать. А если я на самом деле увижу, что не врешь и память у тебя хорошая, я устрою, что тебя примут в ремесленную школу, там какому захочешь ремеслу научишься.
– Ой, пан! – воскликнул Иоська и бросился, заливаясь слезами, пану в ноги.
Он больше ничего не мог сказать, только целовал пану руку.
На следующий день принесли пану букварь, и он начал учить Иоську читать. За два дня тот умел уже разбирать и складывать буквы, а через неделю читал коротенькие отрывки почти плавно. Вижу, уцепился за книжку, читал бы и день и ночь, да света у нас по ночам не было. Только чтобы поесть, отрывался он от книжки.
А когда наступали сумерки и читать было нельзя, Иоська усаживался в уголке на своем сеннике, подвертывал под себя ноги, обхватывал их руками и, сидя так, скорчившись, начинал рассказывать сказки. Он придумывал их без конца, и хотя казалось, что он повторяет всё одни и те же чудеса и приключения, однако он умел рассказывать их каждый раз по-другому. Иной раз было видно, что в сказке он воссоздает собственные свои мечты. Рассказывал о бедном хлопце, который в самую тяжелую беду встречает доброго волшебника, учится от него волшебным словам и заклинаниям и идет по свету искать себе счастья и помогать другим. Проникновенными, но вместе с тем простыми словами он рисовал его терпение и приключения, встречу с жандармами, неволю у арендатора, забавно смешивая не раз то, о чем говорится в сказках, с тем, что испытал сам.
Никогда еще не видел я хлопца, который с таким жаром тянулся бы к книжке, как Иоська. Казалось, за эти несколько недель ему хотелось нагнать все, что ему пришлось пропустить за целых десять лет. Больше всего его мучило то, что осенние дни такие короткие, а в камере так быстро темнеет. Наше единственное окошко, выходившее на запад и прорезанное чуть не под самым потолком, даже в полдень скупо пропускало свет; в четвертом часу читать было уже невозможно. А Иоська был бы рал, если б день был вдвое длиннее. Наконец, обрадованный, он воскликнул:
– Придумал! Буду читать у окна, там светает раньше и видно дольше, чем в камере.
– Неудобно тебе будет читать у подоконника, – говорю я ему. – Да и для тебя будет слишком высоко.
– Буду сидеть на такой высоте, как мне понравится, – говорит.
– Как же это ты устроишь?
– Привяжу простыню двумя концами к решетке, положу посредине скатанное одеяло и усядусь на нем, как в седле.
И правда, изобретение было очень практичное, и с той поры все в тюрьме так делают. Несколько дней Иоська просто любовался окном. Подымался в шестом часу, как только начинало светать, устраивал себе сиденье и, взобравшись на него, всматривался в книжку, прижимаясь лбом к самой решетке, чтобы только захватить побольше божьего свету. Мы с паном поочередно дежурили у двери, следя, когда подойдет к камере надзиратель, и заранее предупреждали Иоську, чтоб он слезал и снимал свое приспособление, ибо сидеть у окна арестантам строго запрещалось. Но нам всегда счастливо удавалось избежать столкновении, а может быть, и тюремный сторож питал уважение к пану Журковскому и не так уж строго следил за нашей камерой.
Но, на беду, вышло столкновение с другой стороны.
Кроме охраны в коридоре, имеется у нас еще одна: под окнами тюрьмы ходит часовой – солдат с карабином. Он имеет строгое предписание следить за тем, чтобы арестанты не смотрели в окна, а особенно чтобы не разговаривали через окна между собой. По воинскому уставу, ему положено в случае неповиновения применять даже оружие. Правда, до сих пор такого случая не было. Должно было случиться нечто необычайное, чтобы часовой, сойдя со своей вышки, доложил дежурному коменданту, что из того или иного окна кто-то смотрел или говорил. Старшие солдаты уже привыкли, что предписание – это одно, а исполнение – другое, и обычно не очень строго придерживались предписаний. Не один из них преспокойно разрешал всякие разговоры, как говорится, на все был блат: иной вежливо напоминал или просил арестантов, чтобы они не нарушали тишины. Но хуже было, если на вахте оказывался рекрут, что боится капрала пуще огня. Такой всякое указание принимал к исполнению. Если ему сказано «строго следить», то он понимал это так, что каждого арестанта, голова которого покажется в окне, должно изругать последними словами, доложить капралу или даже схватиться за карабин. Таким «собакам» арестанты мстили и во время их вахты, особенно по вечерам, подымали крик в окнах, так что бедный рекрут бывало чуть не бесится и на каждый выкрик из окна считает своей святой обязанностью отвечать по меньшей мере таким же громким и неприятным окриком. Но арестантов-то ведь бывает несколько десятков, а он один, и потому после нескольких минут адского крика ему обычно приходилось умолкать, и, не зная, что делать, он хватался за карабин. Понятно, что в ту же минуту окна напротив него совершенно пустели, а крик подымался в другом конце длинного арестантского здания, и часовой, как загнанный зверь, бежал туда и снова грозил карабином – очевидно, с такими же последствиями.
Подобные крики подымались обычно по вечерам, но часто и днем.
И вот случись на беду, что однажды с трех часов до пяти стоял на-часах такой вот несчастный рекрут. С самого начала он сказал грубость кому-то из арестантов, смотревшему в окно. Подали знак, чтобы устроить «собаке» кошачий концерт. На разных концах арестантского здания, с разных этажей, из десятков окон, сразу поднялся крик, вой, свист и резкое мяуканье. Рекрут тоже кричал, бегал под всеми окнами, но нигде не мог никого заметить. Доведенный до ярости, он наконец замолчал и остановился, чтобы передохнуть. В скором времени затих и «кошачий концерт». Казалось, наступило полное успокоение. В камере уже начинало смеркаться. Иоська устроил себе сиденье и с книжкой в руках так и припал к окну. Но едва прочитал он себе под нос несколько слов» как часовой, заметив его, подбежал и остановился напротив окна.
– Марш, воришка, с окна! – взвизгнул он, обращаясь к Иоське.
Иоська сперва даже не услыхал окрика – так был он занят рассказом о цапле и рыбе, который читал в это время.
– Марш с окна! – еще громче закричал часовой.
– Да чего ты от меня хочешь? – ответил Иоська, – Я ведь тебе не мешаю. Видишь, читаю. В камере уже не видно, вот я и вылез немножко на свет.
– Отойди, не то стрелять буду! – рявкнул часовой, и не успел Иоська слезть со своего сиденья, как грянул ружейный выстрел.
– Ой! – крикнул Иоська и, как сноп, повалился с сиденья на койку, стоявшую под окном.
Ноги у него судорожно задергались, а руки, в которых он держал книжку, были прижаты к груди. С листов книжки лилась кровь. Пуля попала прямо в грудь.
– Что с тобой? Куда тебе попало? – вскрикнули мы оба, бросаясь к Иоське.
Но он ничего не отвечал, только поблескивали, как два разгоревшихся уголька, его черные глаза, как-то страшно выделяясь на лице, бледном, точно у трупа.
Во дворе под нашим окном и в коридоре у нашей двери поднялся сразу же шум. Там выбежала воинская стража на выстрел, а здесь надзиратель со сторожами разыскивали камеру, в которую стреляли. Вбежали к нам.
– Ага, это здесь! – закричали они, увидев лежащего Иоську. – Ну, что, вор, досталось тебе на орехи?
Иоська еще бился и тихо стонал, все время прижимая к груди обеими руками книжку, словно хотел закрыть ею смертельную рану.
– Что он делал? – спросил меня надзиратель.
– Да я… только к свету…
Ему хотелось еще что-то сказать, но у него нехва-тило дыхания. Последним движением он оторвал руки от груди и показал надзирателю окровавленный букварь – Он читал у окна, – пояснил я надзирателю.
Как раз в это самое время явился из суда курьер с распоряжением – он разыскивал надзирателя.
– Пан надзиратель, – спросил он из коридора, – где тут сидит Иоська Штерн? Тут от суда распоряжение, чтоб его отпустили на свободу.
А Иоська был уже свободен за минуту до этого.

ЧАБАН

Сто метров под землей, в глубине десятиметровой штольни, работает в духоте и нефтяных испарениях рабочий [29]29
Рабочий добывает горний воск, встречающийся обычно в районах месторождений нефти, в частности в Бориславе.
[Закрыть]. Он раз за разом долбит кайлом вязкую породу и отрывает от нее куски глины. Но порода тверда, скупа и только по маленькому кусочку позволяет отрывать части своего тела. Она глухо гудит и стонет под ударами кирки, будто плачет, будто грозит; вся она пропитана вонючим потом, но не поддается, упорно держит свои скрытые таинственные сокровища. Рабочий, здоровенный парубок, недавно прибывший из горного села в Борислав на работу, начинает злиться.
– Г-ге! – приговаривает он, ударяя изо всех сил в углубленье, куда он долбил уже трижды, но не мог отбить и куска породы. – Э, чертяка! До какой же ты поры будешь упираться? Отпускай!
И он изо всех сил нажал кайлом, чтобы отвалить глыбу. Глыба наконец подалась, он взял ее обеими руками и кинул в бадью.
– Туда тебя, к псам! Выходи на свет! Солнца отведай! – приговаривал он. – Го-го, голубушка! Я не шучу! Со мной нечего бахвалиться, я и не с такой могу справиться! Ты не знаешь, что значит семьсот овец. Это не то что какой-нибудь там один или два куска, а я и с ними умел управиться.
И он берет за дужку бадью, наполненную породой, несет ее к стволу шахты, подвешивает к канату и звонит, чтоб тащили, а сам с порожней бадьей возвращается назад в штольню и снова принимается долбить землю. Мысли его носятся за овцами по горным полонинам, и он, чтобы разбить одиночество и темноту, любуется воображаемыми картинами, говорит о них и с глиной, и с кайлом, и с порожней бадьей, и с топором – больше нет у него товарищей здесь, в этой глубокой бездне.
– Ты думаешь, голубушка, это малая работа – семьсот овец? Они-то ведь живые, и каждая свой разум имеет. Небольшой умишко, скотина ведь бессловесная, а все же такой, какой ему господь дал. Глядь, в лес ли зайдет, или на полонину, а все держится кучкой. Не разбегается одна сюда, а другая туда, как рогатый скот. А все вместе. Г-ге!
А медведь, злодей, только этого и ждет. О, он тоже разум имеет! Да еще какой! Недаром медведь, говорят, пан Кулаковский! Сидит за колодой и дожидается, пока весь гурт овец войдет в бурелом. Он тогда только прыг – и все у него, точно в хлеву. И всех до одной передушит. А они, бедняжки, уж даже и не блеют, только в кучу собьются и тихо смерти дожидаются. Г-ге!
Палка в руке, ружье через плечо, за поясом свирель – так я, голубушка, выходил на зорьке с овцами. Три собаки, цу-цу! Одна впереди отары, две по бокам, а я сзади. Пройду, а там и остановлюсь. Овечки, как рой пчелиный, по зелени рассыпались. Черная кучка, белая кучка, черная кучка, белая кучка. Там щипнет травки, тут щипнет, и дальше и дальше. Пасется не так, как коровы, а щиплет, как дитя, будто забавляется, будто куда спешит. А впереди бараны, командиры. Отары не надо заворачивать, а только их. О гей-гей! А дря-у!
Чабаньи окрики раздаются в темной штольне, смешиваясь с глухими ударами кайла.
– А хорошо там у нас, в горах, в полонине! Ой, хорошо! Привольно! Не то что у вас тут, чтоб вам…
Он хотел выругаться, но ударил себя ладонью по губам. Его душа была теперь в атмосфере поэзии, среди живой природы, чуткой и видящей, и он боялся ее оскорбить, потому что был в ее власти.
– Хорошо там у нас! Ой, господи! Немало человек в наймах послужил и бедовал горько, на чужих работал, а все-таки вспомнить не жаль. Выйдешь это в полонину, вокруг зелено, только горный чертополох [30]30
Горный чертополох очень низкий, его цветок, величиной с кулак, растет почти у самой земли, (Примеч. автора)
[Закрыть]клонит к земле свои белые головки, будто любопытные глаза выглядывают промеж травы и моха. Холодно. Ветер дует. Широко дышишь полной грудью. Все вокруг пахнет, все так и пышет здоровьем и силой. Внизу лес черной стеной опоясывает полонину, а над тобой вздымается круглый верх горы. Тихо кругом, только овцы в папоротниках шелестят да залает изредка собака, застучит зеленый дятел в лесу или закричит белка. А я иду себе потихоньку, остановлюсь, достану из-за пояса свирель да как заиграю, как заговорю, как заведу думку, даже сердце в груди подскакивает или слезы на глаза навертываются! Г-ге! Чтоб тебя! Отпускай! Г-ге!
Сверху звонок. Прибыла порожняя бадья. Рабочий берет свою полную бадью, выносит ее к шахте и отправляет на-гора, а сам возвращается с пустой. Возвращается он в воинственном настроении – он уже чувствует голод. Яростно бьет кайлом, отламывает глину большими кусками, борется в мечтах с медведем.
– Го-го! Голубчик ты мой, медведь! Так дело не пойдет! Одна овца – это как будто бы ничего, но сегодня ты зарезал одну, завтра зарежешь две, а послезавтpa передушишь мне половину отары. Нет, голубчик! Такого уговора у нас нет! Ты думаешь, я ружье ношу только для страха? Го-го! Уж я и ночи не пожалею, уж я устрою на тебя засаду в том буреломе! Мне все равно, смерть или жизнь, но с тобой я должен покончить! Он ударил несколько раз и остановился, отдыхает, опершись на рукоятку кайла.
– Злодей медведь! Три ночи мучил меня! Должно быть, след носом почуял, не являлся. Но меня не проведешь! Раз уж я взялся, не брошу. На четвертую пришел-таки. Темно, хоть глаз выколи. Стонет ветер в вершинах пихт. Поток шумит внизу, а я скорчился среди огромных корней бурелома, ружье на мушке, сижу, жду, прислушиваюсь. Слышу уже, что идет; знаю, что проходить ему мимо меня, и сижу, затаив дыхание. Хрусь-хрусь, близко уже. Широко раскрываю глаза: двигается мой медведь, словно копна сена, в темноте. Морду задрал вверх, принюхивается к ветру, сопит, подвигается медленно, осторожно. У меня глаза чуть не на лоб лезут – так всматриваюсь, чтобы прицелиться ему прямо под левую лопатку. Вдруг он остановился, голову набок, застыл. Почуял порох. Оборачивается на месте, чтобы дать драла, и в эту минуту – бах-бах! Из обоих стволов в пасть так и всадил. И не охнул медведь. Как громом сраженный, рухнул на землю. Но это была только минута. Вмиг сорвался он с земли, зарычал, поднялся на задние лапы – и прямо на меня. Видно, не попал я в самое сердце. Сижу я уже и не двигаюсь. Бежать некуда, заряжать времени нету. «Ну, – думаю себе, – если я плохо попал и только поцарапал его, расправится он со мной. Да что ж, воля божья. Один раз мать родила». Но пока что есть у меня еще топор за поясом. Поплевал я на руку, схватил топор, перекрестился, переставил ноги, – стояли они на двух корневищах, – оперся плечами о сплетенные корни бурелома, что торчали вверх, как стена, стиснул зубы, наклонил голову, чтобы видеть получше, и жду медведя. А он уже вот-вот! Хватается лапами за корни, нюхает и рычит, так рычит, как разъяренный пьяница, который и слово толком вымолвить не может, чует только, что рассвирепел, и рычит, и вперед прет. Вот учуял он носом мою ногу и достает ее лапой. И будто меня крапивой ожег, не больнее. И в это мгновение лезвие моего топора по самый обух врезалось в голову медведя, раскроило ее начисто. Застонал он еще раз, да так тяжко, так жалобно, будто грешная душа мучения приняла, и повалился вниз, исчез в непроглядном темени, в яме под буреломом. Не успел я и топор вытащить, так с ним и покатился он вниз. А я как выскочу из бурелома, да через заросли, да на горную тропку, да лесом, да на поляну, да вдоль яра, через можжевельник, одним духом очутился в полонине у загорожи. Стучусь. «Это ты, Панько?» спрашивает изнутри старший пастух. «Да, я, отворяйте». Поднялся он, зажег фонарь, открыл. «Ну, что?» – «Да ничего», говорю. «Медведь был?» – «Да, был». – «И ушел?» – «Нет, не ушел». – «А где ж?» – «Лежит». – «Да что ты?.. – Старший пастух не договорил. – Ой, милые мои, да что же это у тебя на ноге?» вскрикнул он. «На ноге?» А я и сам-то не знаю, что у меня на ноге, и только сейчас глянул я и увидел, что весь ходак, и вся онуча, и все завязки в крови, и кровь следы заливает. Раз, один только разок и царапнул меня медведь по ноге когтем и сразу прорвал и ходак, и онучу, и ногу до самой кости. Когда размотали ногу, я сознание потерял, крови много вытекло. Но старший пастух, спасибо ему, умел кровь заговаривать, остановил ее, приложил какую-то мазь, и через неделю я был уже здоров. А медведя нашли на другой день мертвого с моим топором в головище.
Опять звонок, опять рабочий двигает полную бадью породы к шахте и приносит новую и снова, копая, беседует сам с собой, наполняет глухое подземелье не только стуком своего кайла, но и звуками своих слов, поэзией своих лесов и полонин. По мере того как он начинает чувствовать голод и слабеть от усталости и удушливого воздуха, мысли у него становятся все печальней. Он вспоминает про овсяный ощипок [31]31
Ощипок – пресная лепешка из овсяной муки.
[Закрыть], про картофель и постную овсяную похлебку, которые составляют зимой всю его пищу, про скучную молотьбу и еще более скучное безделье в великий пост, про тяжелые времена перед полевыми работами, болезни и ссоры из-за куска хлеба или недопеченной картофелины. Он вспоминает о том, что теперь овцеводство приходит в упадок из-за того, что полонины куплены купцами, а тем выгодней заниматься выпасом волов, а не овец. А присматривать за волами не то, что за овцами. О, здесь работа тяжелая, плохая! Тут уже не поешь ни жентицы [32]32
Жентица – кислое овечье молоко.
[Закрыть], ни будза, ни брынзы, ни бануша [33]33
Бануш – кукурузная похлебка на овечьем масле.
[Закрыть]. Живи, как собака, и сторожи, как собака! И вскоре он бросил эту работу, послушал одного товарища, который посоветовал ему итти в Борислав на заработки, а потом взять жену с землей и усадьбой (с деньгами нынче всякая примет) и заниматься хозяйством. Он даже припомнил песенку, которой научил его этот товарищ:
Ой, пойду я в Буриславку.
Денег там добуду.
А вернусь из Буриславки.
Сам хозяин буду.
Он попробовал спеть эту песенку своим сильным голосом чабана, но ничего не получилось. Что-что, а песенка в штольне, на сто метров под землей, не выходила.
И он с каким-то ожесточением продолжает долбить землю. Он начинает ненавидеть ее, эту темную, тяжелую, немилосердно твердую землю, которая так упорно не поддается его кайлу.
– Да и упряма же ты, святая моя! – произносит он. – И бог тебя знает, святая ты или нет?
Он останавливается, выпрямляется и начинает раздумывать над этим вопросом, будто и в самом деле он такой уж важный.
– Да и вправду, святая ли она тут? Там, наверху, это уж верно. И воду святят и кропят, и божье слово на ней читают. А здесь? Ведь с той поры, как мир сотворен, сюда наверняка ни одна капля святой воды не доходила, ни божье слово. Недаром же тут такая вонь. Наверняка не от святого это, а от проклятого. Значит, из этого-то воска церковные свечи делать негоже, видать, что нечисть это, погань! Отпусти ты мои грехи, господи! А лезет же человек и в такое место, забирает нечистое добро. Оно должно пойти ему на пользу? Ой, нет, милые мои, нет! Не к добру оно выходит! А тот товарищ, что направил меня сюда, не погиб он разве в такой же штольне? Засыпало его, задавило, даже и тела не нашли. Подавился им нечистый! Ой, господи!
И он крестится и начинает еще упорнее долбить кайлом. По бурчанию в животе он чувствует, что скоро должен быть полдень, и ждет тройного звонка, минуты, когда ему велят вылезать наверх. А тем временем его воображение работает безустали, развертывает перед ним все новые образы, и больше всего чудесные, тихие, ясные картины полонин, лесов, овечьей отары и всех нехитрых приключений пастушеской жизни. Брошенный судьбой в глубокую подземную штольню, он чувствует по самому себе, что эти давние дни миновали безвозвратно, что его путь повернул в другую сторону, что от прежней патриархальной жизни он перешел к новой, неведомой его дедам и прадедам, поначалу страшной и удивительной, но во многом лучшей, более свободной, более широкой, чем прежняя. Но старая жизнь живет в его воспоминаниях: от нее осталось еще столько, чтобы можно было поэтическим очарованием заполнить и оживить темень и одиночество новой жизни. Так зайдет иной раз солнце за тучу, и от всей пышности летнего дня, от всего богатства света и красок останется лишь столько, чтобы залить золотым сиянием края тяжелых туч, нависших над закатом.