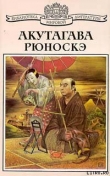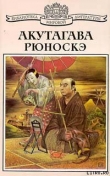Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Иван Франко
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Но вот топор готов. Отец еще раз раскаляет его, но лишь докрасна, а затем погружает лезвие на два пальца в холодную воду – топор получает закалку. А потом в тиски его да под напильник, чтобы зачистить, и наконец на точило, чтобы наточить. И вот готов неразлучный товарищ крестьянина в лесу ли, у плуга ль, или в поездке – всюду, где нужна «подмога рукам». Кузнец с радостью глядит на свое изделие, некоторое время любуется им, а потом передает в руки соседям И переходит новый топор из рук в руки. Каждый осматривает обух, пробует пальцем, остро ли лезвие, достаточно ли хорошо выклепано, осматривает все так, как если бы это был его собственный топор.
– Ну, этот долго послужит, – говорит один.
– Вот бы мне тех дубочков, которые он срубит! – вздыхает другой.
Счастливый обладатель нового топора смотрит на него с гордостью, с любовью. Он видел, как его делали; начиная с первого момента, когда это была еще пригоршня старых гвоздей. Он помогал раздувать мех, бить молотом, когда его делали, – стало быть, этот топор отчасти и его собственных рук дело. Хозяин весело благодарит кузнеца, достает из мешка плоский полуштоф водки. Отец велит принести из хаты чарку, хлеб, полукруг сыра на деревянной тарелке, и начинается угощение, «вспрыскивание» нового топора.
Отец выпивает чарку водки, закусывает и принимается за новую работу; остальная компания угощается, беседует, шутит. Вот кто-то мечтает вслух: «Эх, если бы мне две-три сотни, сделал я бы тогда то-то и то-то и уж показал бы!» Другой подсчитывает, сколько денег в прошлом году прошло через его руки.
Сто двадцать, ей-ей, куманек, сто двадцать, как одни крейцер! Какая бы это пара волов была! А так что! Как сквозь пальцы. Не поешь, не выпьешь, не оденешься, на беса одного надеешься.
– А вам бы, кум Марко, – обращается кто-то к нашему простодушному соседу, – если бы вам теперь сто двадцать, что бы вы сделали?
– Я-я-я, – заикается Марко, – уж я бы-бы-бы зна-на-нал, куда их спрятать!
– Пожалуй, завернули бы в тряпицу да под стреху засунули! – шутит кто-то.
Марко и не пытается возражать, только головой качает, словно говоря: смейтесь себе на здоровье, а я свое знаю!
Иные советуются о своих домашних делах. У того корова отелилась, там ребенок кашляет, иной хвалится, что вчера с полкопны пшеницы пять четвертей намолотил. Пересудов, осуждения отсутствующих отец не выносил, и когда у кого-либо язык и забегал в ту сторону, он ловко умел его повернуть и присказкой сбить на другой путь, а кого помоложе бывало и попросту пожурит: «Не суй носа в чужое просо!»
Всегда и везде был отец хорошим товарищем, человеком общественным. «С людьми и для людей» – было девизом его жизни. И до сих пор помню, какое большое впечатление произвел на меня рассказ о святом, просившем бога избавить его от людской любви.
Было это еще в стародавние времена, жил на свете один славный доктор. Он много помогал людям, и бог был настолько к нему милостив, что все люди любили его. Ну, так к нему и липли, словно мухи к меду. Куда бы он ни повернулся, куда бы ни ступил, всюду у него были приятели, а с кем хоть раз заговорит, уж тот готов был за него и в огонь броситься. И вот однажды, идя по лесу, повстречал он старика, совсем голого, обросшего с ног до головы волосами, и молился тот старик в какой-то пещере.
«Что ты тут делаешь, старый?» спрашивает лекарь.
«Богу служу», говорит старик.
«А как же ты ему служишь?»
«А вот видишь: отказался я от всего мирского, отверг все и молюсь да оплакиваю свои грехи».
«А не лучше ли бы ты служил богу, если бы в миру оставался и работал для людей?»
«Нельзя служить вместе и богу и мамоне [23]23
Мамона – у некоторых древних народов бог богатства, денег: в переносном смысле: алчность, корыстолюбие.
[Закрыть], – ответил старик. – Люди и все их терзания, горести и деяния – это мамона. Кто кому служит, пусть от того и платы дожидается. Я служу богу, и бог мне воздаст за это, а кто служит людям, то чем ему отплатят люди в день страшного суда?»
На том они и разошлись: старик в лесу остался, а лекарь пошел по своему делу. Но с той поры, как начал он над словами старика размышлять, как начал думать, так подконец дошел до того, что возненавидел людей и захотелось ему тоже жить от них в отчуждении. Убежал он в лес, но люди его нашли, а когда он не захотел возвращаться в город, то они пожелали жить с ним в лесу. Он снова от них убежал, и снова его нашли Он скрылся в каких-то недоступных дебрях, и там его нашли; уплыл в море и велел, чтобы оставили его на пустынной скале посреди вод, и там люди нашли его и липли к нему попрежнему. Тогда он начал молиться богу:
«Господи, ниспошли мне такую болезнь, чтобы меня все люди боялись, чтобы перестали липнуть ко мне!»
Как начал молиться, как начал бога просить, так господь бог наконец наслал на него такую болезнь, что начал он об землю биться, ворот на себе рвать, пену пускать, рычать не своим голосом, так что люди его пугались и убегали от него. И виделись ему при каждом таком припадке черти, хватающие его раскаленными клещами, тянущие к себе железными крючьями, бьющие его железными палками и непрестанно взывающие:
«Иди к нам! Иди к нам!»
Так мучился он целых двенадцать лет, но уже больше в леса и дебри не убегал. Теперь его душа тянулась к людям, но люди бежали от него. Он ходил по городам и селам, просил пристанища, но болезнь сделала его таким страшным, что никто не давал ему крова. Когда он появлялся среди людей, все разбегались; даже в церковь не мог он войти, потому что все убегали, где бы он ни появился, и его никто уже не пускал. Наконец, когда кончились двенадцать лет слышит он голос:
«Валентин! Валентин!»
Он откликается:
«Кто меня зовет?»
А голос говорит:
«А что, сладко жить человеку без людской любви?»
А он говорит:
«Господи, я согрешил! Ниспошли мне смерть, пусть кончится эта кара».
А голос говорит:
«Вот видишь! Кто людям служит, тот мне служит. Я сотворил человека для людей, и только с людьми и благодаря людям он может быть счастлив. Если бы я пожелал, чтобы он был счастлив сам по себе и благодаря себе, я сотворил бы его камнем. Если бы я хотел, чтобы он служил только мне одному, я сотворил бы его ангелом. Но я дал человеку наивысший дар – любовь к людям, и только этим путем он может притти ко мне. А ты хотел быть мудрее и итти напрямик, вот потому и зашел ты в дебри, где сидят те, с клещами, да с железными палками. Ну, а теперь довольно с тебя испытаний. За то, что ты прежде служил людям и спасал их, я беру тебя к себе, а твою болезнь оставлю людям как памятку: пусть преодолевают свой страх и заодно учатся любить и спасать друг друга даже в таком страшном положении».
– И лекарь Валентин, – закончил отец, – сделался святым, а его болезнь до сих пор ходит по людям. А кто спасает больного тою болезнью и ухаживает за ним, к тому господь бог бывает милостив.
Сорок лет прошло с той поры, когда в маленькой деревянной кузнице в нашей слободе в последний раз прозвучала кузнецкая барабанная дробь, которую отстучала отцовская рука молотом по наковальне. Как много изменилось за это время! Не только от кузницы, но почти от всего, что служило тогда основой тихой, патриархальной жизни в нашем уголке, не осталось почти никакого следа. Из тогдашней веселой компании, болтавшей вокруг кузнечного верстака, раздувавшей мех, натягивавшей обручи на колеса, рьяно громыхавшей молотом по раскаленному железу и сыпавшей веселыми анекдотами за чаркой водки, пожалуй, никого нет и в живых. А тогдашнюю веселость и живость у многих из них погасила судьба еще задолго до их смерти. И, наверно, в ту пору никто из них не думал, что та кузница, и та компания в ней, и то общее радостное настроение останутся живыми и не заглушенными в душе маленького рыжеволосого мальчугана, который босиком, в одной рубашке сиживал в углу у горнила и которого заботливый отец время от времени просил заслонить от скачущих искр.
На дне моих воспоминаний горит и до сих пор этот небольшой, но сильный огонь. В нем прорываются синие, красные и золотисто-белые лучи, тлеют, словно раскаленные уголья, и ярится в его глубине нечто еще более лучистое и белое, откуда одна за другой вылетают, шипя, прыщущие окалины. Это огонь в кузнице моего отца. И кажется мне, что его запас я взял ребенком к себе в душу для далеких житейских странствий. И что он не угас и поныне.

К СВЕТУ

I
Он сидел под замком уже в шестой раз и знал всю арестантскую практику, чуть ли не всю историю каждой камеры: кто в ней сидел, за что, на сколько был осужден, как обращались с арестантами в прежнее время и как теперь, и все прочее. Это была настоящая арестантская летопись. Надзиратели считали его непоседливым бродягой и давали ему это почувствовать частыми дисциплинарными взысканиями. Но он не унимался и как только замечал, что что-нибудь делается не так, как должно, что в чем-либо обижают арестантов, вспыхивал, как порох. Особенно часто у него происходили стычки с тюремной стражей, расхаживающей под окнами тюрьмы и обязанной следить за тем, чтоб арестанты не выглядывали в окна и не беседовали друг с другом. Сколько раз часовой угрожал ему, что будет стрелять, если он не отойдет от окна, но он преспокойно сидел, ничего не отвечая, и только когда часовой начинал щелкать курком, он отскакивал от окна и кричал:
– Ну, ну, ведь я знаю, что ты не смеешь стрелять! – А откуда вы это знаете? – спросил я однажды.
– Как это откуда? Сам был свидетелем, сам видел!
– Что же видели?
– Э, да это целая история, после которой страже запретили стрелять! Вот лучше я вам расскажу, уж пускай бедный рекрут не волнуется. И он ведь, бедняга, что велят, то и должен исполнять.
II
– Два года тому будет, – начал он, – как раз два года. Сидел я тогда в этом самом мешке под след ствием. Было нас в камере всего двое: я и какой-то пан, по фамилии Журковский. Кто он такой был и за что сюда попал, этого я уж и не помню.
Вот как-то вечером, уже после вечернего обхода, разделись мы и спать легли, вдруг слышим неожиданно шаги тюремного сторожа и громкий звон ключей от висячих замков. Наконец он открыл дверь и, впустив в камеру сноп желтого света от своего фонаря, осветил перед нами какую-то скорчившуюся полуголую тщедушную фигурку. Он толкнул фигурку вперед и впихнул в камеру. Было видно, что сама она не могла сделать это достаточно быстро.
– Вот тебе одеяло и простыня! – крикнул он, бросая эти вещи фигурке на голову и пригибая ее чуть не до земли. – Ложись и спи! Миску получишь завтра.
Сказав это, тюремный сторож запер дверь и удалился. В камере стало темно, как в погребе, и тихо, как в гробу. Только изредка слышим мы, будто кто мясо на доске косарями рубит – это наш товарищ зубами стучит. Знаете, осень уже была поздняя, две недели спустя после «всех святых», холод такой, что не дай господи.
– Ты кто такой? – спрашиваю я окоченевшего товарища, не вставая с койки.
Я уже согрелся, и подыматься мне было неохота, а в камере было довольно холодно – окно приходилось держать день и ночь открытым из-за скверного запаха.
Наш товарищ молчит, только еще больше стучит зубами, и в шуме этом слышно прерывистое всхлипывание. Жаль мне стало хлопца, видно совсем еще зеленого фраера [24]24
Фраер – так на своем жаргоне называют друг друга воры.
[Закрыть]. Вот встал я и постелил ему ощупью постель.
– Ну, ну, – говорю, – успокойся, не плачь! Раздевайся да ложись спать!
– Не…не… мо…гу… – еле проговорил он.
– Почему?
– По…тому, что… я… очень промерз.
Господи! Я к нему, а он весь, как ледышка, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Каким чудом попал он в камеру, понять не могу. Поднялся и пан, сняли мы с него лохмотья и раздели догола, натерли хорошенько, укутали простыней и одеялом и положили на койку. Через какие-нибудь четверть часа слышу – вздыхает, двигается.
– Ну что, лучше тебе? – спрашиваю.
– Лучше.
– Отошли руки и ноги?
– Еще не совсем, но уже лучше. – А ты откуда?
– Из Смерекова.
– Тебя жандарм привел?
– А то как же. Гнал меня нынче с самого утра, почти голого да босого, по морозу. Десять раз падал я по дороге, итти не мог. Бил он меня ремнем, приходилось итти. Только в корчме в Збоисках немножко мы поредохнулн, корчмарь водки дал мне.
– А как же тебя звать?
– Иоська Штерн.
– А ты, стало быть, еврей?
– А то как же, еврей.
– Чорт бы тебя взял! Хоть убей, а по разговору никогда б не признал, что ты еврей, так чисто по-нашему говоришь.
– Что ж, пан, вырос я на селе среди мужиков. Я пастухом был.
– А сколько тебе лет?
– Шестнадцать.
– А за что ж тебя сюда в тюрьму притащили?
– Ой, пан, и сам не знаю! Жандарм говорил, что мой хозяин подал жалобу на меня за грабеж со взломом, а я, ей-богу, ничего не грабил. Только свои бумаги, ей-богу, только свои бумаги!
И начал всхлипывать и реветь, как ребенок.
– Ну, ну, тише, глупый, – говорю, – скажешь все это завтра судье, а меня это вовсе не касается. А теперь спи.
– Ой, пан, а жандарм говорил, что меня за это повесят, – голосил Иоська.
– Да что ты! Одурел, глупый! – крикнул я. – Смех, да и только! Где это слыхано, чтоб за такую ерунду вешали?
– А мой хозяин сказал, что меня в тюрьму на десять лет засадят.
– Ну, ну, не грусти, – говорю, – бог милостив, как-нибудь да обойдется. Только вот засни теперь, а завтра днем поговорим.
Мы замолчали, и я вскоре захрапел. Только для меня и добро в тюрьме, что сплю, как заяц в капусте.
III
Лишь на другой день могли мы как следует разглядеть новичка. Даже смешно мне стало, что я вчера не признал в нем сразу же еврея. Рыжий, с пейсами, нос горбатый, как у старого ястреба, сутулый, хоть для своих лет вовсе не хилый и роста хорошего. Глянуть на него, и за десять шагов можно в нем еврея узнать. А вчера, когда мы оттирали его в потемках и только слышали, как он говорит, никак нельзя было об этом догадаться.
Он с испугом начал оглядывать камеру, как всполошившаяся белка. Сорвался, когда мы еще с паном оба лежали, умылся, убрал свою постель, уселся на ней в углу и не шелохнется, как завороженный.
– А что, ты голоден? – спрашиваю я его. Молчит, только еще больше скорчился.
– А вчера ты что-нибудь ел? – спрашивает пан.
– Да, вчера, перед тем как жандарм должен был меня уводить, жена войта дала мне немного борща да кусок хлеба.
– Ага, теперь ясно! – улыбнулся пан.
Он дал ему поесть – порядочный кусок хлеба и вчерашнюю котлету. Бедняга даже задрожал. Хотел было поблагодарить, но лишь слезы навернулись у него на глазах.
Мальчик оказался тихий, послушный, ни тени самовосхваления, до разговоров неохочий, а когда попросишь его что-нибудь сделать, срывался, как искра. Было во всем его поведении что-то естественное, крестьянское. Если нечего было делать а какая у нас там, в тюремной камере, работа! – любил он сидеть молча в уголке, согнувшись, обхватив руками колени и опершись о них подбородком, только одни глаза его поблескивали из темного утла, как у любопытной мышки.
– Ну, так расскажи нам, какой же это ты страшный грабеж совершил, что жандарм грозил тебе за него виселицей? – спросил его однажды паи, когда видно стало, что хлопец уже немного успокоился и освоился.
– Ой, пан, – сказал Иоська и затрясся всем телом, – долго о том рассказывать, а мало что слушать. Очень это глупая история.
– Ну, ну, рассказывай, послушаем. Ничего умнее мы тут не придумаем, можно и глупую историю послушать.
– Рос я у Мошки, арендатора, в Смерекове, – начал Иоська. – сначала играл я с его детьми и называл Мошку татой [25]25
Тато – по-украински отец.
[Закрыть], а Мошчиху – мамой. Я думал, что они мне родственники. Но вскоре я заметил, что Мошка справляет своим детям красивые бекеши, а Мошчиха каждую пятницу дает им белые рубашечки, а я в это время хожу грязный и оборванный. Когда мне исполнилось семь лет, мне велели пасти гусей, чтоб они не шли в потраву. Мошчиха не спрашивала, холодно ли, жарко ли, а гнала меня из дому на выгон и при этом есть давала все меньше и меньше. Терпел я голод, не раз плакал на выгоне, но это ничего не помогало. Сельские хлопцы относились ко мне лучше. Давали мне хлeба, сыра, принимали в свои игры. Я привык к ним, а там начал им помогать присматривать за гусями. Был я для своих лет сильным и ловким, и сельские хозяйки начали сами доверять мне гусей, а потом телят, когда их дети должны были итти в школу. За это я получал от них хлеб, горячую еду, а по праздникам не раз и пару крейцеров.
Мошчиха была очень скупа и радовалась, что я дома не просил есть. Но когда дети Мошки доведались, что я ем крестьянскую пищу, прозвали меня трефняком [26]26
Трефняк – у верующих евреев человек, потребляющий трефную пищу, то есть пищу, запрещенную религиозными установлениями (например свинину).
[Закрыть]и начали меня дразнить, а дальше и сторониться от меня. Поначалу это меня не трогало, но вскоре я очень остро почувствовал их неприязнь.
Мошка нанял для своих сыновей бельфера [27]27
Бельфер (евр.) – домашний учитель.
[Закрыть], чтоб учить их читать и писать. Это было зимой, и у меня было свободное время. Но когда я к ним подошел, чтобы тоже учиться, мальчики начали кричать, толкать меня и щипать и наконец с плачем заявили матери, что вместе с трефняком учиться не будут. Сама, вижу, Мошчиха подговорила их к этому, уж очень меня эта ведьма ненавидела, хоть и не знаю, за что. И вот, только дети подняли крик, прибежала она и выгнала меня из комнаты, приговаривая, что наука-де не для меня, что они люди бедные и им не на что держать бельферов для нищего. Заплакал я, но что было делать? Пойду бывало в село, играю с сельскими ребятами или приглядываюсь, как старшие чинят возы, сани или другой хозяйственный инвентарь. Не раз целой гурьбой бегали мы к кузнецу; его кузница стояла на краю села, и целыми часами присматривался я там к работе. А так как был я сильнее остальных хлопцев, то кузнец частенько просил меня раздувать мех, или бить молотом, или точило крутить. Как же я был тогда счастлив! Как горячо я хотел, уж если наука не для меня, научиться хоть какому-нибудь ремеслу!
С наступлением весны я возвращался на пастбище, к гусям и телятам, которых Мошка скупал по окрестным селам и, подержав немного, отвозил во Львов на продажу. Смерековское пастбище просторное, местами поросшее кустарником, и бегать мне приходилось мало. Сяжу себе бывало где-нибудь на пригорке, наточу ножик и начинаю строгать, долбить, вырезывать из дерева разные вещи: сначала маленькие лесенки, плуги и бороны, а потом клетки, ветряные и водяные мельницы.
Через год я был уже таким мастером, что все сельские хлопцы начали меня уважать. Я стал делать трещотки и скрипучие чучела, чтобы спугивать воробьев в пшенице, просе и конопле, и продавал пару таких чучел по десять крейцеров. Вскоре я заработал столько, что смог завести себе кое-какой столярный инструмент: долотца, сверла и тому подобное. Я брался постепенно за большие вещи, была у меня к этому охота. Что только ни увижу, тотчас хочу сделать. Зимой целыми днями просиживал я то у столяра, то у кузнеца, помогая им и присматриваясь к их работе. Мне уже исполнилось шестнадцать лет, а у Мошки и в мыслях не было сделать из меня что-нибудь – вывел меня в пастухи, а больше и не думал. Не знал я даже, кто был мои отец и откуда я родом. На селе только знали, что Мошка привез меня откуда-то маленьким; ходили даже слухи, что будто я сын какого-то Мошкиного свояка, который не оставил после своей смерти никого, только одного меня и за мной порядочное имущество, и что будто бы Мошка забрал его и присвоил себе.
– Жаль тебя, Иоська, – говаривали мне не раз крестьяне, – ты бойкий и к ремеслу охочий, а что из тебя будет?
– Что ж может быть? – отвечал я. – Буду общественным пастухом.
– Ой, совести нет у Мошки, совсем он о тебе не заботится!
– Говорит – беден, не имеет на что, – говорил я.
– Не верь ты старому цыгану! Есть у него деньги, и порядочные, только прячет для своих мальчишек. А тебя не научил даже богу молиться.
От таких слов во мне подымалась буря. Начал я сам о себе раздумывать.
И правда, думаю, до чего я тут досижусь? Работать на Мошку задаром всегда успею. Если б хоть хорошему ремеслу научиться, был бы у меня свой кусок хлеба в руках. Но как тут достигнуть этого? Как избавиться от Мошки? Куда мне на свете деться, особенно если не знаю, откуда я родом, кто был мой отец и есть ли где у меня семья?
Наша корчма стояла у дороги. Часто в нее захаживали жандармы, ведя скованных арестантов во Львов или в Жолкву. Сначала я страшно боялся этих дюжих, грозных мужиков в темной одежде, с карабинами на плечах и в шапках с косицей из блестящих петушиных перьев. С тревогой и дрожью, скорчившись на печи, слушал я не раз, как беседовали они с Мошкой или с сельскими хозяевами. Обычно они вели беседы о страшных для меня вещах – о пожарах, о ворах, бродягах, – и в этих беседах я очень часто слышал слово «бумаги». «Если не имеет бумаг, тотчас его задержать». – «Э, смотрю я, у него бумаги не в порядке». – «Была бы у него хоть одна бумага хорошая, я б его отпустил». «Да что же это за бумаги, – думал я не раз, – если имеют они такое могущество, что одна лишь бумага может охранить прохожего человека от жандарма с карабином и с петушиным пером?» Но на этот вопрос ответа найти я не мог, и меня все больше пугала мысль об этих бумагах. Как же я смогу двинуться в свет, не имея бумаг? Да ведь меня на первом же шагу поймает жандарм и поведет бог весть на какие мучения! Я дрожал всем телом при такой мысли.
Чем чаще я раздумывал об избавлении от Мошки, тем чаще вставали у меня перед глазами эти бумаги. Мне даже снились бумаги, старые, пожелтевшие, с огромными печатями; они глядели на меня грозным, сморщенным лицом или подсмеивались надо мной мерзкими беззубыми ртами. Был я тогда очень несчастлив. Все люди, у которых я об этом спрашивал, подтверждали, что без бумаг и в путь двинуться нельзя и в ученики никто меня не возьмет ремеслу обучать. Но откуда же добыть мне эти бумаги? Кузнец советовал спросить о них у Мошки, они должны были достаться ему после смерти моего отца.
Да, спросить у Мошки! Но если бы мне так легко было подступиться к Мошке! Прежде, когда был я маленьким, был он ко мне ласковей, но когда я начал подрастать, он препоручил меня своей жене, ведьме, и почти никогда со мной не разговаривал. Мне даже казалось, что он сторонится меня. С той поры, когда мне люди рассказали, что он забрал деньги после смерти моего отца, я стал внимательней к нему приглядываться; я смекнул, что мое внимание его тревожит. Когда мы иной раз оставались с ним наедине, он как-то беспокойно вертелся, будто его что-то грызло. «А что, – думаю себе, – когда жены не будет дома, вдруг насесть на него неожиданно? Может быть, от него что-нибудь да разузнаю». Так при случае я и решил поступить.
Случай такой вскоре представился. Мошчиха уехала в Жолкву, в корчме никого не было, только один Мошка. Вот подошел я к нему, да и говорю:
– Реб Мойше, люди говорят, что у тебя остались какие-то бумаги после моего отца.
Встрепенулся Мошка, будто его оса ужалила.
– Да откуда ты это знаешь?
– Да люди говорят.
– Какие люди?
– Да все, по всему селу.
– Ну, а тебе зачем эти бумаги? Ты ведь даже и читать не умеешь!
– Так, а все-таки мне хотелось бы знать. Значит, они у тебя?
– У меня, у меня эти нищенские бумаги! – воскликнул в раздражении Мошка, будто я сказал ему бог весть какую неприятность. – Нищим был твой отеи. промотал имущество, а тебя мне на горе оставил. Какая, мне от тебя польза?
– Знаешь что, реб Мойше. – говорю я, – отдай мне бумаги. Если я тебе не нужен, я уйду.
– Что? – взвизгнул Мошка. – Ты хотел бы уйти? Да куда же ты, дурак, пойдешь?
– Мне хотелось бы поступить в ученье, ремеслу научиться.
Мошка рассмеялся во все горло.
– Ступай, ступай, капустная голова! Ты думаешь, что тебя кто-нибудь примет? За ученье надо платить, да кроме того, надо уметь читать и писать, и то не по-еврейски, а по-чужому.
Я стал, как окаменелый. Наконец смог заговорить:
– Так хоть покажи мне эти бумаги, я хочу их видеть!
– Тьфу! – вскрикнул Мошка. – Прицепился ко мне, как репей к кожуху. Ну, идем, покажу тебе твои сокровища! Счастье твое еще что я до сих пор их не сжег!
Последнее слово ножом полоснуло мне по сердцу. А что, если б и вправду Мошка сжег мои бумаги? Был бы я самым одиноким на свете, точно лист, оторванный от дерева. Не знал бы я своего роду-племени, и никто бы не знал и меня. Не мог бы я двинуться с места, навек был бы прикован к Мошкиной скамье, до самой смерти был бы невольником. Дрожь охватила меня при этой мысли, какие-то круги замелькали перед глазами. С большим напряжением я овладел собой и спокойно направился вслед за Мошкой в чулан.
Чулан был деревянный, пристроенный позади корчмы, со входом из сеней. Было в нем только одно маленькое окошко, затянутое накрест железными прутьями. Там Мошка складывал разные вещи, которые брал от крестьян в залог, и все, что имел ценного. Там было полно кожухов, бараньих шапок, сапог; в сундуке лежали коралловые ожерелья: говорили даже, что на дне его хранились стародавние червонцы и талеры [28]28
Талер – старинная крупная серебряная монета.
[Закрыть]. Дважды добирались воры до этого чулана, но им никогда не удавалось его взломать – был он построен прочно, а собак Мошка держал чутких. Дверь в чулане была низкая и узкая, и Мошке пришлось нагнуться, чтобы в него влезть. За ним влез и я.
– А ты тут зачем? – огрызнулся он на меня.
– Как зачем? Ты же велел мне войти!
– Но не сюда! Подожди в сенях!
– Все равно, – говорю, – подожду и тут. Ничего я у тебя не съем.
Мошка вытаращил глаза и уставился на меня, словно видел меня впервые в жизни. Не знаю, что ему во мне не понравилось, но он плюнул и отвернулся. Потом взобрался на сундук, дотянулся до полки, прибитой под самым потолком, и достал оттуда сверток пожелтевших бумаг.
– Вот они, твои старые бумаги! – буркнул он, показывая мне их издали.
– Дай мне на них поглядеть! – говорю и протягиваю руку.
– Ну что ты, глупый, поймешь в них, – ответил Мошка. – и на что они тебе? Сиди у меня, если тебе хорошо, и не лезь в беду! – И положил бумаги снова на полку. – Идем отсюда, – говорит, – можешь теперь успокоиться. А тому, что люди обо мне говорят – языки, я знаю, у них длинные, – ты тому не верь. Все это вранье!
– Что вранье? – спрашиваю.
– Э, да с тобой говорить, все равно что горохом об стенку кидать! – буркнул Мошка и почти вытолкал меня из чулана, а затем, заперев его на замок и задвинув засов, направился в корчму.