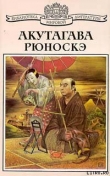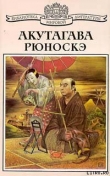Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Иван Франко
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
IV
Стрый скорчился от мороза. Внизу у скалы проезд был свободен, а так как эта дорога была ближайшая, то жандарм и велел везти себя в ту сторону только выехали из лесу, что черной стеной отделяет Ластивки от остального мира, как жандарм с каким то беспокойством уставился на громадную скалу, которая вырисовывалась совсем недалеко перед ними. Вершина скалы не была покрыта снегом, ветер посметал с нее зимний пух и сдвинул его пониже, в расщелины. Что-то екнуло в сердце у жандарма, когда он увидел всю вершину скалы, усеянную вороньем, галками и прочими птицами, что обычно слетаются на падаль. Птицы то садились, то кружили целыми тучами и своим зловешим криком и гомоном наполняли воздух.
Но что это? Из темной расщелины на горе, глубоко засыпанной снегом, как и восемь дней назад, пробиваются еле заметные клубы бледносинего дыма. Несколько мгновении жандарм сомневался, вправду ли это так, или только ему с горячки мерещится, но бойко, его возница, уверял, что дым и вправду пробивается из скалы. Неужели там еще кто-нибудь находится? Жан дарм даже задрожал от нетерпения, чтобы скорее удостовериться, что это значит. Приблизились к скале. Тропка, которая вела на гору, была заметена снегом, и ни единого человеческого следа не было видно на этой белой пелене. Только воронье при их приближении подняло еще больший шум.
– Недобрая это примета, что птицы сюда слетелись, – заметил возница. – Не случилось ли здесь какое несчастье? Проклятая птица тотчас это почует.
Жандарм, не говоря ни слова, сбросил с себя тулуп и даже плащ, чтоб легче было вскарабкаться на вершину скалы; возница выломал две палки для опоры, и так, помогая друг другу, они с большим трудом взобрались на верхнюю площадку. Вороны с криком вились над их головами, будто желая отстоять свою верную добычу.
Вход в пещеру был, как и тогда, завален колодой, заткнут мхом, и только сквозь небольшую щель наверху выходил дым. Они отвалили колоду и вошли. В пещере было темно и тихо. Но вскоре глаза у них настолько освоились с темнотой, что они могли разглядеть посреди пещеры какую-то черную, беспорядочную груду. Это были цыгане, сбившиеся в кучу, укрытые мхом и листьями и, видимо, умершие уже несколько дней назад. В очаге дымилось еще, дотлевая, последнее бревно.
Что было причиной их смерти? Голод? Холод? Или, может быть, угар от тяжелого дыма? Тела их были синие, окоченевшие, замерзшие. Но, разрывая груду, жандарм заметил, что под старым цыганом уже не было сырой конской шкуры, на которой тот спал; недогрызенные куски этой шкуры оказались… в руках у детей.
Долго стояли жандарм и возница над мертвецами, онемевшие, остолбенелые, охваченные испугом и жалостью. Может, перед ними промелькнули долгие дни и ночи мучительного умирания этих несчастных, плач и стоны детей, беспомощность и отчаяние стариков, целое море нужды, горя и терпения, от которых осталась теперь лишь вот эта недвижная, сплетенная в один клубок груда трупов.
Молча, угнетенные, вышли наконец жандарм и возница из пещеры на свежий воздух, завалили вход в пещеру, чтобы не допустить птиц к трупам. А когда они снова уселись в сани, возница перекрестился и, обернувшись лицом к скале, начал шептать молитву. Тем временем жандарм начал мысленно составлять рапорт о происшедшем.

ШКОЛЬНАЯ НАУКА ГРЫЦЯ

I
Гуси совсем ничего не знали об этом. Еще в то самое утро, когда отец думал отвести Грыця в школу, гуси не знали об этом намерении. Меньше всех знал о нем сам Грыць. Он, как обычно, встал утром, позавтракал, поплакал немножко, почесался, взял прут и вприпрыжку погнал гусей из загона на пастбище. Старый белый гусак, как обычно, вытянул к нему свою небольшую голову с красными глазами и красным широким клювом, резко зашипел, а затем, тараторя о чем-то неинтересном с гусынями, пошел вперед. Старая серо-желтая гусыня, как обычно, не хотела итти вместе со всеми, поплелась обок мостика и забрела в канаву, за что Грыць огрел ее прутом и назвал «разиней» – так он имел обыкновение называть все, что не покорялось его высокой власти на пастбище. Очевидно, ни белый гусак, ни серо-желтая гусыня, вообще никто из всего стада – а их было двадцать пять, – никто не знал о близком переходе их властителя и воеводы на другой, далеко не такой почетный пост.
Поэтому, когда нежданно-негаданно пришло новое известие, то есть когда сам отец, возвращаясь с поля, позвал Грыця домой и там отдал его в руки матери, чтоб она его умыла, причесала и приодела, как бог велел, и когда затем отец взял его с собой и, не говоря ни слова, повел, трепещущего, вниз по выгону, и когда гуси увидели своего недавнего вожака в совершенно преображенном виде – в новых сапожках, в новой войлочной шляпе и подпоясанного красным ремнем, – раздался среди них внезапный громчий возглас удивления. Белый гусак подбежал близко к Грышо с вытянутой головой, как будто хотел хорошенько к нему присмотреться; серо-желтая гусыня тоже вытянула голову, долгое время не могла ни слова произнести от неожиданного потрясения и наконец быстро прострекотала:
– Куда-да-да?
– Дула гусыня! – ответил гордо Грыць и отвернулся, точно хотел сказать: «Эге, погоди-ка, не таким паном я теперь стал, чтобы отвечать тебе на твой гусиный вопрос». А впрочем, может, и потому не ответил, что сам не знал.
Пошли вверх по селу. Отец ни слова, и Грыць ни слова. Наконец пришли к просторному старому дому, крытому соломой, с трубой наверху. К этому дому шло много ребят, таких, как Грьшь, и постарше. Позади домa по огороду ходил пан в жилетке.
– Грыць! – сказал отец.
– А? – сказал Грьшь. – Видишь вон ту хагу?
– Визу.
– Запомни: это школа. – Ну! – сказал Грьшь.
– Сюда ты будешь ходить учиться.
– Ну! – сказал Грыць.
– Веди себя хорошо, не шали, пана учителя слушайся. Я иду записать тебя.
– Ну! – сказал Грыць, почти ничего не понимая из того, что говорил отец.
– А ты ступай вон с теми ребятами. Возьмите его, ребята, с собой.
– Пошли! – сказали ребята и взяли Грыця с собой, а тем временем отец пошел на огород поговорить с учителем.
II
Вошли в сени, где было совсем темно и страшно несло прошлогодней гнилой капустой.
– Видишь там? – сказал Грыцю один мальчик, показывая в темный угол.
– Визу, – сказал с дрожью Грыць, хотя совсем ничего не видел.
– Там яма, – сказал мальчик.
– Яма! – повторил Грыць.
– Если будешь плохо учиться, учитель посадит тебя в эту яму, и придется тебе сидеть целую ночь.
– Не хоцу! – закричал Грыць.
Тем временем другой мальчик шепнул что-то первому мальчику, оба засмеялись, а затем первый, нащупав дверь школы, сказал Грыцю:
– Постучи-ка в дверь. Живо!
– Зацем? – спросил Грыць.
– Надо! Так полагается, если кто в первый раз приходит.
В школе стоял шум, точно в улье, но когда Грыць застучал кулаками в дверь, стало тихо. Ребята тихонько отворили дверь и втолкнули Грыця в комнату. В то же мгновение захлестали крепкие березовые розги по его спине. Грыць очень перепугался и поднял крик.
– Тише, дурак! – кричали на него озорники-ребята, которые, услышав стук, спрятались за дверью и устроили Грыцю такой сюрприз.
– Ой-ой-ой-ой! – кричал Грыць.
Ребята испугались, как бы не услышал учитель, и начали унимать Грыця.
– Тише, дурак, это так надо! Кто в дверь стучит, тому надо по спине постучать. Ты этого не знал?
– Не-е-е зна-а-л! – всхлипнул Грыць.
– Почему не знал?
– Да я-а-а пе-е-лвый ла-а-з в сколе.
– Первый раз, а!.. – вскричали ребята, как бы удивленные тем, как можно первый раз быть в школе.
– О, тогда надо тебя угостить! – сказал один, подскочил к доске, взял из ящичка изрядный кусок мела и подал Грышо.
– На, дурак, ешь, да живо!
Все молчали и выжидательно глядели на Грыця, которым вертел в руках мел, а затем медленно положил его в рот.
– Ешь, глупый, да живо! – напоминали ребята, а сами задыхались от смеха.
Грыць принялся хрустеть и насилу съел мел. Хохот в школе раздался такой, что стекла зазвенели.
– Цего смеетесь? – спросил удивленный Грыць.
– Ничего, ничего. Может, хочешь еще?
– Нет, не хоцу. А сто это такое?
– Так ты не знаешь? Вот глупый! Да это иерусалим такой, это очень вкусно.
– Ой, не оцень вкусно, – сказал Грыць.
– Потому что ты еще не раскусил. Это всякий должен есть, кто в первый раз приходит в школу.
В эту минуту вошел учитель. Ребята, точно вспугнутые воробьи, бросились к партам, только Грыць остался со слезами на глазах и с губами, белыми от мела. Учитель грозно приблизился к нему.
– Как зовут? – крикнул он.
– Глыць.
– Что за Грыць? Ага, ты новый. Почему за партой не сидишь? Чего плачешь? Чем измазался? А?
– Да я ел елусалим.
– Что? Какой Иерусалим? – допытывался учитель. Ребята снова просто задыхались от смеха.
– Да давали лебята.
– Какие ребята?
Грыць обвел взглядом комнату, но не смог никого узнать.
– Ну, ну! Иди садись и учись хорошо, а Иерусалима больше не ешь, не то бит будешь!
III
Началось ученье. Учитель что-то говорил, показывал какие-то дощечки, на которых были нарисованы какие-то крючки и столбики; ребята время от времени что-то кричали, когда учитель показывал какую-нибудь новую дощечку, а Грыць ничего не понимал. Он даже не обращал внимания на учителя – уж очень смешными казались ему ребята, сидевшие вокруг него. Один ковырял пальцем в носу, другой сзади то и дело старался воткнуть небольшой стебелек Грышо в ухо, третий долгое время трудился весьма усердно, выдергивая из своего старого кафтана заплаты, нитки и бахромки; уж их перед ним на нижней доске парты лежал целый ворох, а он все еще дергал да щипал изо всех сил.
– Зацем ты это? – спросил Грыць.
– Буду дома с бовщом есть, – ответил шепеляво мальчик, и Грыць долго раздумывал, не обманул ли его этот мальчик.
– Да ты, парень, совсем не слушаешь! – крикнул на него учитель и дернул за ухо так, что у Грыця даже слезы невольно выступили на глазах и он так перепугался, что долгое время не только не мог слушать, но совсем ничего не помнил.
Когда он наконец пришел в себя, ребята уже начали читать склады на подвижных табличках, которые раскладывал и складывал учитель. Они неутомимо по сто раз певучими голосами повторяли: «а-ба-ба-га-ла-ма-га». Грыцю, неизвестно почему, очень это понравилось, и он начал своим пискливым голосом кричать: «а баба галамага». Учитель уже готов был признать его очень внимательным и способным мальчиком и, желая получше убедиться в этом, переставил буквы. Не ожиданно он выставил перед учениками буквы «баба», но Грыць, глядя не на них, а только на учителя, тонким, певучим голосом крикнул: «Галамага!» Все захохотали, не исключая и самого учителя, но Грыць, удивленный, оглянулся и снова громко сказал своему соседу: «По цему не клицис галамага?» Только тогда бедняга опомнился, когда учитель огрел его за понятливость розгой по спине.
– Ну, чему же тебя там в школе научили? – спросил отец, когда Грыць в полдень вернулся домой.
– Мы уцились «а баба галамага», – ответил Грыць. – А ты знал? – спросил отец, не вдаваясь в то, что это за такая удивительная наука.
– Да уз знал, – ответил Грыць.
– Ну, так старайся! – похвалил огец. Когда здесь, в селе, научишься, то пойдешь в город, в большую школу, а потом будешь попом. Жена, дай-ка ему поесть.
– Ну! – ответил Грыць.
IV
Прошел ровно год с того важного дня. Блестящие надежды отца на будущность Грыця давно рассеялись. Учитель прямо сказал ему, что Грыць «дурак набитый», что он лучше сделает, если возьмет его домой и снова заставит гусей пасти. И в самом деле, после года школьной науки Грыць возвращался домой таким же умным, каким был год назад. Правда, «а баба галамага» он твердо выучил наизусть, и не раз даже во сне с уст его слетало это странное слово, составлявшее как бы первый порог всяческой мудрости, который ему не суждено было переступить. Но далее этого слова Грыць в науке не пошел. Буквы как-то смешивались у него перед глазами, и он никогда не мог узнать их в лицо, которая из них «ш», а которая «т», которая «люди», а которая «мыслете» [17]17
«Люди» и «мыслете»– старинные названия букв «л» и «м».
[Закрыть]. О чтении нечего и говорить. Была ли причиной тому его непонятливость, или скверное преподавание учителя, неизвестно; достоверно лишь то, что, кроме Грыця, таких «набитых дураков» среди учеников в том году было восемнадцать из тридцати и все они в течение учебного года тешили себя блестящей надеждой, как это будет хорошо, когда они избавится от ежедневных розог, затрещин, тумаков, ударов по ладони и подзатыльников, и как покажутся снова в полном блеске на пастбище.
Но уж кто-кто, а Грыць безусловно больше всех и чаше всех думал об этом. Проклятый букварь, который он за год трудов над научными вопросами истрепал и изорвал в клочья, проклятое «а баба галамага» и проклятые учительские придирки и «поощрения» к науке так надоели ему, что он даже исхудал и побледнел и ходил все время как во сне. Наконец сжалился бог и послал июль месяц, и сжалился отец и сказал однажды утром:
– Грыць!
– А! – сказал Грыць.
– С нынешнего дня ты не пойдешь в школу.
– Ну! – сказал Грыць.
– Сними сапоги, шляпу и ремень, надо спрятать их для воскресного дня, а ты подпояшься лычком, надень старую шапку да гони гусей пасти.
– Ну! – сказал радостно Грыць.
V
Гуси, конечно, глупые гуси, и в этот раз не знали о радостной перемене, ожидавшей их. В течение всего года школьной науки Грыця их пас маленький соседский мальчик Лучка, который обычно только тем и занимался на пастбище, что копал ямки, лепил куличи из грязи и играл в песке. О гусях он совсем не заботился, и они ходили без присмотра. Не раз им случалось забредать в хлеба, и тогда от пострадавшего приходилось им вытерпеть много проклятий и даже побоев. Кроме того, несчастье несколько раз в этом году зловещим крылом пролетело над стадом. Пять молодых гусей и десять гусынь хозяйка продала в городе; трудно было остальным разлучаться с ними. Старую серую гусыню убил хворостиной за потраву сосед и с варварским бессердечием привязал бездыханный труп за лапу к той же хворостине, протащил его так через все пастбище, а затем бросил хозяину на загон. А одного молодого гуся, красу и надежду стада, убил ястреб, когда тот однажды отбился от своей родни. Несмотря на все эти тяжкие и безвозвратные потери, стадо в этом году было больше, чем в прошлом. Благодаря белому гусаку и серо-желтой гусыне да двум-трем ее дочкам в стаде в этом году было больше сорока гусей.
Когда Грыць появился среди них с прутом, знаком своей наместнической власти, сразу все глаза обратились к нему и послышалось лишь постепенно замершее изумленное шипение. Но ни белый гусак, ни серо-желтая гусыня не забыли еще своего прежнего доброго пастыря и быстро вспомнили его.
С громким криком радости, хлопая крыльями, они бросились к нему.
– Где-где-где-где? – стрекотала серо-желтая гусыня.
– Да ведь в школе был, – ответил гордо Грыць.
– Ох! ох! ох! – удивлялся белый гусак.
– Не веришь, дурак? – крикнул на него Грыць и огрел его прутом.
– А сьто-сьто-сьто? А сьто-сьто-сьто-сьто? – лопотали, собираясь вокруг него, остальные гуси.
«Значит, чему я научился», сформулировал их вопрос Грыць.
– Сьто-сьто-сьто? – лопотали гуси.
– А баба галамага! – ответил Грыць.
Снова изумленное шипение, точно ни одна из этих сорока гусиных голов не могла понять такой глубокой премудрости. Грыць стоял гордый и недосягаемый.
Наконец белый гусак обрел дар слова.
– А баба галамага! А баба галамага! – закричал он своим звонким, металлическим голосом, выпрямившись, подняв высоко голову и хлопая крыльями.
– А затем, обращаясь к Грыцю, прибавил, как бы для того, чтобы его еще больше пристыдить:
– А кши! А кши!
Грыць был уничтожен, посрамлен! Гусак в одну минуту перенял и повторил ту премудрость, которая стоила ему года науки.
«Почему они его в школу не отдали?» подумал Грыць и погнал гусей на выгон.

В КУЗНИЦЕ
Из моих воспоминаний

На дне моих воспоминаний, где-то там, в самой глубоком глубине, горит огонь. Маленький горн с тусклым, но сильным огнем освещает первые контуры, выплывающие из потемок детской души. Это огонь в кузнице моего отца.
Как сейчас вижу железный совок, которым отец набирает уголь из деревянного ящика – этот уголь он сам выжигал за хатами в яме, и до сих пор называющейся угольной ямой, хотя теперь от нее и следа не осталось, – и бросает его в горн на горсточку горяших углей, принесенных в черепке из хаты, а потом, как всегда, торопливо обращается к работнику:
– Ты-ты-ты, Андрусь! А ну раздувай, да помалу, помалу, пока не разгорится.
Андрусь, тот самый, который принес меня на плечах из хаты и усадил на угольном ящике у горна, хватается теперь за ручку кузнечного меха и начинает раздувать. У меха поначалу какое-то короткое дыхание, он еше не набрал воздуха, не приладился к работе: он, пофыркивая, раздувает угли, а пламени не скрепляет.
– Помаленьку, Андрусь! Ты-ты-ты, хло [18]18
Хло – то есть хлопец, парень.
[Закрыть], помаленьку!
– Еще дикая баба [19]19
Дикая баба, или летавица. – сказочное женское существо персонаж народных украинских сказок.
[Закрыть]фукает! – говорит шутя Андрусь и изо всех сил налегает на ручку, чтобы набрать в мех как можно больше воздуха.
От напоминания о дикой бабе меня охватывает дрожь.
– А где же эта дикая баба? – спрашиваю я. Андрусь смеется:
– В мехе. Разве не слышишь, как фукает? Я прислушиваюсь – и вправду фукает.
– Постой, вот я на нее как следует нажму, – говорит Андрусь, – она и застонет.
– Не хочу! Не жми! – вскрикиваю я. Мне хочется заплакать. Я не понимаю шутки Андруся. Мое воображение наполнено привидениями, упырями, загубленными душами, о которых каждый вечер я слушаю рассказы двух наших работниц, большой Устиньи и Устиньи малой, за прялкой. Они вспоминали не раз и про дикую бабу, что сидит в Диле и курит оттуда дымами; Андрусь первый поместил ее в кузнечном мехе, и с той поры этот мех наполняет меня ужасом.
– Но-но но, ты, хчо! Не говори дитяти глупостей. Не слушай, Ивась, не слушай, в мехе нет никакой дикой бабы.
– А что же там так сопит?
– Это ветер, сынок. Видишь, мех набирает воздуха, а когда его прижмешь, он и дует. Гляди, вот и я так дую!
И отец несколько раз дует на огонь.
Я успокаиваюсь. Пламя разгорается. Поначалу оно словно боязливо пробивается сквозь угли синеватыми язычками. Но дикая баба начинает дуть сильнее, и синеватые язычки снизу краснеют и стремительно вырываются из глубины угольной кучи. Мало-помалу черные угли тоже приобретают красный цвет, пламя шипит и устремляется вверх, точно сноп блестящих ножен или стрел. Но дикая баба уже надула свой кожаный живот чуть не до самого потолка. Андрусь напирает обеими руками, грудью и животом, чтобы прижать ручку вниз. Огненные ножи внизу становятся белыми; угли из красных делаются золотыми, словно прозрачными и расплавленными. Я не могу оторвать глаз от этого маленького горна, что светом не может похвалиться и еле-еле разгоняет сумрак небольшой деревянной кузницы, но зато плюется большими искрами до самого корытоподобного, обмазанного глиной, с нависшею сажей свода и таит в себе большое тепло, большую рабочую энергию.
А отец стоит у наковальни; вот он взял в руку свой небольшой «заветный» молоток и несколько раз ударил им по наковальне, быстро раз за разом, словно палочкой по барабану. И пошел шум по всему выселку – знак, что в кузнице начинается работа.
Теперь он вытаскивает из-под кузнечного меха разные яшики со всяким инвентарем. Тут зазубренные топоры, которые надо наварить; вот один из них выглядывает, точно отчаянный сорви-голова с раскроенным черепом – у него разбит обух, его придется заново «перебрать», как выражается отец своим образным языком. А вон там у дверей лемех – его надо направить. У кузницы под небольшим навесом возле точила стоят два колеса от воза, они принесены для оковки; там же лежат и новые полосы железа для обручей.
Отец был знаменитым кузнецом на все окрестные села, особенно же славились его топоры. Спустя тридцать лет после его смерти один человек в другом селе, уже старик, разговорившись со мной и вспомнив об отце, сказал:
– Нет, перевелись уже такие кузнецы. У меня вот и до сих пор его работы топор. Душа, а не топор.
Когда отцовская барабанная дробь, производимая молотом по наковальне, разносилась по слободе, по обыкновению начинали сходиться соседи. Работа в кузнице шла больше всего зимой – летом бывали лишь два коротких сезона: плугов и серпов, и отец открывал кузницу летом разве только в тех случаях, когда кто приходил с какой-либо большой и неотложной работой.
А зимой хозяйственных работ мало. Кое-где в овине лопочут цепа, в сенях повизгивают пилы или урчат вороты, ссучивая веревки. Работа это неспешная. А в кузнице весело. Кто приходил с большой работой – то ли воз оковать, то ли топор сделать, – тот не забывал принести за пазухой бутылку водки. Отправлялись к кузнецу обычно как в гости, как к соседу, а не как к ремесленнику, чтобы сделал то, что требуется, и до свиданья, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. У отца твердой расценки на работу не было – «что другим, то и мне», а нет у кого денег, то он и повременит. Но он любил, чтобы в кузнице было весело, шумно. В большой компании, в веселых беседах да за чаркой водки ему работалось лучше всего. Да и частенько требовалось больше помощников. Вот хотя бы обручи натягивать на колеса: три-четыре мужика берутся за большие колья с железными крючьями, двое других да отец третий несут длинными клешами раскаленный обруч, накладывают его на обод, а те хватают крючьями за обруч, упирают конец кола в обод и начинают изо всех сил прижимать вниз. Отец хватает большой молот и набивает обруч где надо. Дерево обода от прикосновения раскаленного железа кое-где загорается. Но пламя быстро гаснет.
– Ну, ну! Ты-ты-ты! – слышится отцовская приговорка вперемежку с ударами молота то об обруч, то об обод и скрежетом крючьев, тянущих обруч в разные стороны.
Потом три-четыре человека берутся за такие же большие молоты и в такт, как молотильщики, начинают набивать натянутый обруч на обод.
– Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! – раздается по всей слободе, пока обруч окончательно не станет на свое место. Хозяева, кто постарше, взглядами знатоков осматривают колесо, приглядываются, хорошо ли обруч стянул обод, вошла ли каждая из спиц на свое место, прочно ли пригнана колесная ступица; то один, то другой подымает дюжей рукой колесо, прокатит его легко по земле и прислушивается к стуку.
– Колесо – что колокол, – повторяют один за другим. Наивысшая похвала кузнецу.
А в кузнице дикая баба все стонет и стонет, огонь в горне уже весь белый, и в его глубине что-то тлеет, светится, точно золото, и разбрасывает в разные стороны продолговатые брызжущие искры, так называемую окалину. Это «варится» будущий топор. Отец бросил в горнило добрых две горсти гвоздей, вот тех старомодных, ручной работы гвоздей из кованого железа, обложил их углями и поставил, кроме Андруся, еще одного человека раздувать мех. В отцовской кузнице таков уж обычай: кто приходит – сиди, беседуй, дойдет дело до угощенья – и его не забудут, но ежели потребуется в чем-либо помощь, то отец без всяких стеснений обращается к нему: «Ты-ты-ты, хло!» (если это кто помоложе), или: «Кум-кум! А ну-ка, за молот!» Или за мех. Или за что требовалось. И моя маленькая особа в подобных случаях бывала предметом его забот. Когда надо было класть на наковальню кусок железа побольше, сильно раскаленный, с которого прыскали крупные искры или неслась с шипеньем зеленовато-белая окалина, отец всегда обращался к кому-нибудь из присутствующих:
– Заслоните-ка там ребенка!
Я сильно боялся этих искр, но страшно любил смотреть, как они, подобно рою огненных шмелей, вылетают из-под отцовского молота и прыскают во все стороны. Особенно когда надо было сваривать два куска железа в один. И вот, когда отец из раскаленных в горниле гвоздей сбивал целый кусок, то из этого куска после многократной накалки он выковывал продолговатый плоский брусок длиной в полторы пяди, а шириной в три пальца, потом загибал его на круглом роге наковальни, а концы склепывал. Вот тут-то и наступала наиважнейшая часть в изготовлении топора: сделать хороший, прочный обух и сварить, выковать и закалить лезвие. Загнутый, неотделанный брус снова переходил в огонь, а когда его накаливали добела, в бесформенное отверстие надо было вбить обушник – железное приспособление, на котором должно было формоваться отверстие в обухе топора. На этом обушнике отец выковывал обух очень тщательно; его обухи никогда не трескались и не ломались, а это в топоре для хозяйственных нужд, часто служащем и вместо молота, весьма немаловажное достоинство. Вместе с обушником топор снова переходил в огонь, но в каком виде! Место, где сходились оба конца бруса и где должно было образоваться лезвие, все сплошь обмазывалось жидко разведенной глиной – для лучшей сварки железа. Топор, положенный в пламя, отец старательно, точно ребенка, прикрывал горящими, а поверх и свежими углями, а угли сбрызгивал к тому же водой, в которой тоже была жидко разведенная глина, чтобы было побольше жару. И дикая баба начинала стонать изо всех сил. До той поры, пока из горна вместе с обычными угольными искрами не начинала вырываться яркобелая окалина. Нет, и не до той поры! Только когда окалина начинала густыми роями с шипением вылетать из горнила, вот тогда-то был знак, что железо сварено достаточно. Отец медленно вынимал клещами раскаленное железо, очищал его молотком от угля и раскаленной глины, клал на наковальню и делал несколько легких ударов своим молотком. Эти удары всегда имели для меня какое-то очарование тайны: хотя и были они легки, однакоже после каждого удара шипели и разлетались по всей кузнице большие рои окалины. И хотя я, по обыкновению, в такие минуты сидел на своем возвышении, заслоненный от наковальни плечами какого-нибудь дюжего «дядьки», однако мои глаза из надежного укрытия бегали всюду по кузнице, следя за каждой окалиной, и в то же время неотступно глядели и на железо, приобретавшее мало-помалу под ударами отцовского молотка все более отчетливую ферму. А придав мягкому железу такую форму, какая была ему необходима, отец подмигивал присутствующим, особенно молодым, и приговаривал:
– Ты-ты, хло! А ну за молоты! А ну поживей!
Два человека хватали большущие молоты и били в такт по железу. Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! – раздавались удары трех молотов. Маленький отцовский тоненько, а два других грубо, ворчливо, будто сердито.
Лезвие сварено. И вот теперь-то начиналась отцовская детальная работа: снова над обухом, пока можно будет вынуть обушник, а затем над лезвием. Отец ковал и перековывал каждую часть по нескольку раз, заботясь не только о внешнем виде, но особенно о том, чтобы железо было гладкое, плотной выделки, чтобы не было нигде раковины или заусенца, чтобы топор выглядел, «как литой».
В кузнице идут разговоры. Соседи передают сельские новости: кто что слышал в сельском правлении, что видел на базаре в Дрогобыче, о чем рассказывал странствующий старик нищий. Больше всего разговоров о Бориславе, о ямах и шахтах. В ту пору добыча нефти и горного воска начиналась в более крупных размерах. Тысячи людей направлялись в Борислав, выманивали у крестьян за что придется небольшие клочки земли и начинали рыть «колодцы». В соседних селах начал зарождаться тип «рипника» [20]20
Рипник – рабочий на старых нефтяних промыслах на Западной Украине (от слова «ропа», что значит «нефть»).
[Закрыть]. Это были обычно парни не только бедные, но и позажиточнее, что зарились «на черную рубашку да белый хлеб», – так характеризовала крестьянская поговорка жизнь рипника, первое проявление промышленно-капиталистических порядков в этом до сих пор тихом, патриархальном уголке.
В нашу кузницу доходили лишь некоторые, так сказать, смутные отголоски этого нового явления: на этой неделе в ямах погибло пять человек, а был случай, что в одной яме задушило троих, а вот тот либо этот упал с бадьи и разодрался о плетенье, заменявшее в этих крайне примитивно построенных шахтах крепежные стойки. Это была одна неизменная тема рассказов. А другая тема: один бориславец пошел с сумой, другой спился, а того, говорят, подпоили да пьяного столкнули в яму. Передавались бесконечные повествования о всевозможных мошенничествах, о пьянстве рипников, об их хороших заработках и о бесполезной растрате заработанных денег, о взрывах неочищенной нефти в колодцах на глубине в пять, десять, двенадцать саженей.
Я слушал эти рассказы, как волшебные сказки о далеких, заколдованных краях. Борислав с его ужасами, дикими шутками и дикими скачками фортуны, с его странными промыслами, странной работой и странным народом наполнял мою фантазию. Наша слобода лежала далеко от большой дороги; в Борислав от нас никто не ходил и не ездил, но, наслушавшись зимою в кузнице рассказов о нем, я решил, как только настанет весна, не пожалеть ног и уж добежать до большой дороги и глядеть до тех пор, пока не увижу рипников, направляющихся по этому пути из дальних бедных селений в Борислав или возвращающихся по субботам домой. Но мое любопытство было удовлетворено значительно раньше: еще зимой отец взял меня в один из понедельников в Дрогобыч, и тут я увидел целые толпы рипников и целые кучи евреев, спрашивавших у каждого встречного крестьянина, казавшегося им по одежде бориславцем:
– Хозяин, хозяин, вы из Борислава? А нет ли у вас источника на продажу?
Отец нехотя слушал эти рассказы о Бориславе. Он так сжился со старым укладом сельской жизни, что в этой новой бориславской суматохе чувствовал нечто новое, враждебное прежнему житью. Внешне он этого не показывал, не осуждал и не возмущался, как иной из завзятых приверженцев старосветского уклада, но когда запас новостей исчерпывался, он охотно переводил разговор на другие, большей частью нравственные темы. Отец, старательный и толковый работник, любил поиздеваться над дармоедами и пачкунами, над разинями и болтунами. В подтверждение своих замечаний общего порядка он любил приводить коротенькие рассказы и притчи, обычно из области кузнечного ремесла. Здесь, в кузнице, я впервые услыхал такие рассказы, как, например, о мальчике, которого отец привел к кузнецу в обученье, но, опасаясь, чтоб «дитя как-нибудь не обожглось и чтоб искра не выжгла ему глаз», просил кузнеца поместить сына в корзине, прибитой к стене. «Он уж будет ко всему приглядываться, вот так и научится». Мальчик «обучался» таким образом семь лет н, вернувшись к отцу, вместо лемеха сделал какую-то дрянь.
Беседа, направленная в русло общих тем и рассказов, проходила оживленно. Охотников послушать бывало много, но были среди наших соседей и необыкновенные мастера-рассказчики. Сыпались анекдоты, воспоминания о былых временах, о кошутскои войне [21]21
Кошутская война – война между Австрией и Венгрией 1848 года.
[Закрыть], о тяжелых годах, о путешествиях наших крестьян на службу в Подолию или в Покутье и на Буковину – за кукурузой. Личные приключения переплетались с краткими, но меткими характеристиками людей – жителей Подолии, гуцулов [22]22
Гуцулы – так же как и бойки, украинцы-горцы; живут в восточных Карпатах.
[Закрыть], бойков, – а также городов Коломыи, Городенки, Садогоры, Черновиц.