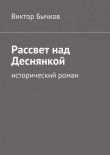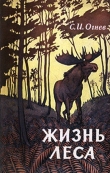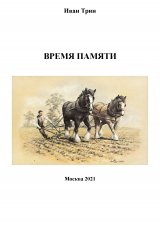
Текст книги "Бремя памяти"
Автор книги: Иван Тринченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
В деревенской жизни издревле действовал закон взаимовыручки – основа стабильности и живучести общины. Сообща строили дома для молодых или новых семей, вдов или погорельцев. Соседским долгом считалась помощь в починке крыши, сарая, ограды, колодца и других работах, требующих усилий нескольких человек. При этом не предполагалось ни какой платы, кроме угощения и могарыча – бутылки самодельной водки). Сообща строили и поддерживали в исправном состоянии все общественные объекты, такие как дороги, пруды, колодцы, водопой для лошадей и скотины и др.
Утром я проснулся от какого-то стука. Выскочил в переднюю комнату и увидел, что дедушка сидит на маленькой скамеечке и стамеской обтёсывает деревянный чурбачок, похожий на лодочку, а на полу уже лежит одна готовая. Затем дедушка нарезал две полоски из жести и аккуратно прибил их маленькими гвоздиками вдоль киля каждой лодочки. Сверху, на передней части платформы (палубы) лодочки он укрепил петлю из ремня, а на её корме два тонких ремешка. «Готово – сказал дедушка – пошли, попробуем как они побегут».
Пришли на пруд. Лёд был чистый, не занесённый снегом. Привязав коньки к моим валенкам, дедушка сказал: «Ну, пошёл!», и, не успев сделать и шагу, я больно шлёпнулся на лёд. Тогда он взял меня за руку, и мы прошли с ним несколько кругов. До сих пор помню неожиданное и восхитительное ощущение от скольжения по льду – ноги стоят, а сам еду!
Потом я уже смело катался с другими ребятами. Конечно, скольжение самодельных коньков было плохим, но мы другого не знали и были рады и этому. Первые, и единственные в моей жизни, настоящие коньки снегурочки я надел только лет в 14–15 уже в Бирюлёве. И то, тогда во время войны, мы с мальчишками не знали что такое каток, а гоняли по накатанным автомобилями мостовым улиц. При этом, верхом удовольствия и шика было на виду у всех промчаться, зацепившись проволочным крюком за борт грузовика.
Прорубь. Однажды той же зимой, мы с Петькой, моим соседом и лучшим дружком, и Ванькой по прозвищу Кипий, так как он копейку называл кипийкой, катались на пруду. Был сильный мороз, лёд был запорошён снегом, кататься было трудно и мы быстро разогрелись. Я снял коньки и мы просто так гонялись друг за дружкой.
Петька подбежал к проруби позвал нас посмотреть, как она замёрзла. Вода в проруби и впрямь заледенела. Прорубь выглядела огромной ямой с высокими, в полколена, гладкими стенами основного льда, а дном её была ледяная корка, которая казалась очень толстой и крепкой. Петька опустил одну ногу и постучал по льду валенком. Лёд не поддавался. Тогда он прыгнул на корку обеими ногами и… сразу исчез в проруби, провалившись в воду.
Я ничего не успел сообразить, только вижу в этой чёрной дыре его лицо, мокрую шапку и красные руки, судорожно хватающиеся за округлый скользкий край проруби. Я схватил эти руки и стал вытаскивать Петьку на лёд, завалился на спину и падая увидел, что Петька был уже животом на льду. Быстро поднявшись, я оттянул его от проруби. Он вскочил на ноги, и я увидел, что вся его одежда сразу покрылась прозрачной плёнкой льда.
– «Побежали домой» – закричал я.
– «Не пойду – мамка прибьёт» – отвечал он, а у самого уже губы синие. Тут Ванька Кипий говорит:
– «Мы его разогреем», достал спички и стал чиркать, а они на ветру не зажигаются, а Петьку уже колотит, одежда – колом. В это время подбежал к нам мужчина, из двора напротив пруда, схватил Петьку в охапку и бегом к его дому.
Я же удрал к себе домой, разделся, залез на печную лежанку и молчу. Дома была только бабушка. Вскоре врывается в дом дедушка с криком: «Где Ванька!» – схватил с лавки мою одежду, и убедившись что она почти сухая, пригрозил мне ремнём и приказал никогда не ходить на пруд без взрослых. Бабушке он рассказал, что работал в хлеву, когда же услышал крик в соседнем дворе, побежал туда и узнал о происшествии на пруду.
Я весь остаток дня просидел на печке, боясь гнева дедушки и думал, что мне-то ещё повезло, а вот Петьке…: «Как ему там? Небось отколотили здорово и больно, «Бедный Петька». На следующий день я долго выглядывал в окно, в надежде увидеть Петьку, но его на улице все не было. «Наверно его так наказали, что гулять его теперь не скоро пустят».
И вот, наконец, уже после обеда, я увидел его на улице, быстро оделся и выскочил на встречу. Смотрю, а он никак не похож на битого. Весь сияет и, довольно улыбаясь, даже с хвастовством, уплетает душистый пирожок. Тепло одет, поверх одежды и шапки повязан шерстяным платком, а на ногах новенькие бурки, не валенки, а именно бурки!
Следует пояснить, что бурки – что-то вроде тёплых сапог из фетра или плотного тонкого войлока. о тем временам – предел мечтаний и не только для мальчишки. Признаюсь, я был поражён увиденным. Думал: – «Как Петьке повезло, что он провалился в прорубь, его задарили, а меня вот только отругали».
Маслобойка. У нас всегда были свои свежие сливки и сливочное масло. Его приготовление, точнее, взбивание в маслобойке было моим любимым занятием. Маслобойка это небольшой деревянный бочонок, с плотно сидящей крышкой и отверстием посредине её. Из этого отверстия торчит ручка пестика, на конце которого внутри бочонка укреплён деревянный кружок с дырочками (технически, вся маслобойка это цилиндр и поршень с дырочками).
Процесс приготовления масла заключался в следующем. Бабушка достаёт из погреба сливки или сметану, загружает ею хорошо ошпаренный бочонок на две трети его объёма, ставит пестик, продевает ручку пестика в отверстие крышки и плотно насаживает её на бочонок. Всё. Дальше моя работа. Я сажусь поудобнее на скамеечку, зажимаю в кулак ручку и начинаю двигать пестик вверх и вниз.
Сначала хлюпать сметану тяжеловато, но я стараюсь, пыхчу. Затем она размягчается и работа идёт веселее. Не проходит и четверти часа, как на крышке у отверстия вместо сметаны появляется водичка – сыворотка, двигать пестик опять становится тяжело, но ещё несколько ударов и… масло готово.
Я горд работой. Похвалив меня, бабушка открывает бочонок, а там, вместо сметаны в водянистой сыворотке плавают куски масла. Бабушка собирает их, окатывает в крупный колобок, кладёт в посуду, накрывает салфеткой и относит в погреб.
При этом, она всегда оставляет на пробу кусок свежего и необыкновенно вкусного, ароматного масла. А если это ещё совпадает с выпечкой свежего хлеба или пирогов!.. Ломтик ещё тёплого, с хрустящей корочкой, хлеба смазанного таким маслом, это не просто вкусно, – это уже верх блаженства!
Зингер. У бабушки была швейная машина «Зингер» с ножным приводом. Я любовался совершенством её ажурной чугунной станины, красотой и изяществом чёрного с позолотой корпуса. Он представлялся мне чёрной, застывшей в прыжке, кошкой. Я зачарованно смотрел, как эта «кошка» под управлением бабушки оживает – внутри её что-то урчит и стучит, вращаются колёса, приходят в движение штырьки, рычажки, крючки, катушка, иголка и лапка, из-под которой быстро и весело выползает ткань соединённая крепкой строчкой нити.
Бабушка, будучи совсем неграмотной, всегда сама налаживала её работу, разбирала, чистила, смазывала, а при необходимости справлялась с небольшими неисправностями. Так же ловко она управлялась и с сепаратором молока, довольно сложной машиной, и ткацким станком. Может быть, эти детские наблюдения и явились причиной того, что потом мне легко давалось изучение и понимание техники.
Ткацкий стан. У нас дома были все принадлежности для процессов обработки льна, изготовления пряжи и выделки полотна: самопряха (самопрялка), веретена, гребни, пяльцы, ткацкий стан, шпули, челноки, рубели, вальки и т. д. Все это я с интересом несколько раз разглядывал и перебирал, забравшись на чердак.
А однажды, бабушка попросила дедушку снять с чердака ткацкий станок, чтобы сделать лежаки. Так у нас назывались коврики-дорожки. Дедушка принёс охапку каких-то гладких досок, дощечек, гребёнок, крючков и ещё много разных деталей Я видел, как ловко бабушка из этого вороха начала собирать и налаживать станок, сначала станину, затем подвижные агрегаты и другие детали. Был счастлив, если она просила меня подать или принести ей ту или иную деталь.
Затем бабушка снарядила станок пряжей и стала работать, перемежая ряды основы, ловко пробрасывая между ними челнок и уплотняя уток. Всё это сопровождалось мелодичным стуком деревянных деталей. Я зачарованно наблюдал, как, начиная с одной узкой полоски, стал прирастать коврик. За несколько дней она наткала ковриков-лежаков на весь дом.
Кузня. Низкое помещение, стены и потолок чёрные от копоти. Посреди кузни, на толстом дубовом пне, стоит большая наковальня с узким носом на одном краю. Слева – огромные меха, длинная, отполированная руками молотобойца рукоятка поднята к потолку. За мехами, позади наковальни – горн с раскалёнными углями. Справа, у подслеповатого окошка – верстак, заваленный инструментом. Запах горящего угля, раскалённого железа и машинного масла, завлекают своей необычностью. Дверь в кузню всё время открыта.
Я стою, подпираю косяк двери плечом и зачарованно смотрю на то, как кузнец, худощавый мускулистый мужик в большом кожаном фартуке, большими грубыми клещами достаёт из горна раскалённый до-бела кусок железа и кидает его на наковальню. Поворачивая заготовку клещами на разные стороны, подставляет её под удары молота, при этом он и сам орудует молотком. Молотобойцем был молодой мускулистый парень из нашей деревни.
Удары молота и молотка звучат по-разному, производя почти музыкальный перезвон. Тяжёлый молот определяет ритм и тон музыки, а мелодию ведёт молоток кузнеца более частыми ударами разной силы по заготовке и по наковальне. Этот перезвон ещё издали очаровывает и влечёт меня к кузнице.
От ударов по раскалённому металлу летят в разные стороны искры, заготовка поддаётся, начинает менять форму и уже проступает контур будущей детали, но она остывает и требует повторного разогрева, после которого ковка продолжается. Готовое изделие либо бросается на земляной пол, либо с шипением окунается в бочку с водой.
Картина всего процесса захватывает моё детское воображение, и мне хочется самому хотя бы разок стукнуть молотком, но нельзя – я ещё мал, молот не то чтобы поднять – даже сдвинуть не могу, да и кузнец строгий.
Володька. В один из весенних вечеров дедушка держит в руках мои ботинки, критически осматривает их со всех сторон, качает головой и говорит бабушке: «Как просохнет, надо идти в Поповку к Володьке, шить мальчишке сапоги». После я часто слышал от него упоминание о новых сапогах и о Володьке. Я был очень рад предстоящему событию и мысленно представлял наше путешествие в Поповку, в которой я ещё ни разу не был.
И, конечно же, мне не терпелось встретиться с Володькой. С каждым разом его образ становился всё реальнее. В моём воображении он представлялся молодым красавцем с кудрявой шевелюрой, весёлым и очень добрым – ведь это он сделает мне новые сапоги! Для меня это была своеобразная игра, я мысленно разговаривал с ним, что-то ему показывал, чем-то хвалился. Одним словом, Володька занозой сидел у меня в голове.
И вот долгожданный день наступил. Подняли меня рано утром. Дедушка сложил в сумку, купленные заранее на рынке, куски кожи на верха, подошвы, стельки и каблуки и мы пошли. Путь был неблизкий – километров 5–6, так что выходить надо было пораньше. Солнце только что встало, и было ещё свежо. Мы прошли соседнюю деревню Вершину, затем пересекли шлях, так у нас называли шоссе, а затем пришли в деревню Ясная Поляна, где жил мой второй дедушка Иван Савельевич. Дом его был непохож на наш в Субботине, более традиционен, – под одной соломенной крышей с сараем и хлевом. На чердаке дедушка Иван устроил голубятню. За домом были сад и довольно большая пасека. Нас угостили завтраком, а меня ещё и мёдом.
Дедушки ещё о чем-то беседовали, а я забрался в голубятню на чердаке и любовался голубями. Они были крупные и необыкновенно красивые: большая выпуклая грудка буро-красного цвета, крылья – чуть потемнее, с белыми поперечными полосами. Шея с ярким золотисто-зелёным отливом. Голова – чудо. Небольшая, над клювом белый нарост, на затылке хохолок.
Мне нравилось наблюдать, как голубь резко и в то же время грациозно двигает головой в такт своим шагам и как при этом – всеми цветами радуги играет оперение его шеи. Одним словом – красавцы.
(К слову. Скорость, с которой голубь делает эти движения привлекла внимание не только биологов и любителей, но и техников. Одно время этих птиц даже использовали на зерновых фабриках в качестве сортировщиков гороха. Они выталкивали клювом все тёмные примеси из падающего перед их глазами, светлого потока гороха).
Попрощавшись с дедушкой Иваном, продолжили наш путь. Подошли к слободе Поповка. Она показалась мне очень большой, так как мы долго шли по главной улице.
– Вот мы и прибыли, – сказал дедушка, подходя к калитке, за которой виднелась небольшая хатёнка. Дедушка постучал. Щёлкнула щеколда, и на пороге появился тощий старик с бледно-серым лицом, украшенным жидкой сивой бородкой. На кончике мясистого носа еле держались очки, одна дужка которых привязана ниткой. Портрет добавлял помятый картуз с поломанным козырьком и до блеска засусленный холщовый фартук поверх длинной полотняной рубахи. На ногах – растоптанные опорки, с торчащими из них пальцами и костяшками щиколоток.
– Здравствуй Володя! – сказал мой дедушка, протягивая руку. Я вдруг оцепенел при этих словах. Что-то провалилось у меня в груди, и я чуть не заплакал. Как будто кто-то убил моего Володьку, а вместо него мне показывают какое-то несуразное чучело. Я был обескуражен и подавлен, помню только как в низкой, полутёмной и пропахшей сыромятиной комнате, я сидел на высоком табурете, а этот дед корявыми пальцами противно-щёкотно касался моих ног, снимая мерку. Они долго разговаривали о коже и ещё о чем-то. Я вздохнул свободно только когда мы вышли на улицу. Всю долгую дорогу домой я молчал, переживая это событие.
Недели через две, дедушка принёс пару очень хороших сапожек и когда я их надел, залюбовался – такие они были красивые. Да они ещё и приятно поскрипывали при ходьбе. Я тут же простил измену моему «Володьке».
Кино. Впервые я посмотрел кино в возрасте шести-семи лет (1935–1936 г. г.). Кино привозили раза три-четыре за лето и показывали его в соседней деревне Анновке, в которой был наш сельсовет. Кинотеатром служила большая рига – молотильный сарай, у нас она называлась – клуня. Сеанс начинался вечером, и не столько из-за того, что днём люди ещё в поле на работе, а ещё и потому, что помещение «кинотеатра» было как решето – свет пробивался через многочисленные дыры и щели в стенах и крыше, вследствие чего картинка на экране, сшитом из двух простыней, была плохо видна.
Электричества в деревне не было, а единственная лампочка в вышине клуни и лампа в проекторе горели от динамо-машины, установленной в грузовике киномеханика (по-нашему – киношник). С большим интересом я наблюдал, как он заправляет ленту в киноаппарат, гасит свет в «зале» и начинает в прямом смысле «крутить» кино, т. е. весь механизм аппарата приводился в работу рукояткой.
Фильмы были немые, из которых я запомнил картины Чарли Чаплина. Читал титры и комментировал фильм сам киномеханик. На следующий год клуню подремонтировали и вместо допотопного аппарата с ручным приводом стала приезжать настоящая кинопередвижка с показом даже первых звуковых фильмов.
Эффект кино, произвёл на меня сильное впечатление достаточно полной иллюзией настоящей чужой жизни, которая как бы происходит здесь же в клуне на полотне. Я умирал от смеха глядя на кривляния и гримасы Чарли Чаплина в «Огнях большого города», или Игоря Ильинского в «Празднике святого Иоргена». А в «Весёлых ребятах» – первом мною увиденном звуковом фильме, во время сцены, в которой пьяный поросёнок шатаясь брёл по столу, упал и уснул, а столь же пьяный гость, с ножом и вилкой в руках, хотел отрезать от него кусочек, я упал с лавки на землю и, извините, описался от смеха.
Обычно в кино я ходил с группой молодых людей, а однажды увязался за парочкой. Не в восторге от моего присутствия, они пытались меня прогнать, но я отстал метров на пятьдесят и всё же прошёл следом за ними до Анновки. После фильма они от меня постарались скрыться, и мне пришлось идти домой одному.
Вот было страху: темнело быстро, небо из тёмно-синего становилось чёрным, на нём, как живые, ярко сверкали звёзды. Слева дороги, слегка возвышается ещё более чёрная лесная «стена-полоса», а вокруг – зловещая тишина степи. Я один. Слышно как стучит сердечко. А путь – два или три километра. Чтобы побороть страх, иду быстро, кое-где даже вприпрыжку, подбадриваю себя громкими фразами из фильма и даже песнями. Особенно страшно было проходить мимо заброшенного дома раскулаченных и выселенных Жуков.
Казус. Не знаю, к месту это будет или нет, но в памяти моей тех лет остался один курьёзный случай.
Я был ещё ангельски чист и безгрешен. И вот однажды, во время игры в чурки с мальчишками на улице, к нам подошёл какой-то взрослый парень из соседней деревни и стал играть вместе с нами. Игра состояла в следующем. Чурка – это кроткая, сантиметров десять-двенадцать, палка-чурбачок, заострённая с обоих концов как карандаш. Бита – длинная палка или прут в форме сабельки. На земле проводится черта, поперёк черты кладётся чурка. Битой ударяют по кончику чурки так, чтобы она подпрыгнула повыше и в этот момент её надо подхватить ударом биты, чтобы она полетела далеко. Кто из играющих забросит чурку дальше всех – тот и выиграл.
Естественно парень этот нас обыграл. Он всегда одним ударом поднимал чурку на необходимую высоту, ловко подцеплял её битой, и она летела очень далеко. Мы с восхищением наблюдали игру мастера. Потом мы сидели на лавочке, и он нам что-то рассказывал. Когда стали расходиться, он отвёл меня в сторонку и сказал:
– «У меня к тебе просьба, выполнишь?
– Да, – ответил я.
– Тогда слушай. Сегодня вечером во время ужина, когда уже все соберутся за столом, ты спроси дедушку: «Дедусь, а откуда дети берутся?».
И вот вечером, когда все уселись за стол и приготовились было есть, я и спросил. Последовала немая сцена, тётя Галя прыснула от смеха, а дедушка строго спросил меня: – «Какой негодяй научил тебя?». Я вдруг остро ощутил, что коснулся чего-то нехорошего, непонятного для меня и понятного другим. Я покраснел и выскочил из-за стола.
Мой первый заработок. Как-то председатель колхоза попросил колхозников прислать к 6 часам утра к правлению ребятишек от восьми до одиннадцати лет, с кружками и банками, для сбора жука-кузьки, которого в том году было очень много.
Жук этот с виду небольшой и кургузый, а на самом деле – очень опасный вредитель. В период налива зерна, когда оно ещё мягкое и внутри наполнено молочком, жук прилетает, садится на колос, хоботком прокалывает зерно и выпивает содержимое. Зерно становится щуплым и никуда уже не годится. Жук выпивает несколько зёрен и перелетает на другой колос. При большом его количестве можно лишиться половины урожая. Рано утром его собирать руками легче потому, что он, будучи потревоженным, не так охотно слетает с колоса, как днём.
После краткого рассказа о вредителе, нас повели в поле, разделили на две группы. и мы пошли шеренгами его собирать. Мы с большой охотой кинулись собирать жука, быстро наполняли кружки и банки и ссыпали их в вёдра, а две женщины относили их в большую бочку с водой.
По окончании работы, часов в 10–11 нас повели к правлению, у которого были расставлены столы с ломтями свежего белого хлеба и тарелками полными мёда. Пир был на славу. В последующие дни, в качестве оплаты нашего труда нам уже просто выдавали мёд. С какой же радостью и гордостью я приносил домой полную кружку этой сладкой «зарплаты»!
Пчёлы. Оба мои дедушки, среди многих других занятий, были и пчеловодами. У дедушки Ивана на хуторе Ясная поляна, было 15–20 ульев (семей, как тогда говорили). Мои гостевые визиты к нему всегда «до краёв» были «сладкими», от самых разнообразных сортов мёда и разговоров дедушек об особенностях разведения пчёл, а также восхитительным вкусом пирожков, тут же испечённых моей второй бабушкой.
У дедушки Сергея Давыдовича – только шесть ульев. Тем не менее, он очень внимательно и тщательно подходил к этому, довольно сложному занятию. Следил за здоровьем пчёл в семье, состоянием и работой матки, сроками готовности мёда к выкачке. Особое внимание уделял определению начала роения и возможному бесконтрольному вылету роя, с возможной его потерей и т. д. Для этого, довольно сложного дела, он обзавёлся всеми необходимыми материалами и оборудованием. А это, корме самих домиков – ульев, были специальные скребки и мастерки, дымарь, несколько защитных сеток, сетка для ловли роёв и центрифуга (медогонка). Два улья он купил, а остальные смастерил сам. Кропотливо выпиливал необходимые детали, сам делал рамки для сотов. Я любил наблюдать за столь кропотливой работой дедушки, и рад был его мелким поручениям.
Запомнился случай неожиданного вылета роя, и как его сняли со спины и плеча моей тёти Маруси, куда он сел. Дедушка быстро снял его и водворил в свободный улей. Хорошо, что голова тёти была повязана платком.
Жеребёнок. Все детёныши животных красивы и забавны, Но жеребята бесподобны своей грациозностью и чёткими линиями фигуры, лёгкостью и стремительностью движений. Забавно наблюдать, как весело со звонким ржанием бегают они на своих тонких высоких ножках, с игриво поднятыми головой и ещё пушистым хвостиком. Прыгают, становятся на дыбки, перебирая передними ножками и взбрыкивают, высоко вскидывая задние. И всё это с весёлым, звонким, ещё «детским», ржанием.
Невозможно передать словами ощущение теплоты и радости, пронизывающее тебя всего, когда обнимаешь, гладишь и ласково щиплешь широкую шёлковую шею жеребёнка, а он благодарно принимая игру, в ответ старается слегка ущипнуть и тебя своими упругими бархатными губами.
Жучка. У дедушки долго жила небольшая собака Жучка. Имя она получила за то, что была вся чёрная (как чёрный жучок), кроме грудки и «носочков» на передних лапах, которые были белого цвета. Мордочка гладкая, небольшая, лоб крутой, глаза карие, выпуклые, живые. Шерсть длинная пушистая, уши стоячие, хвост колечком и, что особенно забавно, – великолепные «штаны» задних ног, с серым отливом. Собака была дворняжкой, но внешне напоминала шпица.
Ума она была необыкновенного. Мы её научили давать лапу, сидеть, лежать, прыгать, служить. Она смешно пела (подвывала), когда кто-нибудь визжал на одной ноте, или пел, или тренькал струной гитары или балалайки. Она постоянно участвовала в наших играх. Сестра Тося наряжала её в юбочки и платья.
Жучка была отменной сторожихой. Лаяла и не пускала никого чужого во двор, а если кто пытался пройти, то могла и укусить. Бывало, бабушка увидит в огороде кур, кликнет Жучку, та быстро выгонит их с грядок и со двора, подбегает к бабушке и заглядывает ей в глаза, как будто докладывает об исполнении поручения. Но, выгонит-то она с грядок и со двора, только чужих кур – своих же оставит. Прогонит и их только по второму приказу. Как она их отличала? Загадка.
Известно, что собаки обладают разнообразными полезными и благоприятными для человека чертами характера, такими как: преданность, храбрость, самоотверженность, любовь к хозяину и многие другие. Я же хочу отметить одно свойство, не отмеченное другими. Как ни странно, это стеснительность, – казалось бы чисто человеческое чувство. Доказательством этому послужил случай.
Выше я уже упоминал о её наряде и, в частности, о её шикарных "штанах". Так вот однажды, после линьки, когда вся её чёрная шубка полностью сменилась и празднично лоснилась, на "штанах" оставались большие пучки старой серо-бурой шерсти. Мы, дедушка дети и стояли во дворе и обсуждали то ли красоту, то ли какой поступок Жучки. Её глаза и весь её вид говорили о том, что она понимает, что разговор идёт о ней, и она рада этому.
Дедушка же, стараясь выставить при нас Жучку в лучшем свете, нагнулся и убрал некрасивые пучки на её «штанах». Что стало с собакой! Она, с каким-то извинительным взглядом и выражением морды, стыдливо прикрывая изменившие свой вид "штаны" хвостом, на полусогнутых попятилась из нашего круга и убежала.
И ещё. Однажды, когда в очередной раз у неё отняли щенков, она очень тосковала. Лежала, положив голову на передние лапы, смотрела на нас печальными глазами и тоненько скулила. Вечером я заглянул в сарай, где она обычно лежала на охапке сена, и вижу, что под нею копошатся какие-то шары. Подошёл поближе и увидел, что это котята впились в её соски и уже насосались так, что животики их вздулись. Жучка облизывает их и смотрит на меня умоляюще, мол: не трогай нас, не видишь что ли, что это дети?
Оказывается, ещё накануне чья-то кошка родила котят, их выбросили в овраг, а Жучка нашла и перетащила к себе. Конечно, котята все равно умерли, или от чужеродного молока, или чрезмерно насосались, но Жучка! Ведь она же пожалела беспомощных малышей, пыталась их спасти. Это ли не поступок!
Волки. Впервые я познакомился с волками мальчишкой лет 8-9-ти. Вечером, когда уже темнело, я под какой-то тревожный лай собак, подошёл к колодцу набрать воды и уже собрался нацепить ведро на карабин цепи, как увидел впереди, метрах в пяти за колодцем, два движущихся силуэта. Какое-то неопределённое чувство страха охватило меня. Пытаясь подбодрить себя, я подумал что это собаки, но в то же время понимал, что для наших деревенских собак они какие-то крупные. Пара остановилась, они сели рядом и повернулись в мою сторону.
Холодная дрожь пробежала по моей спине, – на меня смотрели две пары горящих красных угольков. Я от испуга крикнул, уронил ведро, оно загрохотало вниз колодца, волки как бы нехотя затрусили прочь. Когда я рассказал об этом дома, дедушка сказал, что он уже слышал о появлении волков около деревни и пропаже нескольких собак и попросил меня не выходить вечером за пределы двора.
Ваньки. Я уже рассказывал, что во время подъёма и освоения Россошанской целины, нашим хуторянам было не до детей – дома ещё не построили. Мальчишек старших возрастов в деревне было только двое: наш Колька, с 1925 года и сосед справа Витька Исаенко, с 26 года. Зато потом, в 28, 29 и 30 годах дети посыпались как горох – десятка полтора, и, что удивительно, почти сплошь одни мальчишки, девчонок было только две: моя сестра Тоня и соседка Нина, полуслепая с рождения.
Самым удивительным было то, что кроме моего лучшего друга соседа Петьки Шахворостова и Кольки Дреева, остальных пацанов (Иванченко, Шахворостов, я, Черноляхов, Дреев, Демченко и др.) назвали Иванами, так что нам приходилось в основном обходиться не именами, а кличками. Моей кличкой была: «Трин», кстати так же меня кликали и позже во всех городах и весях армейского скитания нашей семьи и в Бирюлёве и даже в Тимирязевке.
Детвора. В деревне – раздолье и полная свобода. Все мальчишки и девчонки были босоногими и простоволосыми, из одежды у мальчишек только самострочные штаны на лямках через плечи и никаких нижних, редко у кого рубашка. До 8–9 лет носили штаны с ширинками спереди и сзади без пуговиц, чтобы c необходимыми отправлениями никаких проблем не возникало.
Помогали по хозяйству, купались в пруду сами и купали лошадей, катали обручи, играли в лапту и чурки. Особым удовольствием было гонять босиком по пыльной дороге, пыль – чернозёмная, взбитая копытами животных и железными обручами тележных колёс, глубокая по щиколотку, мягкая, тёплая. А по лугу любили бегать под летним дождём, приговаривая:
Дождик, дождик припусти,
Да на наши капусти!
Или —
Дождик, дождик перестань,
Я поду в Арастань!
Почему «капусти» и что это за Арастань – никто не знал, но нас это не смущало – было бы весело.
От постоянной беготни босиком подошвы ступней были твёрдые – особенно на пятках. Мозоль набивалась такой толщины, что зажжённая и сразу прижатая к пятке спичка пришкваривалась стоя, а боль не ощущалась. Мы даже устраивали соревнования: кто больше пришкварит спичек в свою пятку. Я смуглокож (от матери), поэтому мой загар был сильнее чем других пацанов, поэтому я выглядел как уголёк.