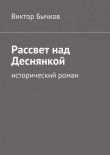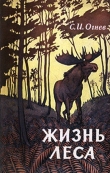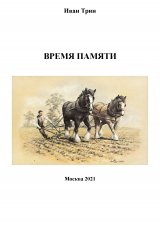
Текст книги "Бремя памяти"
Автор книги: Иван Тринченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Голод, тиф, мор. Войны: Германская и Гражданская, ополовинили мужское население деревень, а больше всего досталось самому детородному молодому поколению тех пагубных лет. Гражданская война вызвала жуткую разруху во власти, управлении, экономике, всей сложившейся социальной сфере, укладе жизни, быте.
Тяжесть разрухи усугублялась болезнями и голодом. Многие смертоносные болезни, такие как туберкулёз, испанка (грипп), оспа, тиф, сифилис носили характер эпидемий и буквально прореживали, а то и выкашивали целые посёлки, районы и области. Дедушка рассказывал, что в одну из тех военных зим, по приказу властей ему довелось свозить трупы тифозных из Поповки на станцию Россошь, где они десятками, а может быть и сотнями, лежали промороженными штабелями, а затем куда-то увозились.
Здравоохранения в то смутное время практически не существовало. Диагнозы были условными, на любую хворь, например, на дотоле неизвестный даже врачам грипп, наклеивался ярлык тифа. Не менее пагубной была чахотка – туберкулёз, коварство которой заключалось в том, что наибольшая доля смертности приходилась на молодых людей. Сифилис, в основном бытовой, сопровождал нужду, антисанитарию.
Я сам мальчишкой нередко встречал тогда людей среднего возраста с проваленными носами, которые перенесли сифилис (у одной тётки моего хуторского дружка на лице вместо кончика носа и ноздрей – зияла одна большая дырка). Лекарств от этой страшной болезни ещё не было. А оспа? Лица, изъеденные глубокими оспинами, также встречались довольно часто. Многих людей края скосили болезни.
Засушливое лето 1920-го года и сокращение посевов из-за недостатка рабочих рук в деревнях, в связи с мобилизациями трудоспособных мужиков в армии Гражданской войны, привели к дефициту продовольствия и не только в городах, но и в деревнях. Наиболее страшным был голод в зиму 1920–1921 г., когда неурожай усугубился жестоким изъятием зерна вооружёнными отрядами, которые должны были обеспечить план развёрстки в 11,5 млн пудов. У людей не осталось никаких запасов. Начался не просто голод, а настоящий мор. Народ вымирал целыми семьями, а то и деревнями. Картина была ужасная. Бабушка рассказывала, что она видела своими глазами, как ранней весной обессилившие люди села шли, а кто не мог то и ползли, на зеленя (так называются вышедшие из-под снега всходы озимых) и ели эту траву. Некоторые там и остались. По разным источникам голод унёс от 4 до 5 млн. жизней.
В страшную зиму другого голода 1932–1933 годов, вызванного неурожаем и преступным усердием российских и украинских республиканских и областных властей. (жертв было 2–4 млн человек.). Хлеб был выкачан насильственными продотрядами властей. Дедушка, рискуя расстрелом, как и в предыдущий голод, спас семью тем, что ему удалось прятать от изъятия два мешка зерна.
Глава четвёртая. Земля
Многие отвоевавшие мужики, и мои дедушки Сергей и Иван в их числе, с окончанием гражданской войны надеялись, что новая власть выполнит, главное для них, обещание: «Землю крестьянам». Крестьяне, конечно, понятия не имели о национализации, а лозунги того бурного времени воспринимали буквально. Скорее всего, это можно объяснить тем, что основная масса крестьянства, а это тогда – 80% всего населения России, была не только политически, но и просто неграмотна. Страна жила практически без средств массовой информации, газеты до села почти не доходили, радио ещё не существовало.
Это было время митингов, время коротких всем понятных лозунгов, таких как: «Нет войне!», «Мир народам!», «Фабрики рабочим, Земля крестьянам!», «Долой фабрикантов и помещиков!», «Вся власть советам!», которыми ловко жонглировали партийные ораторы-пропагандисты. Существо аграрной политики наши крестьяне поняли, когда они после революции и гражданской войны остались на тех же наделах.
Вместе с тем молодая советская власть, скорее всего региональная или даже местная, после провозглашения НЭПа, где-то в 21 или 22 году принялась проводить земельную реформу, по сути, реанимировав столыпинскую. Что касается россошанских сёл, то конкретно для малоземельных крестьян, в ковыльной девственной степи на землях конного завода, принадлежащего до революции какому-то помещику, были нарезаны участки для нескольких хуторов, в том числе Субботин, где землю получил дед Сергей и Ясная Поляна – дед Иван.
Под хуторами понимались небольшие деревни, где усадьбы крестьян – единоличников (семейных фермеров) располагались бы недалеко от их земельных наделов и в то же время находились бы рядом с усадьбами других хуторян. Иными словами, чтобы не было территориальной разобщённости. Это соответствовало и русским национальным традициям.
Русские люди всегда селились деревнями для более успешного противостояния суровому климату, совместной обороны от врагов и хищников, взаимопомощи в различных хозяйственных делах, строительства общественных объектов. Например, в нашей местности невозможно было каждому копать себе колодец (вода нередко на глубине 20–25 м, а то и более), или построить пруд для сбора талой воды нужной для поения скота, стирки и купания ребятишек. Кроме того, необходимо и простое общение и соседские отношения.
При выходе наших крестьян на хутора подушные наделы были довольно значительными, если мне не изменяет память, дедушка говорил о девяти гектарах, таким образом, наша семья получила в бессрочную аренду более 50 га. Семьям выдавались небольшие подъёмные и ссуды на обустройство на новом месте. Но самым важным было освобождение от налогов на четыре года.
Мужики вгрызлись в долгожданную землю. Работали не жалея ни сил, ни времени. Доставалось не только мужчинам, но и женщинам. И вот за каких-то четыре-пять лет, Только на лошадях и волах, да и своими мозолистыми руками, не жалея никаких сил – взодрали целину. (О таких русских кряжах-мужиках писал Андрей Платонов в своём «Котловане» и, что интересно, прообразом платоновского Чевенгура была именно Россошь, как это установила экспедиция журналистов, возглавляемая Василием Головановым в 1988 году).
Труд наших крестьян был вознаграждён хорошими урожаями. Появились деньги, начали отстраиваться, однако первые годы строили не жилье, а тока и амбары для обработки и сохранения зерна, хотя жили с семьями в плетённых из лозы мазанках или даже в землянках. Я первый из детей нашей семьи родился в только что выстроенном доме, в то время как мой старший брат – в землянке, а сестра – в поле, под копной сена.
С каждым годом осваивалось всё больше земли и обрабатывать её становилось всё труднее, поэтому стали появляться небольшие, по три – четыре хозяина, объединения – ТОЗ-ы (товарищества по обработке земли, тогда приветствуемые властями – прообраз производственно-коммерческих партнёрств). Дедушка Сергей и два его соседа тоже организовали ТОЗ, сообща купили трактор Фордзон, «аглицкую» молотилку, зерносортировку, построили общий ток, арендовали ещё земли, в пиковые периоды нанимали одного сезонного рабочего. Мой отец стал первым в хуторе трактористом-самоучкой. Большое дело было сделано.
Дедушка говорил, что если бы власть в то время обладала достаточным здравомыслием и содействовала бы развитию подобного ведения сельского хозяйства, с продуманной его кооперацией, Россия завалила бы Европу хлебом, испытывающую тогда острый недостаток продовольствия, что помогло бы быстрее, и без суровых мер, восстановить промышленность, поднять всю экономику и дать импульс к быстрому развитию страны.
Здесь уместно сделать небольшое отступление. По инициативе Н. Хрущёва со средины пятидесятых, почти на десять лет вся страна была поднята на освоение целинных земель в Западной Сибири и Казахстане. Туда были брошены огромные финансовые, материальные и человеческие ресурсы. Сотни тысяч мощных тракторов, комбайнов, плугов и другой техники. Результаты во многом печально известны, как в части сборов хлеба, так и особенно в части экологии.
А тут, в нашей Россошанской степи, стоило лишь дать крестьянам землю, как они, практически без сколько ни будь значительной помощи государства, без шума и гама, сами упорным трудом плугами на конной и воловьей тяге подняли целину и успешно её освоили в короткие сроки. Жадность до земли у крестьян была такой силы, что многие мужики тяжёлой работой подорвали здоровье. Помню двух стариков из нашего хутора, носивших между ног дощечки на лямках для поддержания грыж.
Глава пятая. Ода русскому крестьянину
Мне не терпится пропеть оду становому хребту российского народа – крестьянству, оболганному и оплёванному, как заезжими западными, так и нашими доморощенными писаками. Они наплодили множество мифов о нём. Русский мужик де тёмен, коварен, ленив, нетрудолюбив, никак неспособен выдавить из себя раба и т. д.
Однако, кто же, как не русский крестьянин, освоил территорию такой огромной страны, расположенной в зоне с суровыми природными условиями ведения сельского хозяйства, с зимой, которой не знает ни одна страна Западной Европы! Фактически он-то эту страну создал и заселил.
Не обладая такими качествами русского характера, как трудолюбие, упорство, требовательность к себе, чувство локтя и взаимопомощь, сделать этого было бы невозможно. Кто, как не русское крестьянство, своими жизненными соками тысячу лет вскармливало, содержало и защищало от врагов великое Государство Российское со всей его структурой, элитой и прочей челядью. Немка по рождению, Екатерина Великая, когда познала русский народ, с огромным уважением и благодарностью отозвалась о русском крестьянине в своём Антидоте. Известны слова из этого её сочинения о том, как упорно и творчески работает русский крестьянин, с каким искусством и старанием он возделывает пашню и добывает пропитание не только для себя, но и кормит и одевает всю страну.
К слову Крестьянин. Русское сельское сообщество развивалось веками в зависимости от форм и размеров дани своим или чужим дружинам и властителям. Сначала это были кровно-родственные, затем соседские и сельские общины. Землепашцы были свободными и назывались людьми, сябрами, но в 6–7 веках, с развитием частного землевладения и усиления гнёта барских поборов князей, князьков и их челяди, постепенно стало распространяться личное закабаление, в основном долговое.
В 9 – 14 веках, с образованием и укреплением княжеств, закабаление, в том числе и силой, возросло, а в некоторых местах уже носило массовый характер. Это было связано с развитием высочайшего (княжеского, затем и царского) жалования земли с крепостью служилым людям, которых затем именовали дворянами и помещиками, с дарованными им властными полномочиями.
Больше того, впоследствии помещикам была разрешена была купля-продажа земли в собственность (крепость) вместе с деревнями и общинами. Подвластные люди уже стали называться холопами, смердами и крестьянами. Официально крепость крестьян была узаконена Судебниками 1497 и 1550 г. г. Интересно отметить, что крепость крестьян нужна была и для узаконивания их набора в войско. Кроме этого, с развитием торговли и городов, ростом княжеской, а впоследствии и царской госструктур и их содержания, возросла и стоимость денег, а почти единственным источником которых были крестьянские подати обеспеченные таким инструментом, как крепость.
Авторы толковых словарей русского языка считают, что слово крестьянин произошло от слова христианин, но я вижу здесь явный разрыв логики. Почему христианами названо самое низкое (по тем временам) сословие, которое, несмотря на жестокое преследование церковью, дольше всех остальных, веками державшееся за язычество, а не те, значительно ранее продвинутые к христианству городские сословия: мещанское, купеческое, дворянское или, тем более, духовное?
С определённой долей уверенности можно предположить также, что в его основе всё-таки могло быть слово «крест» в своём древнем значении (далеко дохристианском), выражавшем тяготу, наказание, обязанность, зависимость, защиту от бед, символ духа высших сил и усопших предков и т. д. – "тяжёл крест, да надо несть".
Ведь мы не имеем письменных источников, тем более дохристианских, в которых описывался бы быт и положение простого люда. Все они говорят нам исключительно о предводителях племён, князьях, царях, их жизни, быте, пиршествах, подвигах и поражениях, а вот о простом люде, тяжёлым трудом добывающего хлеб для всего общества, почти ни слова. И не от тяжести ли этого креста и сидит в генах русского мужика, крестьянина, его бесплотный образ – нужда безысходная.
Не исключено, что слово крестьянин на Руси уже было и раньше сплошного охрестианивания земледельцев. Вполне может быть, что в основу слова «крестьянине» легло слово «крепость» – обязанность и понуждение платить дань. Поэтому изначально оно могло звучать как «крепостные» а потом и «крепостьяне», что отражало их действительное правовое и имущественное состояние.
С ветром повсеместного, подчас насильственного утверждения христианства, это изначальное слово "крепостьяне", стараниями монастырских дьячков или, писарей – практически единственных на Руси грамотеев той эпохи, было преобразовано в благостное им слово «крестьяне» близкое по звучанию слову «христиане». Это слово и перешло в официальный, а после и в разговорный языки. Не исключено также, что к этому приложили руку служители церкви. Не знаем. К этому следует добавить, что ни в одном из славянских языков не было и нет в названии этого слова обращения к христианству, как и не было такой свирепой крепости как у нас.
Мифы. Несогласие с несправедливостью своего закрепощённого положения естественно выражалось российским крестьянином в нежелании подобострастно работать, бесплатно гнуть хребет на барина. Вероятно поэтому и, скорее всего, с жалоб помещиков, старавшихся перед заезжими писаками – путешественниками оправдать своё нерадение и неспособность организовать у себя эффективное хозяйство, и пошёл гулять по свету миф о русской лени.
Крестьянство, – хребет русского народа – с его здравым смыслом, опытом, сметливостью, вековыми традициями и нравственными устоями, независимо от того, что до него не доходила грамотность, явилось животворящим источником для развития высоких идей гуманизма. Они ярко, проявились в русской литературе, искусстве и науке, получили признание во всём мире. И уместно ли корить его за это «темнотой»?
Относительно расхожего мифа о рабстве, основанного на фразе А. П. Чехова, то это – ни что иное, как явная и злобная спекуляция случайно оброненным словом, кстати, вырванном из контекста разговора. По свидетельству литературоведов нет ни одной строчки во всём литературном наследстве А. П. Чехова, где бы он говорил о рабской натуре русского человека.
Хорошо известно, что сквозь всю историю России проходит череда многочисленных волнений, бунтов и восстаний крестьян, начиная с восстаний Болотникова, Пугачёва, Разина и множества других, кончая восстанием тамбовских крестьян (Антоновщина) при молодой советской власти в начале двадцатых годов, (тогда крестьянские восстания полыхали и во многих других губерниях). Причины всех этих восстаний гнездились никак не в рабской покорности, а в прирождённом стремлении русского человека к свободе и справедливости (правда-матушка) и, как это ни странно, – в его доверчивости и беспримерной терпеливости.
А если говорить о рабстве, при татаро-монгольском иге, то надо начинать с незнающей пределов жестокости, дикой «тьмы тьмущей», многотысячной орды кочевников, волнами нападавших на нашу страну, выжигавших и опустошавших целые местности и края, вырезавших поголовно всё население, включая младенцев, только за то, что русские не могли мириться с неволей.
В силу этого и надо понимать, почему это иго стало возможным. При нём значительная часть населения Руси была истреблена. По данным историка – демографа, профессора А. И. Корешкина, к началу завоевания Руси оно составляло 60 млн чел., а к концу – менее половины от этого. И это за счёт, прежде всего, мужчин, что подорвало саму восстановительную способность нации. Во многих местах и подниматься-то было просто некому. И всё-таки жажда свободы русского народа привела к подъёму, – иго было сброшено.
И если сейчас при каждом удобном случае повторяются слова Пушкина о «безрассудном и беспощадном русском бунте», то никто и нигде не упоминает о свирепой жестокости подавления восстаний, с помощью чего власть и загоняла русское крестьянство обратно в крепость.
Это не вина крестьян, а их беда, – плата за сам характер крестьянского труда. Тяжесть его и повседневность неотрывно держала их на своём клочке земли, являлась причиной их социальной разобщённости и слабой организованности, что никак не могло содействовать действенному противостоянию и совместной борьбы за свои человеческие права, не говоря о возможности создания структур собственной власти.
Не последнюю роль при этом сыграли и такие, по сути положительные, а на деле для него же и губительные черты характера русского крестьянина, как долготерпение и смирение. Не хочу бросать камень, но вот ведь «смирение» является одним из главных постулатов православия, а ведь оно – синоним покорности, терпения, послушания и тем самым обслуживало власть имущих. Это явилось одной из причин, почему на Руси испокон веков власть, питаясь соками народа, не сильно обременяла себя заботами о нём.
Уместно отметить, что некоторые историки считают, что даже Пётр Великий в своих преобразованиях обладал лишь подражательным гением, а свою новую Россию строил на жесточайшей эксплуатации народа. Сохранил и даже ещё больше легализовал крепостное право, загнал в крепость даже заводских рабочих. Ужесточение было до такой степени, что крестьяне и впрямь стали рабами – «говорящей скотиной», как тогда нередко выражались в кругах господ.
Да и в более просвещённые времена, власть не упускала случая лицемерно выдавать свои корыстные намерения и дела за чаяния о благе народа. Кстати, официально закрепощение крестьян в России, длилось всего немногим более трёх с половиной веков, и мало кто знает, по крайней мере об этом никто не вспоминает, что в Европе оно, и не такое как у нас суровое, чуть не на тысячу лет раньше началось и закончилось не так уж намного раньше, чем в России. По некоторым данным, во Франции в 1848, в Пруссии в 1811, а в Австрии в 1850 году. Правда там крестьянин как и другие граждане страны был защищён от физических истязаний помещиками.
Вся история крестьянства, и не только русского, говорит о том, что во все времена и у всех народов власть имущие всегда считали, что плоды его труда ему самому не принадлежат, поэтому не стеснялись утверждать это положение законодательно и силой оружия. И такое отношение к землепашцу имеет глубокие корни в истории. Ещё до Христа. Моисей во Второзаконии сказал: "Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь – притесняем и мучим во все дни". Известны также слова кардинала Ришелье – «…Народ – мул. Его надо нагружать и нагружать, Но не свыше меры, иначе он весь груз сбросит». Он разделял мнение одного из известных тогда аристократов, что: «народ – навоз».
(И в наше время ещё не перевелись подобные мерзавцы. В самые лихие 90-е годы пошла гулять фраза, брошенная одним из них: – "Пипел (народ) всё схавает", то есть молча проглотит любой обман. А другие, не менее подлые негодяи, сами в одночасье поднявшиеся из грязи в князи, презрительно называют народ "биомассой", "офисным планктоном" и пр.).
Отличительной особенностью российского народа была любовь к природе к своим родным местам и к России, как большой Родине. Наверно нет в мире народа, в фольклоре которого не было бы так много нежных, истинно эстетических и лирических образов, взятых из российской природы. Это, например: берёза, она и белая, и кудрявая, и плакучая, и просто берёзонька. Это и ласковые: – ивушка-пушистая и травушка-муравушка, а если дуб – то развесистый, могучий. Лиса – хитрая краса, лисичка-сестричка. Медведь – Михайло Потапыч, уважаемый хозяин леса. Волк – серый разбойник. Реки: Волга – матушка, Дон – тихий, Тихая сосна, Девица, Маглуша, Сестра, Муравлянка, Березина, Березайка и др.
У русского человека никогда в истории не было хищнического подхода к использованию даров природы. Он жил в гармонии с ней и вплоть до начала двадцатого века, сумел сохранить уникальную её красоту почти в девственной чистоте (например, в Англии, да и во многих других странах леса давным-давно были сведены почти полностью). Не ошибусь, если скажу, что ни у какого иного народа нет такого множества истинно народных песен о Родине. А как всегда поднимался русский народ на защиту своей Родины против иноземных захватчиков? Примеров тому много.
Конечно это всего лишь скромные штрихи к портрету русского народа, сделавшего обширный край Евразии страной под славным именем Русь. Под этим словом я понимаю все три единородных народа: русских украинцев и белорусов, как и других народностей, многие века живших в едином государстве – Русь, Россия. Оба слова женского животворного рода! Над совершенствованием этого портрета, филигранной отработкой каждой его чёрточки, плодотворно работали великие мастера, такие как: Г. Державин, А. Пушкин, Н. Гоголь, К. Аксаков, И. Тургенев, Л. Толстой, Н. Некрасов, Н. Лесков, Ф. Достоевский, С. Есенин, М. Шолохов, Л. Гумилёв, А.Твардовский, В. Астахов, В. Распутин, В. Шукшин и многие другие.