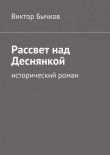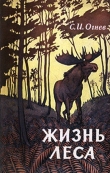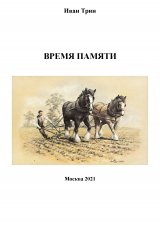
Текст книги "Бремя памяти"
Автор книги: Иван Тринченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
И. В. Тринченко
Бремя памяти
Информация от издательства
УДК 82-94
ББК 63.3(2)
Т67
Тринченко Иван Васильевич
Бремя памяти / И. В. Тринченко. – М.: Де'Либри, 2021.
ISBN 978-5-4491-1111-1
В книге автор рисует яркие картины долгой жизни, тесно связанной с историей страны. Картины военных лет, будни учебы и работы, судьбы людей в непростое послевоенное время, в эпоху перестройки.
© Тринченко И. В., 2021
© Де'Либри, 2021
* * *
БРЕМЯ ПАМЯТИ моей
Берега, берега. Берег этот и тот,
Между ними река моей жизни,
Между ними река моей жизни течёт,
От рожденья течёт и до тризны.
А на том берегу…
(Ю. Рыбчинский)
Предисловие
Так вот, о том, что было на том, самом ясном берегу моей жизни, я и веду своё повествование. Но прежде.
Где-то я прочитал или услышал фразу: «Старость – это возраст, когда оживают воспоминания детства». А ведь и правда. Последнее время я все чаще стал ловить себя на этом. Что бы я ни делал, то одна то другая картина моей прошлой жизни встают передо мной, и я начинаю мысленно перебирать те, теперь уже далёкие, события и, странно, они начинают обрастать давно не вспоминаемыми, подчас интересными и дорогими моему сердцу деталями. Иногда переосмысливаю события и переживания тех лет, увлекаюсь, чувствую, что это превращается в какую-то игру, хочу отвязаться, стараюсь переключить внимание на что-нибудь другое, но картины прошлого встают в моей памяти вновь и вновь. Подумал, что лучшим лекарством может стать письмо. Попробую написать, сброшу с себя этот груз. Может быть, небольшой опыт моей жизни окажется интересным моим внукам, а может быть и их детям, да и другим людям, ведь с тех пор, как я стал помнить, прожито более восьми десятков лет. Надеюсь также, что эти записки помогут некоторым людям старшего возраста всколыхнуть и их собственные воспоминания и поделиться их теплотой с другими.
В последнее время широко бытует высказывание, что прошлое ушло в небытие, и надо, не оглядываясь на него, жить только в настоящем. «Живи одним днём». Я рассматриваю это, как некую психологическую установку на умаление личности, лишение способности и права понимать и оценивать опыт прошлого, чтобы опираясь на него уверенно жить в настоящем и смело смотреть в будущее. Иными словами – опыт прошлого не исчезает, а накапливается и помогает в новой жизни. И совсем другое дело, как человек распорядится этим богатством.
Сразу скажу: в этих записках я не претендую на оригинальность оценок перемен и событий с исторической, общественно-политической, идеологической или какой-либо иной «вумной» позиции. Я излагаю только мои личные наблюдения, мироощущения, взгляды и мнения и надеюсь. что они найдут понимание многих читателей родом из советского периода, да и начала либерального. В повествовании нет ни одного вымышленного факта или события, (это мой принцип. Взгляды, мнения и суждения – у каждого – свои). Иллюстрациями к тем или иным разделам повествования, кроме фотографий, служат краткие зарисовки – «крупицы памяти».
Глава первая. Мой век
Полагаю, что по насыщенности грандиозными переменами и событиями, не было в истории нашей страны такого периода, как годы моей жизни. На них пришлись не просто события, а настоящие ураганы событий и перемен, такие как:
– полный размах строительства социализма, невзирая ни на какие трудности и жертвы, "по-нашенски!", с охватом всех сфер жизни народа и государства в целом;
– почти сплошная национализация всей экономики и индустриализация огромной страны, до той поры аграрной и индустриально отсталой, плюс коллективизация сельском хозяйстве обеспечили восстановление экономики и достичь небывалых темпов роста;
– тяжелейшая Отечественная Война с фашистской Германией, жесточайше выкосившая добрую часть дееспособного, большей частью мужского, населения страны и оставившая огромную часть СССР в руинах;
– Победа в войне, быстрое восстановление страны и вывод её на первые роли среди стран мира, в основном за счёт собственных ресурсов, тяжелейшего и напряжённого труда, низкого уровня жизни населения;
– загнивание и крах советской политической системы, разложившиеся лидеры которой не смогли разглядеть надвигавшийся кризис. Это привело к отставанию в научной, технической и технологической деятельности, что явилось одной из важных причин застоя в экономике;
– развал СССР и быстрое разграбление страны кучкой алчных безнравственных дельцов, руководимых американскими "советниками" и неестественно быстрое создание (!) «новорусской» далёкой от народа элиты и обширной бюрократии, которые распахнули весь внутренний рынок страны, обрушив промышленность и сельское хозяйство. Подавляющая масса населения обнищала;
– посадка страны на иглы: с одной стороны – экспорта сырьевых ресурсов, с другой – импорта интеллекта (при утечке своего) в виде необходимых новых технологий. К этому надо добавить и огромный дефицит инвестиций в производственный сектор, во многом из-за пропитанной ядом иглы непроизводственного капитала, занимающего большую долю финансов страны;
– начало демографической катастрофы, несущей угрозу ослабления России и русской нации: (беспримерное расслоение населения по уровню материального обеспечения и неудержимая убыль населения, эмиграция интеллекта и вынужденная иммиграция ручного труда),
– явное подгнивание корней русской духовности, её – истории и культуры – усердием вечно оппозиционной "гнилой интеллигенции", названной так в своё время (1881 г.) верховным руководителем России. Оказалось, что она вечна, так как обладает упорным свойством искусно подменять истины ложью, с целью обыдления народа взращиванием эрзац культуры. Это уже похоже на ползучую диверсию национального сознания, то есть – ослабление осознания населением страны своей принадлежности к единому народу, превращению его в суперпрогматичное, но бездуховное население «иванов, непомнящих родства» данной территории, уже не страны. Под угрозу поставлена сама способность русского народа к самосохранению. Неужели прав был А. И. Солженицын, обеспокоившись тем, что русский народ «… духовно иссяк, надорвался»?)
Это всего лишь вехи – части истории страны величиной в мой век, и моё их восприятие. Это и показатель стремительного бега времени.
Бег времени. Родился я в то время, когда научно-технический прогресс жизни на планете, ещё только поднимался с колен. Затем он вдруг встал, Было пошёл, побежал и неудержимо стремительно помчался, обгоняя все времена, включая и моё. Летит он, меняя ускорения – от гипочерепашьей, до алгебраической, а сейчас, в двадцать первом веке. даже до какой-то невероятной, но уж явно гиперсумасшедшей степени.
Легко ли подумать, но я ещё застал остатки уклада жизни, который до того веками почти не изменялся. Тогда жизнь текла медленно. В большинстве своём люди столетиями, из поколения в поколение обитали в одной и той же местности, одних и тех же условиях труда и быта. Они жили в таких же жилищах, занимались таким же трудом, как и их предки. Были те же тяготы, заботы и чаяния. Их окружали те же предметы и вещи, представления, поверья, мораль, обычаи и культура, что и их родителей и прародителей.
Чуть раньше моего появления на свет, а во многом и на моих глазах, основная часть русских людей впервые узнала, что такое: электрический свет и электроэнергия, радио, проводной телефон, автомобиль, самолёт, бытовой фотоаппарат и пр. Затем очень быстро пошло и поехало: – центральное отопление, горячая вода в доме, кино, телевидение, спутник, беспроводной телефон и… до космоса, компьютеров, цифровых технологий, клонирования и создания (не стесняясь Бога!) генетически модифицированных растений и животных, и продуктов из них. Становятся явью успехи в робототехнике и в работах по искусственному интеллекту, а биоконструкторы уже добираются даже до человека. Огромные перемены произошли в политической, социальной и культурной сферах.
И это всё, конечно же, неоспоримый и неудержимый процесс развития человеческой цивилизации на этой планете. Но, кто может сказать что-либо определённое о его конечной цели? Очень метко охарактеризовал этот бег, безвременно ушедший от нас, известный журналист Василий Голованов, назвав его апокалиптически устремлённым.
При этом необходимо учитывать и то, что в мире полным ходом, с судорожным нетерпением пошёл процесс глобализации, цель которой– политическое и экономическое подчинение почти всех стран мира и концентрация мировых жизненных ресурсов в угоду процветания одной супердержавы, населённой одним миллиардом супер людей. А что с остальными 8 или 9-ю миллиардами? Определённые круги «Избранных» пугают и пришествием «Четвёртой революции», чреватой уничтожением всей человеческой цивилизации, созданной тысячами тысяч поколений всех народов планеты.
Всё! Не будем о мрачном. Расскажу о моём родном крае Южно-русской степи и истоков её заселения.
Глава вторая. Немного о корнях моего рода
Никакой «героической» истории, насколько мне известно, мой род не имеет. Вместе с тем, в нем не было и нет и никаких темных пятен или недостойных личностей. Родовой знак – Фамилия с окончанием на «о» – явно украинская, уменьшительно-ласкательная форма, хотя она присутствует и в русском языке: сердечко, личико, плечико, дитятко и др. Смысловое же значение фамилии, если не заглядывать в нумеро-, астро– и прочие логии, могло означать либо выходца из болгарского города Трин, либо от мифической трын-травы, дающей безрассудную смелость. Скорее всего. это лишь изменение звука буквы «и». В украинском, это – «ы», а в русском – «и». А может быть оно связано с чем-то более простым, сельским, например музыкальным – трогать струны, бренчать, тренькать. Так или иначе, спасибо дальнему предку, давшему это имя моему роду. Может, он получил это прозвище, будучи кобзарём или гусляром. Тренькал себе напев какой-либо, теперь уж забытой, мелодии или баллады.
Откуда пришли. История возникновения поселений в степной зоне юга Воронежской области России уходит вглубь веков. Тут следует сделать небольшое отступление. Южно-Русская Степь – это широкая безлесная полоса земель, простирающаяся между Уралом и Каспийским морем на Востоке и между лесистой Средне-Русской Возвышенностью и Черным морем на Западе. Это был естественный проход от далёкой Азии до Карпат, которым пользовались жаркие, иссушающие ветры закаспийских пустынь, отодвинувшие леса на Север.
И не только ветры и бури гуляли здесь. Ещё с доскифских времён этот проход был одним из главных путей Великого переселения народов. Здесь прокатывались волны ариев, готов и многих других, давших начала образованию славянских, финно-угорских, германских племён, а затем хлынули многочисленные орды печенегов, половцев, татар, монгол, веками разорявших русские земли. В память об этих событиях остались в степи многочисленные курганы и каменные бабы да широко гуляющие в южно-русской и украинской крови, гены смуглости и черноокости.
Курганы, это насыпные, то есть рукотворные, холмы в степи. Часть из них, думаю, что самые древние, строились как часть ритуала похорон вождей и военачальников древних племён, когда в течение многих дней тысячи их верноподданных, отдавая дань уважения и честь покойному вождю, привозили и приносили землю торбами и шапками из всех его владений и ссыпали на могилу владыки. При этом размер и, особенно, высота кургана должны были напоминать потомкам, да и врагам, о его могуществе. Вместе с вождём нередко клали в могилу, в качестве жертвы любимых: жену, слуг, лошадь и обязательно оружие и драгоценности, (из-за чего все курганы, ещё с древних времён, разрыты и разграблены).
Были и другие курганы, которые строились в оборонительных целях, как сигнальные маяки. Насыпались они за многие километры друг от друга, с таким расчётом, чтобы с вершины одного из них из-за горизонта была видна только вершина другого и так вдоль всей цепи курганов: от стороны предполагаемых вражеских набегов до расположения своих войск или поселений.
В случае нападения, воины рубежного сторожевого поста, первые увидевшие врага, зажигали на своём кургане кучу соломы и хвороста с чем-либо дымным, например, зелёной травой. Завидев дым, то же делали стражи на втором посту и так далее по всей их цепи. Таким образом, сигнал о нападении доходил за считанные минуты, покрывая расстояние в сотни, если не в тысячи километров, при этом в той «телеграмме» было только одно слово – враг!
Один из курганов – Товста Могила – стоит у города Россошь, вблизи моего родного хутора Субботин. Так вот, в 1971 году археологи обследовали курган одного из скифских царей в районе Днепропетровска, в котором нашли знаменитую пектораль – широкое шейное украшение из золота, на котором с филигранным мастерством изображены сцены охоты скифов на диких зверей. При этом, мастерски, с фотографической точностью, переданы образы животных в движении – видно, как играет их каждый мускул. Так же рельефно изваяны лица воинов – совсем не отличающиеся от современных. Так вот, тот древний курган назывался – Товста Могила!!! Об этом факте упоминается в книге «Триста веков искусства», Москва, 1976 г.
Совершенно не исключено, что первые переселенцы из тех мест, встретившие подобный курган на новом месте поселения (вблизи станицы или слободы Россошь), назвали здешний курган именем кургана своей далёкой родины у Днепровских порогов.
Активное заселение этой местности происходило в 16–17 веках в результате бегства крестьян после захвата Украины Польшей, что вызвало множество восстаний украинских крестьян, выразителем чаяний которых и их защитником было войско Запорожской Сечи. Особенно большой размах переселения украинцев в пределы Московии приобрёл после тяжёлого поражения запорожских казаков в ожесточённой битве с поляками под Берестечком в 1651 году.
Тысячи казаков, десятки казацких куреней (полков), двинулись с семьями и имуществом на восток. Московские власти с радостью приняли под своё крыло переселенцев, отвели им обширные земли, разрешили автономию и на первых порах сохранили казацкое военное устройство. Ими были основаны Харьков, Лебедин, Ахтырка и другие города и множество вольных поселений – слобод, частично и на территории нынешних Белгородской, Курской и Воронежской областей России. Весь этот край тогда получил название Слободская Украина, а немного позднее – Малороссия. Не только казаков, но и простых крестьян в 16 веке уходить на новые, свободные земли российского юга, вынуждала политика Польши, особенно после введения в 1588 году закона о преимущественном праве польской шляхты на владение землёй на порабощённой Украине.
В БЭС отмечено, что Россошь была основана казаками Острогожского полка в средине 17-го века, как слобода. (В поимённом списке полка я встретил и свою фамилию). Наверно и расположенная невдалеке наша слобода Поповка была основана тогда же или немного позднее. Но может быть некоторые поселения стали появляться и в царствование Екатерины Второй в 18-м столетии, при переселении части запорожского казачества, с сёлами его формирующими, на Кубань горячий кавказский форпост России. Возможно, какие-то из них растерялись по столь длинному пути и осели в этой местности.
Так или иначе, переселенцы в эти края принесли с собой и сохранили (по крайней мере, до средины 20 века) украинский (правильнее было бы сказать: южнорусский), язык и особенно фольклор, насыщенный казацкой тематикой. Характерные черты быта и фольклора переселенцев: утопающие в вишнёвых садах белостенные хаты-мазанки под соломенной крышей, еда – борщ, галушки, вареники, кулеш и, конечно же, сало.
Казацкие корни наших переселенцев наиболее ярко сохранились в старинных песнях, большинство которых о любви и разлуке, верности, злой доле покинутой или обманутой девушки. Персонажи почти всех песен казаки и казачки. (Песни: Ой на гори, тай жнецы жнуть…, Роспрягайте хлопцы коней…, На вгороди верба рясна…, Стоить гора высокая…, Ой ты Галю, Галя молодая…, Ой у лузи…., Копав, копав криниченьку… и др.). Песни эти бережно сохранялись изустно во многих поколениях наших предков.
Во время моего детства они ещё широко (повсеместно) и часто пелись нашими колхозниками на работах в поле и по праздникам, на вечерних гулянках молодёжи, которые у нас назывались «Улица», и в домах, ведь семьи были большими, подчас певцов хватало на целый хор. Пелись красиво, на разные голоса. Чётко выделялись две, а иногда и три(!) партии. Особенно красиво, и даже захватывающе, звучало исполнение песен на два голоса с подголоском. Чудо! И всё это – без какой бы то ни было учёбы пению, исключительно на основе природного понимания гармонии звуков нашими селянами. Это у них в генах.
Мне памятны тихие летние вечера, когда работники группами возвращаются с полей пешком ли, на повозках ли, но обязательно с песнями. Причём, вечером в тишине степи песня слышится издалека, когда певцов ещё и не видно. Я стою на крыльце и заворожённо слушаю, а бабушка рядом с удовольствием внимает и замечает: «Это Фроська верха выводит! А вторит Оксанка», или что-либо ещё в таком же роде.
К большому сожалению, почти всё это накопленное многими поколениями духовное богатство, в катастрофически короткий срок, за время Отечественной войны и каких нибудь десять-пятнадцать лет после неё, стало вымирать, а многие из его элементов уже исчезли полностью. Последний раз я посетил родную деревню где-то в начале шестидесятых. И не узнал. Лето, с полей люди возвращаются молча, лица усталые, хмурые. Слышен только топот копыт да грохот и скрип телег. Вечера безмолвные. Где молодёжь? Где та шумная «Улица»? Где весёлый задорный перепев частушек под балалайку или гармошку до полуночи, а частенько и до утренней зари? Где задушевные песни? – Мёртвая тишина и лишь тонкий звон цикад. Грустно.
И – больше того. Недавно на ярмарке мёда в Москве я встретил одного из россошанских пасечников, который рассказал мне, что моего родного хутора Субботина уже практически нет, люди его покинули в поисках заработка. А ведь это моя малая Родина. Осталась она теперь только в воспоминаниях. Жаль.
Глава третья. Предки мои
Во время моего детства в слободах и хуторах края ещё сохранились черты характера, быта и нравственности переселенцев. Например, в детстве я никогда не слышал, чтобы дедушка хотя бы раз ругнулся, а по его рассказам впервые он сам услышал настоящий мат только в царской армии. Его поражало, что в русских деревнях дети разговаривают со взрослыми на «ты» и, больше того, ругаются матом. Уважение к старшим у нас было, как что-то само собой разумеющимся.
Например, если кто-либо спросит меня о дедушке в его отсутствие, я отвечал: – «Их нет дома, они уехали», сказать иначе не получалось.

Фото. Крайний справа – дедушка Сергей Давыдович Тринченко, слева – дедушка по матери Иван Савельевич Горбанёв, в центре – унтер.
Со временем в нашем степном крае образовался южнорусский говор с открытым «а» и мягким «г».
Вера так же претерпевала испытания своей крепости. Смешение народов способствовало проникновению и процветанию различных сект. Дедушка часто упоминал о староверах, каких-то пятидесятниках, субботниках, хлыстах.
К слову. Недавно мы с Лидой были на экскурсии в московском Андреевском монастыре, что на берегу Москвы реки, напротив Лужников, принимавший нас монах-экскурсовод рассказал, что субботники это даже не секта христианства, а русские люди, исповедующие некое подобие иудаизма, считающие главной книгой Ветхий Завет и не признающие Христа и Евангелия.
Думаю, что субботники это остатки, маленькие островки славян, ещё до христианства на Руси, принявших иудаизм исчезнувшей Хазарии. Ещё в относительно недавно, в 20 веке субботники ещё существовали. Этот вид вероисповедания среди русских, был широко распространён в Тамбовской и Воронежской губерниях.
Есть сведения о том, что в двадцатых годах прошлого столетия многие из субботников уехали в Палестину и стали основателями первых кибуцев на «Земле обетованной». Это натолкнуло меня на мысль о том, что может быть наш хутор Субботин был организован кем-то из субботников. Все наши поселенцы, как и предки нашего рода (это точно), были православными. У нас в красном углу всегда висела, красиво убранная вышитыми рушниками, икона Божьей Матери и под ней, стараниями бабушки, всегда светился маленький огонёк лампадки. Дедушка Сергей потерял веру в Бога во время Германской войны. Он рассказывал, как к ним в окопы и землянку часто приходил молодой прапорщик и вёл разные беседы о жизни и войне. Однажды стал рассказывать о религии и произнёс фразу о том, что Бога нет. При этих словах с дедом случился тихий шок, он замер и с секунды на секунду ждал, что этот прапорщик тут же провалится сквозь землю, но тот сидел, как ни в чём не бывало, и продолжал беседу. Этот случай и послужил первой искоркой сомнений, заставивших дедушку впоследствии отказаться от веры. Вместе с тем, он всю жизнь твёрдо следовал христианским заповедям.
Бабушка же Анна до конца жизни искренне верила в Бога, но так как была совершенно неграмотна, ничего не знала об учении Христа, кроме основных христианских заповедей, которым следовала всю жизнь (всем нам бы так!), ведь в них сконцентрированы все постулаты человеческой нравственности. Бабушка часто молилась, но молитвы могла произнести только нараспев. Дедушка же Иван Савельевич, как и его жена, был глубоко верующим. У него были церковные книги, но какие – не помню. Он никогда не садился за стол, не прочитав молитвы.
Дедушка Сергей осиротел в 10 лет, так как его отец, мой прадедушка, Давыд слёг и умер, не выдержав постигшего его горя – в разгар весенних полевых работ на водопое утонули две его лошади. Такой урон в то время обрекал всю семью на голод, т. к. не на чем было пахать, сеять, убирать и т. д. Сергей остался со своим дедушкой Исидором, старым солдатом, успевшим за 25 лет службы протопать всю страну вдоль и поперёк, повоевать на Крымской и Кавказской войнах.
Посмотревши мир за такой срок, старый солдат знал цену образованию и, несмотря на трудную жизнь, и отдал Сергея в церковно-приходскую школу. Тогда ведь подавляющее большинство крестьян было неграмотно. Мальчик усердно учился, а по окончании школы, помимо работы в поле, подрабатывал в Управе то переписывал бумаги, то разносил почту и повестки. Действительную службу в армии мой дедушка Сергей проходил в Туркестане, так называлась тогда вся Средняя Азия, «добровольно» присоединял его к России.

Фото. Моя бабушка Анна Павловна.
После службы в армии, Сергей женился по любви на Аннушке, девице из зажиточной семьи. Её отец был против, по причине бедности жениха. Наказывал её, не пускал на «Улицу», запирал дома на замок. Не помогало ничего, ни о каких других женихах она и слышать не хотела. Наконец старик сдался, однако отказал ей в приданом и даже в свадьбе. Фактически прогнал: «Иди к Тринам – теренок есть!», так как у бедной хатёнки старого солдата вместо сада росли кусты тёрна. В деревне редко кого называли по полной фамилией, обходились прозвищами. Нашим – было короткое слово – Трин.
Несколько слов о её отце – Бутко Павле Ивановиче, Это был сухощавый старик, белый как лунь, то есть седой. Волосы длинные, борода тощая и длинная, нос большой с горбинкой и серые колючие злые глаза под нависшими бровями. Я его боялся потому, что он, не то чтобы взять правнука на руки, но даже ни разу не погладил мня по голове. Больше того, я запомнил как он, неприязненно глядя на меня, сказал: Это не моё. Оно уже неродное. Он каждое лето приходил летом к нам в деревню из слободы. Последний раз я его видел, когда мне было 5–6 лет.
Здесь я не могу не остановиться на небольшой несуразице, но весьма характерной для того дремучего времени. Дело в том, что ещё до крещения Анной, в семье деда Павла уже была одна дочь с именем Анна. Имя младенцу при крещении обычно давал поп по церковной книге святых (Святцы), в которой на этот день опять выпало имя Анна. Крестьяне же в торжественной атмосфере церковного обряда не осмеливались перечить священнику и безропотно уносили крещёное дитя домой.
Обычно в таких случаях обходились прозвищами, В нашем случае, первую из них звали Ганна, а вторую (нашу бабушку) – Анна. В памяти моей сохранился какой-то по-домашнему тёплый и уютный образ этой, небольшого роста женщины. Её внимательные серые глаза, пухленькие всегда румяные щёки, живость и лёгкость движений, выдавали целенаправленность характера, а направлен он был целиком и полностью на семью, детей, дом. Она была совершенно неграмотна. Даже букв не знала. При случае расписывалась крестиком.
Но она знала уйму песен, поговорок, прибауток и сказок. Например, рассказывала мне сказку про Ивашечку (Николашку, Васютика или любое другое имя внука рассказчицы) и укравшую его ведьму, и как его спасли гуси. И только потом, когда я читал, своим детям эту же сказку, под названием «Терёшечка», Алексея Николаевича Толстого, я понял, что автор не сочинил её, а только пересказал народную. А что она старинная, народная – нет сомнений, так как откуда совершенно неграмотной бабушке было знать её, ещё с малолетства, как не от своей бабушки, а той от своей матери или бабушки и т. д.
Неграмотность крестьянок в то давнее время была в порядке вещей, – женщина должна была вести порядок в доме, рожать, воспитывать детей и работать в огороде, а в страду и в поле. Со всеми этими обязанностями Анна Павловна справлялась хорошо. Кроме всех работ по дому, умела вязать, вышивать, шить. Сама разбирала, чистила, смазывала, и даже исправляла небольшие неполадки в механизме швейной машины. Знала и выполняла сама весь цикл работ с коноплёй, от её выращивания до выделки волокна, прядения пряжи, тканья полотна.
В то далёкое время, на обширных сельских просторах России в силу тяжёлых трудовых, социальных, бытовых и санитарных условий и почти полного отсутствия службы родовспоможения, детская смертность была очень высокой. Женщины рожали дома, а зачастую и на работе, в поле. Роды обычно принимала деревенская безграмотная, но опытная в этом деле, бабка-повитуха. Грудное вскармливание продолжалось полтора-два года. Если молока не хватало носили ребёнка к другой кормящей женщине, благо таких в деревне всегда хватало, так как крестьянки рожали часто.
Прикармливали младенцев кашками, а на работе в поле так называемыми «жовками». Об этом сейчас только с ужасом и сказать-то можно, так как жовка – это хлеб или крутая каша, разжёванный матерью комок, помещался в маленький мешочек или просто в чистый тряпочный лоскуток, завязанный узелком. Ребёнку давали высосать содержимое сквозь ткань.
К смерти младенца крестьяне относились довольно спокойно: «Бог дал – Бог взял. На всё воля божья», как сказал ветхозаветный пророк Иов. В таких условиях выживали только отменно здоровые и генетически крепкие дети от здоровых родителей.
Какое тогда было время, можно судить и по рассказу бабушки о том, как она рожала тройню. К несчастью, по тем временам, в роду бабушки гнездился ген многоплодия. Была ранняя осень, молотили хлеб вручную, цепами. Здесь следует коротко объяснить, что это за работа. Цеп, это двухметровая палка, на конце которой на ремённой петле прикреплена короткая дубовая бита, длиной сантиметров 60–70.
При молотьбе работники обычно становятся в круг и ударяют битами снопы злаков, разложенные в центре круга, зерно от ударов вымолачивается. Эта работа считалась одной из самых тяжёлых. У нас был такой цеп, дедушка обмолачивал снопы урожая овса с небольшой делянки на приусадебном участке. Я, мальчишка, тоже пробовал молотить небольшим женским, цепом: – дух вон уже после десятка ударов.
Продолжим рассказ бабушки. Несмотря на то, что была на сносях, в тот день она молотила(!) в риге. Начались схватки, Бабы завели её в хату, быстро устроили ложе, выгнали из дома мужиков, и бабушка начала рожать. Родила мальчика, о чём сообщили мужчинам, ожидавшим во дворе. Дедушка был доволен. Не успели принять этого, как стал выходить второй ребёнок, девочка. Дед расстроился. А когда схватки не утихли, и пошёл третий ребёнок, и оказалось опять девочка (лишний рот по тем представлениям), он обезумел от горя и вгорячах чуть не натворил беды, но его удержали мужики.
Дедушка по матери – Горбанёв Иван Савельевич, 1880 года рождения жил на таком же, в одно в одно и то же время построенном хуторе, как и Субботин. Название хутор имел красивое – Ясная Поляна, располагался ближе к селу Поповка. Воевал дедушка на фронтах Германской и Гражданской войн. У него было пятеро детей: три дочери, Прасковья – моя мама, Мария и Татьяна и два сына – Андрей и Тихон. Андрей был сельским учителем, погиб на фронте в мае 1942 г. в злосчастном «Харьковском котле». Тихон, прошёл всю войну с первого до последнего часа, брал Крым вброд по пояс в ледяной крошке Сиваша, Бои за Севастополь, Будапешт и др. Чудом остался жив.
Грянула Первая Мировая Война
Германская, как её тогда называли. 1915 год.

Фото. Одна из четырёх пулемётных рот на весь фронт.
На правой стороне фото рядом с офицером, в светлой шинели, стоит мой дедушка.
Большинство мужского населения российских сёл было мобилизовано. Армия формировалась порайонно, и случилось так, что оба моих деда оказались в одной роте пехотного полка и сражались с немцами в Прибалтике и Белоруссии. Там в окопах, после одного из боев в 1916 году, они и сговорились, что если останутся живы, то поженят своих детей Василия и Прасковью, которым в то время было соответственно 10 и 9 лет.
К концу войны дедушка имел чин унтер офицера, был дважды ранен, награждён двумя георгиевскими крестами и медалями. Помню, какие они были красивые, когда мы со старшим братом Колькой тайно достали их из бокового ящичка бабушкиного сундука и разглядывали. После чего Колька, а ему было тогда лет 13–14, как истый советский пионер, театрально зловещим шёпотом приговорил их к смертной казни, за принадлежность к царской, а, следовательно, вражеской власти, после чего кусачками разрезал на мелкие кусочки и мы похоронили их в саду.
А кресты эти, как потом рассказывал дедушка, были им получены заслуженно. Первый за то, что он вынес с поля боя офицера, раненного во время атаки. Тащил он его под обстрелом и при контратаке немцев. Второй крест за то, что ему было поручено доставить донесение, но в пути под ним осколком снаряда был убит конь. Конь рухнул и повредил деду ногу. Однако он раненый дополз до ближайших наших окопов и передал пакет с донесением офицеру, а тот уже переправил его в штаб. После этого ранения дед прихрамывал всю жизнь.
Оба деда прошли и всю Гражданскую войну. Подробностей не знаю. Ни тот ни другой об этом почти ничего не рассказывал. Правда, об одном эпизоде известно из рассказа моего отца. Случилось так, что в конце войны деду Сергею довелось участвовать в освобождении Поповки от белых или белоказаков. Когда начался бой, бабушка с детьми укрылась в погребе, а её сын Вася (мой отец) все выглядывал наружу и увидел, что поблизости у плетня лежит казак и стреляет из какого-то оружия, из которого вбок одна за другой вылетают стреляные гильзы. Вася выскочил из погреба, подполз и подставил шапку под гильзы, собрал несколько (не пропадать же добру) и нырнул опять в погреб. Дед после боя забежал в дом, а когда узнал о подвиге Васи, выпорол «героя».