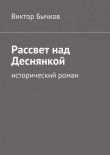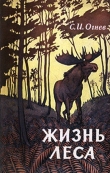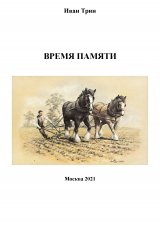
Текст книги "Бремя памяти"
Автор книги: Иван Тринченко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Глава восьмая. Детство беззаботное
«…Но, всё также ночью снится мне деревня,
Отпустить меня не хочет Родина моя».
Л. Дербенёв
Малая моя Родина. Невозможно говорить о детстве человека, не начав с его колыбели – среды формировавшей его внутренний мир и представление о внешнем. А это, прежде всего – сердечная доброта мира семьи и благодать окружающей Природы.
Хутор Субботин спрятался в Россошанской, широкой степи, в долине давно, ещё в доисторические времена, исчезнувшей речки, которая не одну тысячу лет протекала в этом месте с севера на юг, о чем говорит то, что правый, подмытый склон долины крутой, а левый пологий. В хуторе было всего два десятка домов, располагавшихся двумя порядками: один вдоль древнего мнимого русла, – низ, и другой поперёк к первому, вверх по пологому склону – гора. За правым крутым склоном, в степи стоял курган с названием Толстая Могила (Широкая Могила). С этого кургана видна ж-д станция, а за ней – город Россошь.
Крупицы памяти
Дома хутора, как и все другие постройки, белостенные, и каждый дом утопает в зелени вишнёвого сада, отчего весь хутор приобретает праздничный вид, когда он открывается взору путника, особенно с плато, на подходе из Россоши.
Крыши домов той поры обычно были соломенными. Самой ценной, красивой и долговечной считалась крыша из камыша. Наш же дом, первый в хуторе, имел жестяную, крашеную в красный цвет, крышу.

Рисунок моего брата Вити, в 13 лет.
В безлесной степи редко строили дома из деревянных срубов. В основном они были из дубовых каркасов, а проёмы стен заполнялись матами из хвороста или камыша, которые шпаклевались с двух сторон крепким известковым раствором и белились. Иногда саман служил наполнителем стен.
Полы из досок были также невиданной роскошью. Поэтому, хотя они и назывались земляными, на самом деле таковыми не были. Они имели свою конструкцию: котлован в полметра глубиной, заполненный щебнем из мела с песком. Все это утрамбовывалось, а сверху укладывалась саманная стяжка, в которую добавлялся коровяк для связи и крепости. Весь пол устилался половиками-дорожками. Для освежающего аромата его посыпали чабрецом или седой полынью. Такие дома зимой были сухими и тёплыми, а жарким летом (в степи это уже зной) – ничего не было приятнее, чем распластаться на таком полу и ощутить спасительную прохладу родной земли.
Степь. Деревня, родные мне люди, друзья, дом, домашняя живность – это конечно мой первый и главный мир, но степь – для меня, мальчишки, начинающего познавать окружающее, – была таинственной калиткой в нечто большое, часть того огромного, манящего внешнего мира, в который входит взрослеющий человек.
Степь поражала моё детское воображение своей широтой – это необозримый простор, со всех сторон очерченный дымчатой кромкой горизонта, над которым вздымается огромный хрустальный купол голубого неба. Он хорош, а иногда и просто потрясающ, при восходе или закате солнца.
Особое впечатление оставляет рождение дня: освежающая прохлада, притихшая степь, светлеющее небо с изумительной сменой красок, – от тёмно-фиолетового, ярко-бирюзового, багряно-красного, до голубого. В широкой степи эта картина проявляется в полной чистоте без отвлекающих деталей – только земля, небо, горизонт, солнце. Эта завораживающая картина запечатлелась в моей памяти на всю жизнь.
Недавно меня глубоко поразили слова одного, довольно популярного сериального актёра, также родом из степного края, который не увидел красоты родного края и поэтому в одном из телеинтервью назвал степь… пустотой! – Бедный.
Конечно, вся наша Россия отличается богатством и разнообразием красоты природы. Слов нет, красив Среднерусский лесной край, с его берёзовыми рощами, сосновыми борами, холмами и живописными долинами рек, извилистыми голубыми лентами бегущих в берегах заливных лугов сквозь пушистое обрамление серебристых ив. А беспримерной красоты картины таёжных долин и ущелий и горных рек Алтая? А неотразимо притягательная строгая красота Урала и Кавказа, с белыми вершинами гор, их ущелий и долин. А пышность субтропиков Черноморского побережья?
Любой край нашей необъятной страны красив, однако особую любовь каждый человек несёт в своём сердце к родному краю, к месту его первых впечатлений, возбуждаемых окружающей природой. Для меня это степь. Пустой и безжизненной она кажется только на первый взгляд, а на самом деле наполнена особой красотой и богата самой разнообразной живностью.
Привожу здесь некоторые наблюдения и впечатления от встреч с миром степи в годы моего деревенского детства, в том виде, как они сохранились в моей памяти, без прикрас и вымысла.
Ковыль. Бесспорно неотделимая часть общей картины степи. Это высокая степная трава с длинным (до полуметра) шелковистым колосом, похожим на пушистую метёлку. Кормовая ценность этого злака невысокая из-за жёсткости листьев, зато красота травы неописуема. Как только ковыль выбросит свой колос, степь с весны и до самой осени преображается, это уже не просто некий край суши, а настоящее море, – море сверкающего серебристо-серого, а к осени и золотистого, цвета. Его волны одна за другой бегут, переливаясь по ветру, от края и до края, сколько глаз хватает.
Я рад, что эту чудесную, захватывающую картину мне довелось видеть в детстве своими глазами. Дело в том, что сквозь всю глубину веков ковыль был неотъемлемой составляющей и украшением девственной степи. Именно в основном его стараниями (простите за одушевление) был создан наш, на весь мир знаменитый чернозём, – золотая кладовая естественного плодородия, дарованная нам Природой.
Теперь же, в связи с почти полной распаханностью, к сожалению, этот древний житель степи находится на грани исчезновения и даже занесён в Красную Книгу, в связи с чем, учёные биологи организовали в Липецкой области, на знаменитом Куликовом Поле, особый заповедник по сохранению ковыля. Вместе с тем надо сказать, что красота зелёного покрывала степи не исчерпывается только этой царь-травой.
Рядом с ним прекрасно уживаются многие представители растительного мира, такие как: разнообразные злаки: полевица, мятлик, мышей, лисохвост, костёр, ежа и др.(слова-то какие – мягкие, ласковые!); красавец козлобородник (мы, мальчишки, называли его молочаем так как при сломе бутона, который мы съедали, из стебля выступало молочко). Это совсем не маленькое растение красиво своим цветком, а затем и пушистым «одуванчиком» – в два-три раза крупнее обычного.
Растёт там и дикий паслён со своими чёрными сладкими ягодами, из-за которых, в сезон их созревания, у всех деревенских пацанов руки, губы и языки все иссиня-чёрные. Много душистых трав: чабрец, седая полынь, розмарин и др. Всё это разнотравье придаёт аромат и вкус траве и сену. От этого и молоко деревенское такое вкусное и душистое. В ложбинах и по оврагам растут низкорослые кустарники: колючая дереза и не менее колючий шиповник.
Белая акация. Красивое дерево произрастающее в южных районах нашей страны. Оно среднерослое с компактной кудрявой кроной. Лист перистый, сборный: по обе стороны длинного черешка добрая дюжина пар листочков. Особенно хороша акация во время цветения. Несмотря на то, что отдельные белые цветки мелкие, но так как они собраны в пышные гроздья, длиннее чем у сирени, то придают дереву нарядный вид. Красота белой акации явилась главным мотивом знаменитого романса «Белой акации гроздья душистые». Его проникновенно исполняли самые популярные певцы двадцатого века.
Аромат цветов бесподобен – медовый с каким-то особым нежным оттенком, поэтому акация хороший медонос, причём мёд, собранный пчёлами с её цветов высоко ценится, так как обладает целебными свойствами и, единственный из всех наших медов, не засахаривается, так как содержит много фруктозы.
Нектара в цветках так много, что его хватало не только для пчёл, – доставалось и нам. Мы, пацаны, тоже любили им лакомиться. Возьмёшь всю гроздь в рот, отожмёшь языком несколько капель нектара – кайф, сладко! Но, вместе с тем, дерево это строгое, запросто на него не залезешь – ветви усыпаны большими, и очень острыми и шипами-колючками, уколы которых долго дают себя помнить. Однако нас, любителей полакомиться цветами, это не останавливало.
Три таких красавицы росли перед палисадником дедушкиного подворья. В их тени дедушка сделал широкую скамью, вокруг которой часто по вечерам, а часто и до утренней зари, собирались молодёжные посиделки – «Улица» с гармошкой или с балалайкой.
Очерет. Так называют у нас камыш, трубчатый тростник – наш северный «бамбук». Как материал он намного прочнее и долговечнее соломы, поэтому применялся в основном для кровли деревенских хат зажиточных мужиков, так как стоил несравненно дороже соломы. Использовали его также и для изготовления циновок, матов и изгороди.
Его привозили из села Меженка, и с пойм Дона и Чёрной Калитвы. У нас он рос в илистом хвосте пруда, и мы, мальчишки, делали из него стрелы для луков, свистульки и удочки-ловушки для сбора вишен. Для этого на последнем коленце длинного камышового стебля делали продольный разрез, расширяли его и распирали палочкой (спичкой) длиной чуть больше размера вишни. Получалась маленькая лодочка широкая в месте распорки и узкая к концу разреза. Такая удочка подводилась под дальнюю (как правило, самую вожделенную, сладкую) вишенку и слегка дёргалась на себя, вишенка отрывалась.
Мне запомнился очерет ещё тем, что он использовался дикими пчёлами в качестве гнёзд. Эти пчёлы, в отличие от обычных, одомашненных, живут не обществами (роями), а одиночно. Они так и называются одиночными. Я часто находил их гнёзда в торцах камыша крыш по зелёным запечаткам. Пчелы плотно закрывают заполненные соты кружочками листьев. Удивительно, что они вырезают их в листьях на дереве точно по диаметру сота. Немного вытащишь камышинку из крыши, отломишь часть с сотом, отпечатаешь: – мёд густой пастообразный, как помадка – вкусный!
Жаворонок. Пожалуй, один из самых известных жителей степи, её украшение – жаворонок с его знаменитой песней, которую этот певец поёт забравшись высоко в небо. Мальчишкой я часто убегал в степь послушать его и, если повезёт, полюбоваться этой всеми любимой птичкой. Большое удовольствие лежать, раскинув руки, на тёплой земле, смотреть в ясное небо и слушать его переливчатый, насыщенной полноты звучания голос, посвистывания и трели. А песня его длинная, заливистая и очень мелодичная.
Недаром она нашла отражение в мелодиях народных песен и многих известных композиторов (Глинка, Шуберт, Мориа и др.). Лежишь, слушаешь, долго пытаешься найти в небе этого певца глазами и, наконец, находишь, следишь за ним, а он, часто взмахивая крылышками, как будто завис на одном месте и льёт свою песню с высоты. Затем, вдруг закончив петь, он делает глубокое пике к земле и садится невдалеке на высокую былинку. Если это недалеко, лежишь тихо, не шелохнувшись, рассматриваешь его неброскую красоту: – немного больше воробья, буровато-серое с пестринкой оперение, на головке кокетливый хохолок.
Усевшись, жаворонок молчит, осторожно оглядывается вокруг, затем пересаживается на другую былинку, ещё оглянется по сторонам и вдруг куда-то падает, исчезает. Подождёшь немного, затем осторожно подходишь к месту, куда он упал. Жаворонок, а то и два, если самочка сидит на яичках, слетают, и ты любуешься аккуратно свитым из сухих травинок гнездом, в котором лежат или светло-серые веснушчатые яички, или птенчики, если они уже вылупились из скорлупок.
Эти пёстро-серые комочки, почуяв опасность, не пищат, а сидят, смирно сбившись в кучку, стараясь быть незаметными. Им в этом помогает их цвет, сливающийся с цветом сухой травы, из которой свито гнездо и земли вокруг него. Близко подходить, а тем более брать яичко или птенчиков руками нельзя, поверье говорит о том, что птичка учует вмешательство и оставит гнездо.
Перепел. Другой постоянный житель степи – перепел. Это маленькая курочка размером чуть меньше голубя. Тоже певец, но песня его особая, чёткая и звонкая, её так и называют – «бой». Услышав песню, обычно говорят: – «Перепел бьёт». А поёт он, словно зовёт: «с-Пать пойдём! с-Пать пойдём! с-Пать пойдём!»… Слышно его издалека, особенно тихим летним вечером. Перепелов в степи было очень много. Весной колхозники, работающие в поле, часто находили перепелиные гнезда и приносили домой целые шапки яичек. В те времена перепелов было много и он даже имел промысловое значение, так как и яички и мясо его – изысканный деликатес.
Дедушка Сергей однажды взял меня на перепелиную охоту. Орудиями лова были: натянутая на большую дугу сетка с крупными ячейками и маленький свисточек – манок, который дедушка называл пищиком. Охота заключалась в том, что, выйдя вечером в степь, дедушка сначала слушает бой перепелов, определяет который из них громче, а следовательно ближе к нам, и устанавливает сетку на сторожок (небольшой колышек с привязанным к нему длинным шнурком). Приподнятый на высоту колышка край сетки направлен в сторону к выбранному перепелу, а мы ложимся в траву метрах в пяти сзади сетки и затихаем.
Дедушка манком-пищиком, имитирующим голос самки, начинает подзывать певца. Последний, в предвкушении встречи с подружкой, небольшими перелётами, а ближе к цели и пешком, мчится на зов и, как только забегает под сетку, дедушка дёргает шнурок, сетка падает и накрывает перепела. Иногда под сетку забегают сразу два дурачка. В тот раз мы принесли домой пять штук.
Другая живность. В степи много других птиц. Например, коростель, которого в наших краях, за резкий скрипучий крик по вечерам, зовут дергачём. Интересен тем, что он значительную часть своих тысячекилометровых сезонных миграций совершает пешком, вернее – бегом. Особый интерес представляет дрофа – крупная, величиной с гуся, птица, раньше водившаяся в ковыльной степи в большом количестве, а в настоящее время почти вымершая, несмотря на то, что уже давно находится в Красной Книге. Мне же посчастливилось её видеть своими глазами. Мы встретили их небольшое стадо, когда шли с дедушкой на перепелиную охоту.
В степи интересно наблюдать за хищными птицами: коршунами, ястребами и орлами, парящими высоко в небе и зорко высматривающими добычу. А сова даже жила под крышей нашего сарая.
В деревнях, в каждом дворе гнездились ласточки – очень милые, невероятно аккуратно и элегантно сложенные, птички. Их полёт стремителен и точен, что позволяет ловить насекомых на лету. Для нас мальчишек они были своеобразным барометром: если летают низко над землёй – будет ненастье, так как насекомые, за которыми охотятся ласточки, к перемене погоды жмутся к земле. Они любимы и почитаемы деревенскими жителями. Считается, что ласточки приносят счастье в дом. Разорить гнездо ласточки – тяжкий грех и поверье гласит, что тому, кто это сделает, ласточка принесёт горящий уголёк под стреху соломенной крыши и дом сгорит. Этому верят мальчишки и, не в пример с воробьями, никогда не трогают ласточек и их гнезда. Здесь уместно вспомнить стихотворение А. Н. Майкова. Привожу отрывок:
«…А помню я, как хлопотали
Две ласточки, строя гнездо!
Как прутики глиной скрепляли,
И пуху таскали в него!
Как весел был труд их, как ловок
Как любо им было, когда
Пять маленьких, быстрых головок
Выглядывать стали с гнезда!»
В кручах оврагов во множестве селились похожие на ласточек стрижи, делая гнезда в норах крутых откосов.
Воробьев тоже много, но дружбы с ними у селян нет, за их вороватый характер, ведь они зерноядные, воруют зерно, выращенное крестьянами. Отсюда-то, как я думаю, и пошло название: – вора бей. Кроме того, они устраивают свои гнёзда в соломенных крышах домов и сараев, буквально испещряя их глубокими ходами.
Помимо птиц степь населена множеством других животных. Это змеи (у нас встречаются только гадюки, и то довольно редко). Юркие серые и зелёные ящерицы, (красивые и шустрые создания, а стоит попытаться ящерицу схватить за хвост – она его сбросит. Потом он у неё отрастает). Мыши-полевки, суслики, тушканчики (похожие на маленьких зайчиков), жирные сурки – байбаки. Зайцы, лисы и волки. Летом надоедают слепни и оводы – настоящий бич скота и лошадей.
В траве постоянно что-то копошится. Жуки: красивые золотисто-зелёные скарабеи, хрущи (майские жуки) плавунцы, и притворяшки (в случае опасности – притворяются мёртвыми), щелкуны (со щёлком высоко подпрыгивают, будучи перевёрнутыми на спинку), божьи коровки. Интересно наблюдать, как жуки-навозники лепят свои «ароматные пирожки» – шарики из коровьих лепёшек – и катят их по дороге далеко (и без цифрового навигатора!), в заранее приготовленные норки, причём катят шары вдвоём, задними ножками смешно перебирая ними, а шагают передними, головой вниз. А большие и маленькие бархатные шмели, гудящие над цветками, как и пчёлы, добывающие себе пропитание, а растениям опыление. Интересны большие и маленькие голенастые, зелёные, серые и рыжие прыгуны кузнечики, а также стрекозы и прочая мелочь, копошащаяся в густом пологе травы.
Домашние животные. Клохчущие куры-наседки, расхаживающие с цыплятами по двору под неусыпным оком большого красивого петуха, один предостерегающий возглас которого об опасности, в основном о появлении коршуна, заставляет цыплят опрометью мчаться к матери и забиваться под её крылья.
В курином стаде своя азбука речи. Петух поёт часто, а ночью «по часам». Пение его не столько красивое, сколько громкое и, как мне кажется, лишено функции обольщения и призыва самок, как у многих других птиц. Скорее это заявка на власть над своим гаремом и предупреждение возможным супостатам. В адрес громкого и неутомимого петуха часто говорят: – «горло дерёт», а в басне И. А. Крылова соловей «улетел за тридевять земель», из-за совета осла поучиться пению у петуха.
Курицы общаются обычно повторяя: – "коооо-коко, коооо-коко"…., а когда какая из них снесёт яичко, слетит с гнезда, выскочит во двор и громко оповещает: "куд-куда, куд-куда!", наседка же совсем на другом языке общается с цыплятами, курлыкает короткими звуками.
Козлёнок (всегда Яшка), которого дедушка каждую весну покупает перед нашим приездом, для наших игр. Сестрёнка моя наряжала козлёнка в разные платьица, а он такой весёлый, прыгучий и, хоть ещё и с только ещё пробивающимися рожками, но забавно бодучий. Удивлялись, как он легко запрыгивал на плетень(!), а оттуда – на соломенную крышу сарая! И это с его маленькими копытцами!
А котята, щенята, козлята, ягнята, телята, поросята! Каждый раз, когда бабушка идёт доить корову, её сопровождает кошка с высоко поднятым хвостом. Подоив, бабушка непременно наполнит её блюдечко душистым парным молоком. Идиллия!
Не могу не отметить, что в силу какого-то высшего смысла наша мудрая Природа наделяет детёнышей всех животных привлекательностью и красотой, особенно их мордашек (к слову: то, что мы называем у животных мордой, некоторые народы, например англичане, называют лицом). Вероятно именно тогда в деревне, от постоянного контакта с милыми братьями нашими меньшими, у меня возникло и навсегда укрепилось к ним тёплое отношение.
Экология. Такого слова тогда на селе, да и в городах, «слыхом не слыхивали» по простой причине – полного отсутствия отходов. Даже та убогая, в то время, упаковка продуктов и товаров до деревни не доходила, редкая газета шла курильщикам на цыгарки-самокрутки, а пластиковых материалов ещё не было вовсе. Все отходы сельской жизнедеятельности людей и их животных утилизировались в хозяйстве на подстилку, удобрение огорода или, в наших безлесных краях, даже на топливо.
Старьё: лом металла, стекла, старая одежда. обувь и прочее уже совсем негодное тряпьё собиралось и сразу сортировалось старьёвщиками регулярно объезжавшими деревни. Своё прибытие они оповещали звоном колокольчиков и громкими криками: "Старьё берём!". Их приезд дети встречали с радостью, а готовясь к нему запасали что-либо сдать, чтобы в обмен получить или сладкий леденец в виде петушка на палочке, либо свисток из гончарной глины.
Проблема мусора и прочего загрязнения среды практически отсутствовала. Мы дышали чистым воздухом, и ели здоровую пищу. Полагаю, что, сработанный тогда Природой у детей гормональный комплекс, и явился своеобразным удостоверением на право хорошего здоровья и многих лет жизни.
* * *
Окружающая природа, утопающая в садах деревушка, уютный дом и тепло любящих сердец до сих пор составляют глубокое ощущение моей Родины, которое прочно сидит во мне, и я сохраню его на всю жизнь. Всё это создаёт особый настрой, душевное спокойствие и радость жизни, формирует в характере любовь и доброе отношение к природе, да и к людям.
И скажу по секрету: это не "высокий штиль", это моя правда, правда моей души. И как горько мне стало, когда совсем недавно на ярмарке мёда в Москве из разговора с одним из россошанских пчеловодов я узнал, что моего родного хутора уже не существует, люди ушли в поисках работы, а бывшие подворья заросли бурьяном. Теперь она застраивается как одна из улиц Россоши, а микрорайон называется – Субботино. Спасибо!
Повторюсь. Исчезновение понятия малой родины и близкого к природе сельского образа жизни – это лишь малая частица огромной российской беды. Небрежение, да и неспособность сохранить их, как стыд и срам теперешнего общества и его поводырей, кощунственно прикрывающихся фиговыми листками: индустриализации, постиндустриализации, урбанизации, либерализма, демократии и прочей словесной эквилибристики.
Раннее детство.
Родился я в суровую стужу февраля 1929 года на хуторе (деревне) Субботин. Накануне осенью отец был призван в Красную Армию и служил под Ленинградом, после чего поступил в Военно-медицинскую академию. Ему, выделили комнату в общежитии, и он перевёз семью из деревни.
О детстве в Ленинграде, с трёх до пяти лет, почти ничего не помню. Сохранились только отдельные, смутные воспоминания, скорее на уровне ощущений. Например: захватывающее дух ощущение, когда, гостивший у нас, дедушка подбрасывал меня вверх, приговаривая: – «Чук-Чук». или тепло матери, когда она брала меня на руки, одевала меня дома и в детском саду; пристёгивала чулки к лифчику. Тогда все и мальчики и девочки носили лифчики – широкие нагрудные пояса на лямочках, к которым на резинках пристёгивались чулки.
Помню отдельные картинки:
– Противный до ужаса вид и вкус лука в супе. – Круглое зеркало с дырочкой в центре, укреплённое на лбу врача, который сделал мне очень больно в моем горле (уже потом отец говорил, что операцию по резекции моих гланд делал знаменитый профессор с чудной фамилией Воячек).
– Удивительно приятная музыка цоканья копыт лошадей по деревянной торцовой мостовой нашей Клинической улицы, особенно ранними утрами, когда город ещё только просыпается.
– Огромные бесконечные штабели дров во дворе медицинских корпуса, в лабиринтах которых мы играли в прятки. Штабели иногда осыпались, и, во избежание травм, взрослые постоянно выгоняли нас оттуда, Но там играть, особенно в прятки, было интереснее и мы часто туда опять пробирались. Почти исключительно дровами тогда отапливались даже большие города. В каждой большой комнате или в коридоре красовалась облицованная керамической плиткой, а иногда и красивыми изразцами.
Крупицы памяти
Игра. Один случай врезался мне в память на всю жизнь. Кто-то из моих дружков зазвал меня к себе. Помню большую полупустую комнату, в углу которой у входной двери стоял большой шкаф. Во что-то мы играли вначале, но затем мальчик с таинственным видом поманил меня к шкафу, открыл дверцу и сказал: – «гляди!». Там, рядом с военной одеждой его отца, на длинном ремне висела рыжая кожаная кобура с револьвером. Он вытащил револьвер, мы сели на пол и стали его разглядывать. Револьвер был тяжёлый, блестящий, весь железный, а рукоятка деревянная. Из дырочек круглого барабана выглядывали блестящие жёлтые горошины.
Мы сидели друг против друга, он начал целиться в меня и нажимать курок, а я смотрел, как боёк потихоньку отходит назад и возвращается (для полного спуска курка, а, следовательно, и выстрела у него не хватало силёнок). Он пыхтит, а мне интересно то, что он нажимает одну часть револьвера, а двигается другая. Тут за спиной мальчишки открылась дверь, и… я увидел фигуру высокого военного, а затем лицо, искажённое страшной гримасой, – это был отец мальчика. Он в один прыжок ринулся к нам, выбил револьвер, схватил своего пацана за шкирку и отшвырнул в угол, я вскочил и в испуге дал дёру. Это наполненное ужасом лицо я помню до сих пор. Позже я часто думал: – «А если бы у пацана хватило силёнок?»
Прошлую зиму провёл в Ленинграде, помню, что ходил в детский сад, был слабым ребёнком, часто болел, и даже лежал в больнице с ангиной и воспалением лёгких. После выздоровления меня отправили в деревню на поправку. Хотели до школы, а прожили там до второго класса.
* * *
Живу у дедушки с бабушкой в деревне, моём родном хуторе Субботине. Мои детские воспоминания этой поры, хотя и отрывочные, но очень тёплые и светлые. Меня окружал мир добра, любви, и домашнего уюта. Оставалось только радоваться жизни, что я и делал. С большим интересом встречал каждый день. Интересно было всё.
Печь. Мне не надоедало смотреть, как моя бабушка Анна Павловна колдует, а вернее, священнодействует у печи. Орудует кочергой, рогачами-ухватами для чугунков, чугунов и сковородок; особой деревянной лопатой для посадки и вытаскивания хлебов, гусиным пёрышком для смазывания пирожков маслом, крылышком-смёткой и т. д.
Печь была большая, настоящая русская. Сложена посредине дома, и обогревала сразу все четыре комнаты. Этому способствовало устройство в ней сложной сети дымоходов и ходов для тёплого воздуха. В ней было две лежанки, одна, непосредственно на печи, – моя любимая, а другая низенькая, с отдельной топкой в спаленке.
Зимними вечерами мне нравилось лежать на печи и сверху наблюдать за хлопотами бабушки, или как дедушка после вечери (так называли у нас ужин) степенно, не торопясь, доставал свои очки, сажал их на кончик носа, затем, налаживал ярче огонь керосиновой лампы и принимался читать. Чтение, особенно газет, он обязательно сопровождал своими замечаниями и суждениями. Я внимательно его слушал, хотя многого ещё не понимал. Иногда подсаживался к нему, и он мне что нибудь рассказывал, или мы сидели у лампы и оба читали – он газету, а я – рядом – книжку.
Хлеб – одно из главных нравственных начал крестьянской психологии. (И – не только в России. В Англии, например, дурным тоном считается оставление на тарелке недоеденной пищи. Даже на приёме или в гостях англичанин не постесняется вытереть кусочком хлеба остатки пищи с тарелки и отправить их в рот. Он знает каким трудом добывается пища и ценит это). Не случайно на Руси поля, засеянные зерновыми, уважительно называют – Хлеба, а рожь – Жито, то есть – жизнь!
А когда бабушка печёт пироги или выпекает хлебы!? – Это уже целая симфония движений, звуков и, особенных ароматов. Восхитительный запах свежеиспечённого хлеба не может быть сравним ни с чем! Бабушка накануне затворяет опару. Утром – затапливает печь и готовит тесто: просеивает муку, вымешивает, раскатывает, опять месит тесто, скатывает его в шары, накрывает их чистым полотенцем и ставит на подход. Затем она тщательно вычищает жарко протопленную печь, ловко деревянной лопатой ставит хлебы прямо на кирпичный под, и закрывает вход в печь заслонкой.
Через часок-другой – хлеб готов. Весь дом наполнен духом только что испечённого, ещё горячего хлеба. Право же нарезать свежий хлеб перед едой принадлежало дедушке. Это был торжественный момент. Он прижимал каравай к груди и большим ножом, с подобающей случаю серьёзностью, отрезал нужные куски. Никакие разговоры, тем более шутки, при этом были неуместны.
Ничего на свете нет вкуснее ароматной, с хрустящей корочкой, краюшки свежего хлеба!
Баня. В нашей безлесной и засушливой местности не строили бань, однако каждую субботу устраивался банный день. Не могу сказать, как мылись взрослые, не видел. В те времена в деревне не принято было при детях не только показывать наготу, но и проявлять чувства интимного характера, например, обниматься или целоваться. Знаю только, что они загодя готовились к этому дню: запасали воду и щёлок, промывали или запаривали корыта, широкие чаны и кадки, готовили чистое бельё.
А вот о моей бане у меня сохранились самые тёплые воспоминания. В этот день дом хорошо протапливался, бабушка наливала горячую воду в предварительно ошпаренную широкую кадушку, вливала туда чашку щёлока. Если вода была недостаточно горяча, она кидала в кадку сильно нагретый, а то и раскалённый в печи крупный камень-голыш, который вначале бурно бушевал, затем кипел, сипел и замолкал. После этого сажала туда меня и накрывала кадку простынёй.
Под нею было тепло и достаточно светло. Я сижу в воде по шейку, плескаюсь, играю с зелёной резиновой жабой (не знаю, где её достал дедушка). Пар пробирает меня. После этого бабушка моет меня мочалкой с мылом, ополаскивает, принимает в тёплую чистую простыню и отправляет на жаркую печь. Через некоторое время – в постель. Всё. Дедушка с удовольствием смотрит на меня чистенького и говорит: – «Как новый целковый!». Денег я тогда ещё не знал, но понимал, что это что-то хорошее, красивое.
Форточка. Как-то поздней осенью, нагулявшись и раскрасневшись, прибегаю с улицы. Настроение приподнятое, радостное: «Дедушка! Я пришёл!». У порога стал скидывать галошу с ботинка, а она не снимается. Я со всей силы тряхнул ногой, галоша соскочила и…, ударила в закрытую форточку окна, пробила стекло. Жуть! Я ни жив, ни мёртв.
Дедушка спокойно встаёт из-за стола, собирает осколки стекла, выбирает его остатки из рамы форточки, затыкает её подушкой и, не глядя на меня, строго говорит бабушке: «Отправляй мальчишку спать, а я завтра утром вставлю его голой попой в форточку, а чтобы не дул ветер, щели вокруг неё заделаю замазкой».
С испугу я долго не мог заснуть. Мне было страшно – каково будет мне, ведь за окном мороз! Особенно убедительным доказательством намерения дедушки казались мне его слова о замазке. Утром я вбежал на кухню глянул на форточку, а там вместо подушки уже было вставлено новое стекло.
Коньки. Ударили крепкие морозы. Лёд сковал наш деревенский пруд. Как-то вечером дедушка говорит мне:
– Хочешь кататься на коньках?
– А что это за коньки, маленькие кони? – спрашиваю я.
– Нет, это маленькие салазки на каждую ногу, на них катаются по льду – отвечает дедушка.
– Хочу, хочу! – радостно закричал я.
– Тогда ложись спать, а завтра мы их сделаем».
Здесь следует сказать, что в те далёкие времена практически невозможно было купить настоящие коньки по многим причинам. Во всей округе, включая и город Россошь, просто не было магазинов по продаже спортивных товаров, да и денег у крестьян на такие, по их мнению, «забавы» тоже не было. Даже покупка детской одежды и обуви в магазине считалась у крестьян непозволительной роскошью. В основном, родители почти всю одежду, для детей и не только, шили сами, или покупали у местных мастеров, и на рынке. При покупке у местных, особенно своих деревенских мастеров и мастериц, расплачивались не деньгами, а либо продуктами, либо соответствующими услугами.