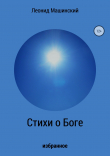Текст книги "Атланты и кариатиды (Сборник)"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
Тогда она повернулась, приподнялась, наклонилась над ним, ощущая близость его губ, зашептала:
– А это не чужое. Твое!.. Все тут твое! Любимый мой, славный и глупый! Какой же ты ягненок неразумный! Не бойся. Полюби меня, и я все отдам тебе! – И зажала ему рот своими губами, чтобы он не сказал, что ему ничего не нужно. Целовала горячо, жадно...
А потом была бессонная и очень короткая ночь. Они говорили без конца. Они как бы спешили высказать все, чего не могли сказать друг другу больше чем за месяц жизни под одной крышей.
Конечно, Адасевой силы у него не было. Но было иное, чего она не знала раньше, – необычная нежность и в словах, и в поцелуях, и в трепетной взволнованности, даже в ударах сердца, которые она слышала, прижимая его к себе.
Олесь признался, что до этого не знал ни одной женщины, она первая. Ольгу растрогало это и наполнило еще большей влюбленностью и радостью. Все, что произошло между ними, казалось совершенно чистым, безгрешным, и совесть не тревожила ее, не чувствовала она вины ни перед Адасем, ни перед дочерью. Вину чувствовал он. Сказал об этом. Ольга ответила поцелуями.
– Не думай, не думай... не нужно. Не твоя вина, моя. Я грешная... Но я не боюсь греха, потому что люблю тебя.
Стала просить, чтобы он никуда не рвался, ни в какую борьбу не встревал, пережил войну у нее и она даст ему все, что нужно для счастья. Сказала – и сразу почувствовала его молчаливую настороженность и отчужденность; он будто резко отстранился, хотя в действительности не пошевелился, только замер в неподвижности. Опомнилась и зареклась: не говорить больше об этом, пусть все идет как идет. И, чтобы вновь приблизить его, сказала:
– А приемник... правда, зачем он нам, если все равно послушать радио нельзя?.. Пусть Лена забирает... Только, если что, не сказала бы, у кого взяла...
– Не скажет, Лена не скажет, – быстро и горячо зашептал Олесь.
– Ты так говоришь, будто знаком с ней с пеленок. Я ее лучше знаю, – сказала вполне спокойно, сама довольная, что прежней ревности нет. Откуда ей быть, той ревности, когда парень принадлежит ей и она знает, какой он действительно ягненок.
Но этот кроткий юноша стал теперь ее властелином, и она отдавала ему все, открывала все тайны. Даже призналась, где прячет пистолет. Сама сказала. В старой иконе, что висит на кухне. Покойница мать сделала в иконе тайник еще во время гражданской войны, когда в Минске по два раза в год менялась власть.
За приемником приехали на грузовике, с камуфляжно, по-немецки, раскрашенной кабиной и бортами. Машина испугала Ольгу. Она только что вернулась с барахолки, где натерпелась страху. Немцы устроили первую массовую облаву. Окружили весь рынок, выпускали через трое «ворот», проверяли документы, вещи, обшаривая даже карманы. Ольга не боялась ареста. За что ее могут арестовать, известную всей полиции, да и некоторым немецким жандармам, торговку? Но испугалась, что лишится добра. В тот день коммерция ее шла выгодно. Она продала муку, соль и нутряное сало не за марки – в оккупационные марки слабо верила, – за перстни золотые и ручные часы, при этом, что важно для душевного спокойствия, не боялась, что ее обманули, подсунули вместо золота начищенную медь: со старым профессором в золотом пенсне, которому очень нужно было поддержать больную жену, она договорилась еще два дня назад. Растроганная его непрактичностью и беспомощностью, дала старику дополнительно фунт пшена, хотя могла бы и не давать. Доброта ее была вознаграждена: за остаток сала и пшена купила отрез чудесного, тонкого сукна, А потом еще больше повезло. На глаза попался тот усатый, красивый мужчина, подходивший к вей еще осенью, в первые холода. Тогда он был в добротном, вышитом золотыми нитками кожушке, шутил, набивался в примаки. Сейчас он мало походил на жениха: похудел, усы отросли и обвисли, как у старика, порыжели, будто подпаленные; одет он был в замызганный ватник, на голове облезлая заячья шапка. Но на руке у него висел все тот же кожушок, привлекая уже не золотом вышивки, а густой шерстью. Наверное, мужчина запрашивал приличную цену, потому что покупатели сразу «отваливались».
У Ольги далее ёкнуло сердце: вот оно, торговое счастье, весь день не изменяет, два месяца назад привлек ее этот кожушок, «загорелся зуб» купить его, и вот он сам просится в руки. Может, теперь кожушок и не так уж входил в ее коммерческие расчеты. Но сам факт, что вещь, которая когда-то понравилась, снова попалась на глаза, принуждал обязательно купить ее. Нужно показать гонористому пану, кто тут хозяин, в этом людском водовороте, – он, полинявший, или она, по-прежнему краснощекая. Так и подумала с веселой игривостью: «Сейчас ты увидишь, кто здесь щука, а кто карась».
– Продаешь?
Он тоже узнал ее, засмеялся.
– А ты, красавица, повсюду. Где же твои драники?
– Дров нет, чтобы печь, – засмеялась и Ольга.
– Жаль. Как бы я съел сегодня горячий драник! – Мужчина сглотнул слюну и постучал сапогом о сапог – замерзли ноги.
Тем временем Ольга развернула кожушок и по-мальчишески свистнула: красная и золотая краска сильно загрязнена как раз спереди, где вышивка, будто в кожухе грузили дрова или ползали по земле.
– Сбил пан цену своему товару.
– Я дам рецепт, как почистить.
– Сам почистил бы.
– Не хватает времени.
– Какой занятый пан!
– Да уж...
Ольга вернула кожушок, давая понять, что в таком виде он мало интересует ее. Посочувствовала, как хорошему знакомому, без насмешки:
– Напрасно не продал тогда. Я хорошо заплатила бы.
Но ему явно не хотелось говорить с привлекательной торговкой серьезно, он паясничал:
– Если бы согласилась взять в придачу...
Ольга вспомнила Олеся, необычность его ласк и не меньшую необычность своих чувств и засмеялась, глядя на рыжие усы.
– Если бы у пана не было таких усов... Я боюсь усатых.
– Для такой женщины головы не пожалеешь, не то что усов.
– Теперь уже поздно.
– Вот как? Повезло же кому-то! А мне усы, выходит, помешали. А я на них такие надежды возлагал...
Ольга подумала, что кожушок и в таком виде пригодится Олесю. После воспаления легких ему нужна теплая одежда. А что загрязненный, то это, пожалуй, хорошо – меньше будут внимания обращать. Такому, как он, лучше быть незаметным. Снова взяла кожушок, пощупала шерсть.
– Что просишь?
– А что дашь?
– Сало. Самогонку.
– Марки. Мне нужны марки. Фабрику хочу купить.
– А пан веселый.
– Вижу, пани тоже не унывает.
Веселый, веселый, а за цену стоял упорно, не хотел уступить и десятки. Ольга недовольно подумала: «Ишь ты, торгуется лучше нас, базарных баб».
Но опять же уплата марками вышла ей на счастье. Бутылка самогонки осталась нетронутой и помогла ей выскочить из облавы. Отдала бутылку знакомому полицаю, и тот вывел ее из окружения через тайный, известный только им, полицаям, лаз в дощатом заборе. Каждый что-то выгадывал себе в этом вертепе: немцы – себе, полицаи – себе, за счет таких, как она, у кого было чем откупиться. Конечно, ее не арестовали бы, тех, кто имел аусвайсы, отпускали, но кошельки многих и даже карманы пустели. Во множестве приказов и постановлений расписывалось, чем можно торговать, а чем нельзя. Постановления часто противоречили друг другу. Этим пользовалось если не само СД, то те, кто помогал ему, – солдаты охраны тыла, полиция. Во время облав нагло грабили и подозрительных, и неподозрительных. И никто не жаловался. Кому пожалуешься? И на кого? Лучше подальше от лиха.
Домой Ольга вернулась довольная – торговля вышла удачнее, чем она надеялась, и из облавы выскочила без особенных потерь. Рассказывала Олесю о кожухе, о его бывшем хозяине и об облаве весело, со смехом. А потом, спохватившись, спросила тихо, с тревогой:
– Не приезжали?
– Нет.
Ей не понравилось предупреждение Лены, что за приемником приедут на машине в воскресенье: казалось, было бы проще Лене перенести его к себе как-нибудь вечером, на комаровских улицах патрули редко ходят.
Больше, чем немецкий грузовик, испугало Ольгу то, что из кабины выскочил и пошел к воротам тот усатый, у которого она три часа назад купила кожушок.
Вошел он смело, с грохотом, как странствующий портной, только, открывая двери, вежливо попросил разрешения:
– Можно?
Увидел Ольгу, удивился, сделал большие глаза, комично встопорщил усы, коротко хохотнул.
– Ай да встреча! Везет мне.
Но застывшее Ольгино лицо – не веселая торговка, а сурово озабоченная и встревоженная хозяйка стояла перед ним – заставило его виновато понуриться и тихо сказать пароль:
– Привет вам от Фаины. Она просила забрать ее чемодан.
– Как там племянник растет?
– Петька? Начал ходить.
Олесю, который из романов знал пароли замысловатые, с глубоким смыслом, такой бытовой пароль-диалог показался наивным, неумелым, и это его немного встревожило. Не понравилось, как усатый хохотнул, сразу выдав знакомство с Ольгой. Но сам человек понравился. Особым чутьем солдата Олесь почувствовал в нем командира, волевого, опытного, и решил, что это не кто иной, как сам руководитель подпольной группы, таким его себе и представлял.
Олесь выступил вперед, протянул руку.
– Добрый день, товарищ. – Голос его дрожал от волнения.
– Добрый день, – сказал усатый не как приветствие, а как похвалу дню и сжал хилую, немужскую Олесеву руку так, что тот едва не ойкнул от боли; весело блеснув глазами, гость объяснил, почему он добрый: – Я выгодно продал кожушок одной пани.
После этих слов от Ольгиного сердца отхлынул страх, исчезла не свойственная ей конфузливость, от которой она будто одеревенела; сделалось легко, просто, весело, она звонко засмеялась и сказала, как давнему знакомому:
– Балабол ты старый. Испугал.
– Старый? Пани Леновичиха, смилуйтесь, не записывайте в старики. Узнают девчата...
Олесю хотелось услышать от этого человека особенные, очень серьезные, высокие слова – о борьбе. А он скалил зубы с женщиной. Парня нехорошо задело, что они встречались раньше и что Ольга с ним на «ты».
– Товарищ... – попытался Олесь завести разговор.
– Евсей. Мое имя Евсей. К такому имени не подходит ни «пан», ни «товарищ». Просто Евсей...
Олесь понял, что человек, который доверился им, в то же время уклоняется от серьезного разговора. Почему? Кому из них не верит? Ольге? Или, может, ему, бывшему пленному? Плен все еще чувствовал как клеймо, которое жгло и бросалось в глаза людям.
Очень хотелось остаться с усатым наедине и честно рассказать о себе все: что он комсомолец, молодой поэт и готов сегодня же вступить в подпольную группу и исполнить любое задание. Ольга сказала, где спрятан приемник на чердаке, в куче старых стульев, матрасов, ушатов, кастрюль, тряпья. Необходимо полезть туда вместе с Евсеем и там поговорить. Нужно только одеться, иначе Ольга не выпустит за дверь. Но Ольга как бы прочитала его мысли – первая схватила с гвоздя купленный кожушок, накинула на плечи. Сказала усатому:
– Полезли за чемоданом.
Олеся это кольнуло так же, как и слова Ольги: «Балабол ты старый...» Но он тут же пристыдил самого себя. Не до ревности теперь.
Пока Ольга откапывала приемник, Евсей осмотрел чердак, заглянул в оконца – в одно, в другое, – будто выбирал наблюдательный пункт или изучал сектор обстрела. С особенным вниманием и интересом осмотрел ближайшие дома, перспективу кривых улиц, запомнил, где переулок проходной, а где тупик. Вернулся к Ольге, которая заворачивала приемник в дерюгу, сказал все так же весело:
– Командная высота у вас тут. И костра́ мягкая.
Ольга не поняла, какое отношение имеет одно к другому. Тут, на чердаке, наедине с таинственным незнакомцем, делая дело, за которое можно очутиться в тюрьме, а то и вовсе на виселице, она снова утратила свою бойкость и игривость. Говорила приглушенным шепотом. Теперь это был не страх, а что-то новое, значительное и непонятное, как тайна венчания или причастия.
– Хилый твой квартирант. Слабенький. Как ребенок.
– У него душа сильная.
– О, а ему, правда, можно позавидовать. Получить такую похвалу! Что ж, увидим.
Тогда она повернулась к нему и неожиданно для себя попросила:
– Не втягивайте вы его никуда. Зачем он вам, такой? И вправду дитя. Лучше я отдам вам... – Хотела сказать «револьвер», но осеклась, может, потому, что он не выказал удивления, не возразил, не согласился. Даже не посмотрел на нее – проверял, надежно ли завернут приемник. Потом легко подхватил тяжелую ношу, пошел к лестнице.
Ольга спустилась вслед за ним. Он ждал ее в каморке под лестницей, снова придирчиво осматривая ненадежную упаковку. Попросил мешок. Засунул приемник в мешок, напихал по бокам тряпок, чтобы мешок выглядел мягким, не выпирали острые углы.
– Соседям скажешь, что ты продала... Что ты можешь продать?
– Картошку, свеклу. Шерсть. У меня есть шерсть.
Он будто позавидовал:
– Богато живешь.
Ольга вспомнила, как он голодно проглотил слюну, вспомнив о ее драниках. Стоит накормить его, хотя в то же время не хотелось, чтобы он задерживался в доме. Получил что положено – и, как говорят, с богом.
Но предложила:
– Драников нет, а картошка в печи горячая, с салом.
Евсей засмеялся.
– Не хватит кожушка рассчитаться за машину. – И осторожно взвалил мешок на плечи.
Ольга вышла следом за ворота и застыла, ошеломленная: за рулем грузовика сидел немецкий солдат.
Евсей положил приемник на сиденье рядом с шофером. У Ольги мелькнула страшная мысль. Но она успокоилась, вспомнив: «Не хватит кожушка рассчитаться...» И все равно ужаснулась: какой бешеный риск – нанимать немца!
Она сорвала с плеч кожух, протянула ему.
– А кожух? Чуть не забыл кожух.
Он на мгновение растерялся, но тут же схватил кожух, бросил на приемник, засмеялся.
– Спасибо, сестра. – И вскочил в кабину.
У Ольги подкашивались ноги, она долго не могла сойти с места, пока не почувствовала, что сзади, за калиткой, стоит Олесь. Рассердилась, что он вышел так, в одном пиджачке, без шапки.
– Ты как малый ребенок! Хуже Светки! – С сильным стуком захлопнула калитку, погнала его в дом. – Хочешь снова лежать? Вот же дурень!
За дверью, в сенях, Олесь повернулся к ней и, дрожа будто действительно от холода, спросил:
– Ты видела? Немец!
Немец за рулем испугал парня не меньше, чем ее вначале. Но, сама рисковая, она уже в душе хвалила такую хитрость смелого и веселого человека.
– Не бойся, он правильно придумал. Шофер не станет проверять, что везет, а патрули не остановят военную машину.
– Откуда ты знаешь его?
Ольга силком впихнула его в кухню и там, в тепле, почти радостно засмеялась.
– Боже мой, да ты ревнуешь!
Олесь сконфузился, покраснел.
Ольга обняла его, поцеловала в губы, в лоб.
– Как я люблю тебя! Сашечка, родненький. Никого на свете так не любила! Чем ты меня так приворожил? А того, усатого... Я купила у него кожушок. Как он торговался? За каждую марку! А я отдала ему кожушок назад. Он же его продал, чтобы заплатить за машину.
Смех ее постепенно затихал, теперь она говорила серьезно, смотрела Олесю в глаза и держала за плечи так, будто боялась, что если отпустит, то потеряет навсегда, целовала нервно, жадно. Потом вдруг повернулась к иконе, в которой прятала пистолет, перекрестилась.
– О матерь божья! Как ношу с плеч сбросила. И с души! На черта он мне, этот приемник! – И вымолвила как угрозу неизвестно кому: – Ну, теперь все! Все! И Ленку эту, партизанку, на порог не пущу. Все. Все! И ничего ты мне не говори! Ничего! Слушать не хочу! – И зажала уши ладонями, хотя Олесь не вымолвил ни слова. – У меня ребенок! Ягодка моя! Кровиночка моя! Сиротинка моя ненаглядная! – Села на кухонный табурет, залилась слезами. – Нет, не хочу! Не хочу! Все! Все! Что вы делаете со мной? Жалости у вас нет к людям...
Такого с ней еще не было. Олесь стоял у дверей, смотрел на нее и молчал, думал, что женщину эту трудно понять, а потому неизвестно, что ей ответить. Может, обнять, приласкать и таким образом успокоить? Шагнул к ней, но она испуганно сжалась, закрылась руками, затрясла головой.
– Нет, нет! Не хочу! Не могу! Не трогайте меня! Не трогайте!
И тогда он подумал, что лучше действительно не трогать ее. Не втягивать в борьбу. Не тот это человек, который нужен в том деле, в которое вступает он... Выполненное задание давало ему право считать себя принятым в ряды подпольщиков. Но вместе с тем как никогда раньше ему сделалось больно от мысли, что он вынужден покинуть этот дом и Ольгу, близость с которой вернула ему радость жизни, теперь он чувствовал к ней не просто благодарность, а то, о чем так много писал и читал... Он любит ее! И рад этому. Но имеет ли он право любить в такое время, связывать свою судьбу с женщиной, да еще с замужней и... с такими взглядами?
Олесь не понимал Ольгу, а Ольга в тот день не понимала самое себя. Поплакать она умела и даже любила. Но чаще делала это с выгодой для себя. Когда-то плакала перед родителями. Перед Адасем. Перед чужими людьми иногда выплескивала такие фонтаны слез, что и у самых черствых смягчалось сердце. А тут? Чего она добивается? Хочет покорить парня? Так покорила уже. Во всем. Кроме одного... В стремлении воевать с немцами – его мягкая душа тверже металла. Так чего же она может добиться? Что он выполнит свое обещание – уйдет от нее с благодарностью и любовью, как он сказал? Но этого она не хотела. Зачем же тогда грозить, что с приемником все кончится? А может, только начнется? Она внимательно следила за Олесем. Понимала, что в ее интересах быстрее успокоиться, но слез сдержать не могла. За всю жизнь плакала так искренне разве что на похоронах матери. Проснулась Светка, услышала рыданья матери и, испуганная, закричала громко, на весь дом. Олесь первый бросился к ребенку.
VI
Нет, с приемника ничего не началось. Напрасно боялась Ольга. Напрасно считал Олесь, что приемник дал ему допуск в подпольную группу. Никто его никуда не приглашал. Никто не давал нового задания. Это могла бы сделать Лена, но она не появлялась. Олесь узнал ее адрес и раза два заходил в дом. Встречала мать Лены, вежливо, но настороженно, хотя сразу догадалась, кто он, спросила: «Ольгин родственник?» Без иронии спросила, серьезно, зная, конечно, откуда взяла такого родственника Ольга. Поддерживала легенду, которую засвидетельствовал добытый Леной документ.
Когда во второй раз старуха поспешно сообщила: «А Лены нет дома», Олесь заподозрил неладное, он вспомнил Ольгин плач и крик, вспомнил ее угрозу не пускать партизанку Лену на порог... Неужели Ольга могла устроить такую истерику и тут, у Боровских?
Он чувствовал себя совершенно здоровым и с каждым днем все больше мучился оттого, что сидит в тепле, в сытости, у женской юбки, в то время как идет война, гибнут люди, миллионы его ровесников ежедневно идут в бой. Еще недавно, даже тогда, когда отступили чуть ли не под Вязьму, он мечтал совершить исключительный подвиг, который прославил бы его, пусть и посмертно, и... изменил бы ход войны. Теперь, после всего пережитого, он не забивал голову такими пустыми мечтами. Познав все ужасы фронта, плена, силу врага, он хорошо понимал, что ни один самый исключительный подвиг любого сверхгероя не изменит хода войны. Для этого нужно одно: как можно больше убить фашистов. Любым способом. Любыми средствами. Он должен стать настоящим солдатом.
Первый выход из тихих и безлюдных комаровских переулков в город – на рыночную площадь, на Советскую улицу – ошеломил Олеся. Сколько их, врагов! Солдаты, офицеры, полицейские, кругом грузовики, легковые машины... На каждом шагу. Поразило даже не их количество. Страх перед многочисленностью врага и страх перед его техникой, которые причинили столько бед в первые дни войны, он преодолел еще на фронте, под Смоленском, вместе с бойцами полка, отбившего за день пять или шесть атак немецких танков.
Он приехал в полк по заданию редакции и впервые видел так близко немцев, их танки. Сам не стрелял, – смешно стрелять по танкам из нагана, – но помогал санитарам выносить раненых. Редактор был недоволен привезенным материалом. А он радовался, что не чувствовал страха, не думал о смерти и не отсиживался в тылу. Попытался написать, что если такой перелом произойдет в душе каждого бойца... Но редактор безжалостно вычеркнул всю «философию», редактор требовал фактов героизма, а фактов у него было мало, – ведь он не успел записать фамилии людей, не до того было. Пришлось редактору брать фамилии из политдонесений. Были это те люди, которые погибли на его глазах или которых он вынес с поля боя? Он не знал. В тот день он не только преодолел собственный страх, но и само понимание подвига на войне переосмыслил.
Нет, не множество немцев на улицах Минска его ошеломило. Их спокойствие, уверенность, устроенность. И то, что наши люди служат им. Он, безусловно, не думал, что жизнь остановится, – чтобы существовать, люди вынуждены работать на оккупантов. Работающих на заводах и фабриках он не считал врагами. Но оказалось – есть обслуживающие господ офицеров. Он добрался до вокзала, где, как всегда в таких местах, да еще в военное время, было особенно людно. И там увидел категорию служителей, о которых только в книгах читал, – мальчиков-носильщиков и чистильщиков обуви. Их было много. Некоторые исполняли не только роли носильщиков, но и возчиков. На санках-самотяжках, на тачках возили вещи офицеров и солдат в любой конец города. Некоторые уже довольно бойко предлагали свои услуги по-немецки.
Увидел он и молодых женщин, поведение которых, заигрывание с офицерами говорило о их занятии. Все это страшно поразило и причинило боль не меньшую, чем предательство некоторых бывших красноармейцев в лагере военнопленных. Ведь эти ребята вчерашние советские школьники. И девчата, о которых он еще недавно сочинял возвышенно-романтические стихи. Его юность, студенчество совпало с годами всеобщей подозрительности, он верил, что вокруг немало врагов, агентов буржуазии и немецкого фашизма. Но он никогда не мог бы представить в те годы, что прислугой у фашистов станет кто-нибудь из его школьных или институтских приятелей. Какие у него были мечты! Да и у всех его друзей! Любой из них умер бы от одной мысли, что придется везти вещи чужого офицера, врага, оккупанта... Откуда же взялись эти? Не силой же их пригнали сюда? Он попытался поговорить с мальчишками. Но, заинтересованные вначале вниманием к ним, услышав его вопросы, они враждебно настораживались и отходили. Рассудив здраво, детям он простил, даже пожалел их. Но женщинам оправдания не было. Женщин он карал бы самой суровой карой.
На другой день он стоял на площади Свободы перед полицейской управой. Ему хотелось посмотреть в лицо тем, кто пошел служить в оккупационные учреждения, посмотреть в глаза открытых, явных предателей. Что выражают их лица? Они заканчивали работу на исходе короткого зимнего дня, когда смеркалось. Но день был ясный, морозное небо полыхало ярким закатом, и он увидел их и убедился: не было в их глазах ни страха, ни раскаяния. Они выходили группами, мужчины и женщины, и весело переговаривались, смеялись. Правда, расходясь в разные стороны, люди эти спешили, ускоряли шаги. Боялись. Чего? Темноты? Приближения комендантского часа? Но наверняка у каждого из них есть ночной пропуск.
Отдельно из управы выходили немцы. Офицеры.
«Инструкторы». – подумал Олесь.
Немцы так не спешили. Они чувствовали себя хозяевами, пока не стемнело.
Потом Олесь даже не мог вспомнить, почему, с каким первоначальным намерением, он пошел за этим немцем. Кажется, без всякой цели, из чистого любопытства: куда немец пойдет? Где он живет? А может, потому, что немец как никто другой залюбовался небом. Он вышел из двери один и несколько минут стоял на крыльце; потом остановился на площади и посмотрел назад, где полыхали самые яркие краски заката.
Возможно, Олеся оскорбило, что фашисту может быть свойственно что-то поэтическое. Не имеет он права любоваться нашим небом!
Немец был молодой, высокий, красивый, типичный ариец, в мышастой шинели с меховым воротником, из-под которого были видны погоны обер-лейтенанта, в высокой фуражке с кокардой, с толстым желтым портфелем в руке.
А может, Олесь пошел следом потому, что, пройдя мимо, немец не обратил на него никакого внимания, не глянул даже. Почему? Из презрения? Задумался? Из уверенности, что ничто тут, в чужом городе, ему не угрожает? Или посчитал Олеся служащим управы?
Офицер пошел на Интернациональную, а потом по крутому спуску на Пролетарскую. Деревянный тротуар обмерз, был скользким, и офицер сошел с него, шагал между тротуаром и мостовой, где снег не притоптали и не было так скользко.
Олесь шел по тротуару. Замерзшие доски скрипели, пищали, пели на все лады. Но и на это многоголосие немец ни разу не обернулся. Для него было естественно, что в городе кто-то шел сзади, кто-то впереди. На Пролетарской народу было больше, и асфальтовые тротуары почищены дворниками. Перейдя мост через Свислочь, немец начал подниматься на Замковую гору.
Олесь только тут, на подъеме, почувствовал, как быстро тот идет; у него, обессиленного болезнью, началась одышка, застучало в висках.
Смеркалось, погасло пламя заката, в небе загорелись звезды.
Свернув на пустыре около темной коробки оперного театра на протоптанную тропинку, офицер впервые оглянулся и, кажется, встревожился, потому что остановился, как бы ожидая его, Олеся,
Олесь сообразил, что не нужно останавливаться, и тем же ровным шагом приблизился, почтительно отступил в снег, обходя офицера, и поздоровался:
– Гутен абенд, герр офицер.
Немец ответил:
– Гутен абенд, – и добавил еще что-то, Олесь сделал вид, что понял, пробормотал:
– Я, я, нах хауз. Фрау,.. Жена ждет...
– О, жена! – сказал немец и добавил что-то по-немецки, – наверное, пошутил, потому что сам засмеялся.
На глаза попалась менее торная боковая тропинка, которая вела к сгоревшим домам над Свислочью, и Олесь повернул туда, быстро шагая по склону вниз.
На другой день Олесь ждал около управы конца рабочего дня. За сутки погода переменилась: мороз уменьшился, небо заволокло тучами, порошил мелкий снег, и потому быстро темнело. Более торопливо расходились работники управы, меньше шутили и смеялись. Неспокойно все-таки у предателей на душе, не чувствуют они себя хозяевами в городе, подумал Олесь. А вот он, мститель, к своему собственному удивлению, был совершенно спокоен. Гулял по площади, засунув руки в карманы длинного и широкого Адасевого пальто. Несколько дней назад он надевал это пальто с чувством вины перед человеком, который где-то воюет по-настоящему, думал с презрением о себе: пригрелся около чужой жены, обул и надел чужое... Теперь не думалось об этом; пальто удобное, легкое, теплое, с глубокими карманами, новое, из хорошего драпа, оно придает вид обеспеченного человека. А кто сейчас обеспечен? Тот, кто работает у немцев! Еще дома Олесь подумал, что вещи Адася на этот раз послужат святому делу. Они необходимы, как и пистолет советского почтовика, погибшего от фашистской бомбы.
Гуляя под окнами полицейского управления, Олесь не задумывался, что может навлечь на себя подозрение, задержавшись на площади после того, как разошлись служащие. Встревожило, что офицер долго не выходит, дольше, чем вчера. Расчеты его строились на немецкой пунктуальности. Только немец мог идти со службы так, как шел вчера тот. Наверное, семью сюда привез, занял лучшую квартиру, обосновался навсегда, потому и любуется небом над городом.
Офицер вышел не один, вместе с ним было еще двое – военный в форме СС и гражданский. Олесь испугался: неужели все трое пойдут вместе? Нет, эсэсовец и гражданский распрощались, пошли в другую сторону – на Немигу. А обер остался на крыльце и, натягивая перчатки, несколько минут любовался, как кружатся снежинки, опускаясь на деревья в сквере.
Олесь только теперь заметил, что деревья, запорошенные снегом, действительно красивы. И его снова покоробило, что такой красотой любуется фашист, оккупант, Это вывело из странного, какого-то бездумно-застывшего спокойствия. Он вдруг почувствовал, что спокойствие это существует как бы независимо от него, а сам он, тело его, мозг, сердце до крайности напряжены в ожидании того, к чему он шел через многие муки, к чему готовился не только последние сутки... Но к черту все рассуждения, всяческое копание в собственных ощущениях! От этого начинается страх, неуверенность, разлад между умом и волей.
Осталось десять, максимум пятнадцать минут до решающего, самого ответственного экзамена. Обер ходит быстро – длинноногий, спортсмен, наверное. Но что это? Почему он пошел не в ту сторону? По Ленинской пошел, на Советскую. А тут, в центре, в домах, уцелевших от бомбежки и пожаров, работают магазины, кафе, и на улицах многолюдно; гуляют, конечно, в основном те, кто не боится приближения комендантского часа. Если обер зайдет в офицерское кафе или кино, все сорвется.
Олесь не мог примириться с мыслью, что можно прожить еще хотя бы час, два, а тем более ночь, не осуществив своего намерения. У него же все готово и все рассчитано до последнего шага. И враг, конкретный враг, уничтожить которого он получил приказ от самого высшего командования – своей совести, – вот он, в нескольких шагах от него идет с высоко поднятой головой, уверенный в своей безнаказанности. Невозможно отложить кару даже на сутки. Казалось, от того, когда будет заслуженно наказан именно этот пришелец, зависит очень многое не только в судьбе его, сержанта Гопонюка, но и в судьбе армии, народа.
Опасаясь, что обер вдруг нырнет в какие-нибудь двери, куда его, туземца, не пустят (у офицерских кафе стоит охрана), Олесь ускорил шаг и приблизился к осужденному, рискуя, что своим тяжелым дыханием принудит того обернуться. Вчерашняя встреча произошла в сумерки, но если у немца зоркий глаз, он по внешним очертаниям, по пальто мог запомнить того, кто шел за ним,
Об отступлении Олесь не думал, не мог думать, однако и нового плана не было – где стрелять, когда. Полагался на случай. В смертники себя не записывал, как когда-то в лагере. Спастись необходимо, – именно теперь, как, может, никогда раньше, хотелось жить.
Сжимал в кармане рукоятку пистолета так, что горела ладонь. Горело все тело, жгло внутри, стало душно. Или такое теплое Адасево пальто?
Где он, тот случай, когда с шансом на собственное спасение можно выстрелить в этот ненавистный затылок, в узковатую спину, пружинисто мелькавшую перед глазами?
Людей было много возле магазина. А дальше меньше, но если считать не людей вообще, а солдат, то их на улице больше, чем надо для того, чтобы задержать одного еще не очень сильного после болезни и не очень проворного парня. Спортсменом он всегда был посредственным – и в институте, и в армии.
Офицер прошел кафе, Олесь с облегчением вздохнул и немного отстал, чтобы не вызвать подозрительности какого-нибудь агента тайной полиции. А когда обер перешел Советскую и свернул на Комсомольскую, где дома целого квартала были сожжены, разрушены бомбежкой, а потому и на улице было так же малолюдно, как на Комаровке, как на пустыре возле Оперного театра, Олесь вновь поверил в свою счастливую звезду. Ему явно повезло. Тут все-таки можно выбрать и место, и момент, и есть где спрятаться самому– в руинах. Молниеносно возник новый план. Но уже достаточно стемнело, и нужно опять приблизиться к жертве, чтобы не промахнуться. Рука, конечно, будет дрожать от волнения, это только кажется, что он спокоен.