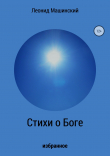Текст книги "Атланты и кариатиды (Сборник)"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
– Воля ваша.
– Не превращайся в чиновника! Я тебе не губернатор. «Воля ваша». Дело не в моей воле. Я записал бы в наш партийный моральный кодекс: наказывать за дружбу половинчатую, однобокую...
– А как же это сочетать с партийной принципиальностью?
– Принципиальность должна включать в себя искренность, душевность. И наоборот. Настоящая дружба – это прежде всего принципиальность.
«Добренький ты становишься перед пенсией», – неприязненно подумал Игнатович, хотя в душе не мог не отдать должное проницательности Сосновского. В чем-то, в чем именно, сразу не разобрался, секретарь обкома помог ему; во всяком случае, задача со многими неизвестными, которую задал ему Карнач, как-то вдруг упростилась. От этого стало легче, несмотря на проборку, которую он получил.
Между прочим, так бывало уже не раз: после разговора в этом просторном, строго обставленном кабинете многие узлы развязывались проще.
Обычно при жене или в узком кругу очень близких людей, к которым, между прочим, принадлежал и Карнач, Герасим Петрович незлобно подсмеивался над Сосновским: работник старой формации, работает методами довоенного времени или первых послевоенных лет. Мол, с такой склонностью к юмору, к постоянному веселью ему надо было пойти в актеры или в фельетонисты. Хотя шутит Сосновский метко.
Но всегда ли к месту он шутит, всегда ли соответственно своему положению? Нередко шутки Сосновского шокировали Игнатовича. Разве к лицу, например, секретарю обкома бросить такой призыв работникам города, пускай и на узком совещании: «Урбанисты, давайте прогуляемся по области. Протрясем пуза, проветрим штаны. А то некоторые забыли, откуда у коровы молоко течет»? Многие смеялись, пересказывали слова эти как анекдот. А ему, Игнатовичу, было стыдно, он даже собирался как-нибудь при случае сказать Сосновскому, что так нельзя, не те времена, не тот стиль. Но случай не выпадал.
Вместе с тем Герасима Петровича восхищала неутомимость Сосновского. Человеку шестьдесят, а он что юноша! Завидовал его энергии – нам бы такую в его годы! – и старался не отставать от своего партийного руководителя: стыдно отставать, когда тебе на четырнадцать лет меньше. А еще изумляла в Сосновском та внешняя легкость, с которой он разрешал сложнейшие вопросы. Случалось, месяц-два стучишься в какое-нибудь министерство, и никаких результатов. Обращаешься к Сосновскому. Тот берет трубку. Шутка, анекдот, библейская притча в его, Сосновского, интерпретации, и, глядишь, руководитель республиканского учреждения, которое столько времени мариновало поставленный городом вопрос, становится на диво оперативным.
Сосновского любили. Кому-нибудь другому не простили бы такого сарказма. Ему все прощали.
«Слушай, Иван, сын Архипа из Батурич, скажи ты мне, браток, солнце у вас над Терешковичами светит? Что ты говоришь? Неужто светит? А я думал, оно только тут, в городе, плавит асфальт, не выпускает нас из кабинетов. Постановления ты пишешь? Какие постановления? Как? Ты не знаешь, какие постановления должен писать? Ах, пишешь? Не взвешивал, сколько их заготовил? Чего?.. Постановлений. Что ты там, бутерброд не проглотишь? Чайком запей. Ага, вот теперь голос прорезался. Как думаешь, прокормим скот постановлениями? Гляди, строчи их побольше! Весной пригодятся».
И трубку не рычаг. Никаких цифр, никаких заданий. Пускай переваривает секретарь райкома вот такое предупреждение за то, что отстают с заготовкой кормов.
Однако не с каждым он так говорит. Знает, с кем как надо. К любому у него есть ключик. Психолог.
Игнатовича не просто удивляла – потрясала память Сосновского на людей. Сколько он их знает! Тысячи фамилий, имен, отчеств. Как имя жены, где учатся дети... Доярки, заведующие фермами, геологи, лесники, монтажники на строительстве ГЭС... Когда успевает встречаться с ними? Игнатович попробовал последовать его примеру, не получилось, почувствовал, что множество встреч распыляет его внимание, мешает другим, более важным и неотложным делам. Тогда он поставил под сомнение целесообразность тех принципов руководства, которых придерживается Сосновский. Необыкновенная память и актерские способности совсем не обязательны для руководителя нового типа, который должен пользоваться научными методами и новейшей техникой.
Сосновский, конечно, явление уникальное, но такая универсальность – рудимент. Все это выработано определенными условиями, когда это было необходимо, и, разумеется, огромным опытом: сорок лет человек на комсомольской и партийной работе. Отведал бы ты, Леонид Минович, производства, с которого начинал он, инженер Игнатович. Там психология – дело второстепенное. Ходя к рабочим на именины, производительность труда не поднимешь. Да и должность председателя горисполкома, которую он раньше занимал, вырабатывает совсем другую форму мышления. Правда, партийная работа имеет свои особенности. Он не отрицает: да, учился у Сосновского и многому научился. Но разве это не закономерно, что ученик должен подняться на ступеньку выше, не копировать, не подражать, иметь свой стиль и метод?
Игнатович был убежден, что, как руководитель нового типа, он безусловно выше Сосновского. Но, не сомневаясь в своей объективности, по-прежнему восхищался отдельными чертами характера и организаторским опытом секретаря обкома.
Вот хотя бы его проницательность – умение разгадать, чем дышит посетитель, и уловить смысл всех интонаций и оттенков голоса...
«Впрочем, какая там проницательность! Просто субъективные чувства. Вдруг ему показалось, что я с удовольствием сообщаю о несогласии Карнача с его идеей надстройки дома. Чепуха. Почему это должно меня радовать? Мелкий эпизод».
Все эти мысли беспорядочно кружились в голове Игнатовича, пока он возвращался из обкома в горком.
Сосновский не отвел ни одного городского дела, каждым занялся серьезно, на этот раз даже без своих юмористических замечаний. Это было приятно. Таков стиль работы горкома – с мелочами наверх не лезем. Внес некоторую ясность, в самом деле как будто упростил одну из нелегких задач разговор с Сосновским об отношениях Карнача с женой. А вот его слова о дружбе не понравились: книжные сентенции, абстрактный гуманизм.
С такими противоречивыми чувствами и мыслями он открыл дверь в приемную и... смешался от неожиданности.
У стола, слишком близко от Галины Владимировны, сидел Карнач, сразу видно, веселый, довольный, еще более обычного элегантный; элегантность придавал модный широкий яркий галстук; галстуки эти нравились Герасиму Петровичу, но он считал, что носить такой партийному работнику не подобает.
Галина Владимировна – пунцовая, явно чем-то взволнованная. Увидев в дверях Игнатовича, вскочила со стула, будто пойманная на чем-то недозволенном, и еще больше разгорелась, чего с ней никогда не бывало, – всегда спокойная, ровная, аккуратная, одинаково вежливая со всеми.
Герасима Петровича как током пронзила мысль: неужто она? Упаси боже. Это был бы удар, фиаско. Что скажет Сосновский, если узнает, что женщина, из-за которой Карнач бросает жену, его секретарша? Ужас. Страшно подумать. «Плохо мы работаем с кадрами, Герасим». Тогда невольно придется признать, что действительно плохо не мы – он, Игнатович, работает с кадрами. Возможная близость Максима и Галины Владимировны задела его больше, чем даже мысль о том, что скажет об этом Сосновский, еще по одной причине, совершенно тайной. Даже самому себе он не решался признаться, что Галина Владимировна нравится ему не только как хороший работник, но и как женщина. Никогда ни одним жестом он не выдал своих чувств. И никогда не выдаст. Однако это так, она ему нравится. В конце концов, твердо придерживаясь в жизни и работе морального кодекса, имеет он право хоть на одну тайную слабость? Он человек, как все люди. А делает больше многих других. Так почему же такому безответственному ветрогону, как Карнач, все можно – выпить, погулять, завести любовницу, – а ему нельзя позволить себе даже маленькой тайной радости: подумать с нежностью о красивых руках женщины, которая изо дня в день работает рядом, мысленно поцеловать эти руки?! Лишь мысленно! А думать о том, что не только руки ее целует этот нахал, просто невыносимо!
«Если правда, что она, уволю немедленно», – мгновенно, тут же на пороге решил Герасим Петрович, потому что всегда придерживался принципа: в партийных органах могут работать только морально устойчивые люди.
Стремительно, не скрывая удивления, вошел в приемную, поздоровался. Спросил без тени шутки:
– Обольщаешь Галину Владимировну?
Кровь отхлынула от лица женщины, она побледнела и ответила сурово, с укором:
– Герасим Петрович! Я уже вышла из того возраста.
– Приглашаю в театр, – просто объяснил Максим. – На открытие гастролей МХАТа. У меня есть билеты. Но ты тут установил монастырские правила. Боится Галина Владимировна. Что скажет Герасим Петрович?
– Правильно не соглашается! – одобрил Игнатович, испытывая облегчение. – У тебя есть с кем ходить в театр. С женой.
Сказал и ушел в кабинет, не взглянув, как подействовали его слова.
Галина Владимировна увидела, что Максим переменился в лице. Попросила:
– Не надо.
Но он двинулся в кабинет следом за Игнатовичем.
Тот раздевался возле двери, вешал пальто в шкаф.
Максим, закрыв внутреннюю дверь и упершись в нее спиной, как бы для того, чтобы не дать войти Галине Владимировне, сказал тихо, но с гневным нажимом – интонацией, которую свояк хорошо знал:
– Слушай. Я тебе о жене все сказал. У меня нет жены! Я не ханжа! И не коли ты мне глаза этим! Хватит!
Герасим Петрович, повесив пальто, повернулся к Максиму, пригладил волосы, приветливо улыбнулся. Появилась уверенность, что Галина Владимировна – не та женщина, из-за которой распадается семья Карнача, и настроение его поднялось.
– Не горячись. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я благословил ваш развод?
– Мне не нужно твоего благословения.
– Ты забываешь, что, во-первых, Даша не чужой мне человек, она сестра моей жены, во-вторых, положение мое...
– Ты можешь вызвать меня на бюро горкома и записать что хочешь. Но не лезь со своей поповской моралью мне в душу!
– Ну, знаешь... – возмутился Игнатович, повернулся, пошел к столу. – После этого нам не о чем говорить, – сказал с обидой, вспомнив слова Сосновского о дружбе,
– Со своими чувствами я сам разберусь...
– Ты пришел пригласить Галину Владимировну в театр? Выполняй свою миссию. У меня дела.
– Нет, я пришел к тебе. Принес копию моего письма в Совет Министров с протестом против посадки химкомбината в Белом Береге.
– С протестом? – Игнатович хмыкнул. – Тебе не кажется, что ты уподобляешься Дон-Кихоту? Но тот воевал с мельницами. А ты с кем вознамерился? Максим Евтихиевич! Долгое время я был уверен, ты из тех людей, кто рассуждает реалистически, не отрывается от земли. Что мне думать теперь?
– Полгода назад ты согласился со мной насчет «привязки» химика.
– Твои архитектурные планы, рассчитанные на пятьдесят лет, я готов поддержать и сейчас. Но есть и другие соображения. Экономические. И политические! Да, и политические. Они диктуются сегодняшним днем. Мы превратимся в бесплодных фантазеров, если будем забывать, игнорировать тот факт, что люди должны иметь работу, жилье, хлеб и мясо, и удобрения для полей нужны сегодня.
– Неужели в Озерище комбинат давал бы меньше продукции?
– А ты не пробовал узнать, во сколько добавочных миллионов влетит государству посадка на месте, которое предлагаешь ты?
– А кто-нибудь подсчитал, во что обойдется государству и людям этот подарок, когда через двадцать лет после того, как «химик» уничтожит естественный зеленый пояс, город начнет задыхаться? Или после нас хоть потоп? Так? Есть, наконец, закон об охране природы! Как мы умеем обходить его, прикрываясь самыми высокими материями!
– Химики гарантируют полную очистку.
– Какие химики? Я тоже говорил с химиками, – Максим показал на тоненькую папку, которую держал в руке. – Я учитываю заключение химиков.
– Заключение, данное за столиком в кафе или ресторане? Максим Евтихиевич! Ты же серьезный человек! – Игнатович подошел к сейфу, открыл его, достал зеленую толстую папку, – А вот тут точные расчеты двух институтов, – посмотрел на часы. – Жаль, что я должен ехать на завод, а то мог бы познакомить тебя...
– Читал я эти бумажки.
– Есть новые документы. Вот так, товарищ Карнач. К твоему сведению, принято решение горкома... Ты выступаешь против решения...
– Хочешь испугать?
– Нет. Я знаю, что ты не из пугливых. Копию письма своего оставь. Пускай хранится в архиве. Будущим биографам твоим легче будет найти еще один факт твоей высокой принципиальности.
Максим шагнул к столу, осторожно, как стеклянную, положил папку перед Игнатовичем. Вообще двигался очень осторожно, словно опасаясь, как бы что-то не оборвалось в нем или не соскочил «предохранитель с чеки», потому что последние слова Игнатовича завели его. Как хотелось ответить! И как бы он мог ответить! Но понимал, это значило бы в щепу разнести все то, что они вместе строили много лет. Нелепо, неумно из-за такой мелочи – из-за неприятно задевших слов. Медленно отошел от стола.
– Будь здоров, Герасим Петрович.
– Всего доброго, Максим Евтихиевич.
Максим вышел в приемную. Тихо, без стука закрыл дверь. Но остановился тут же с видом человека, который что-то забыл.
Галина Владимировна смотрела на него с тревогой. Она боялась, что между ним и Игнатовичем произойдет нелегкий разговор. У нее даже мелькнула мысль как-нибудь помешать им. Но не решилась. Сама была под впечатлением неожиданного предложения архитектора. Хотя ничего особенного не произошло. Максим Евтихиевич сказал Герасиму Петровичу правду: он просто пригласил ее в театр на открытие гастролей МХАТа. Но если б кто-нибудь представлял, что это значило для нее. После смерти мужа ни один мужчина не приглашал ее в театр. Три года уже. А если б и пригласил, не пошла бы, может быть, даже оскорбилась бы. Но тут пригласил человек, о котором она – боже мой, слабая, наивная женщина! – изредка, только изредка и совсем втайне, стыдясь собственных мыслей, думала немножко иначе, чем обо всех остальных, с кем встречалась по службе.
Нет, не само приглашение ее так взбудоражило, не от этого она пылала как в лихорадке, когда неожиданно появился Герасим Петрович.
Взволновал разговор, который произошел между ними. Конечно, она очень удивилась такому приглашению.
– Что вы! Что станут говорить! У вас ведь жена...
– У меня нет жены.
– Как это нет? – еще больше удивилась она, хорошо зная, что жена Карнача – свояченица Герасима Петровича.
– В ближайшее время я оформлю развод.
Вот отчего бросилась кровь в голову, в лицо так, что зазвенело в ушах и перед глазами поплыли розовые круги. Она обыкновенная женщина. А у кого из ее сестер даже после трагедии, пережитого горя не вспыхивает вдруг, в один миг, огонь надежды на то, что не все кончено, что еще раз может прийти счастье?
От приглашения она решительно отказалась.
– Тем более мне нельзя... Как вы не понимаете? В какое положение я поставлю себя перед... – она показала глазами на дверь кабинета.
В этот момент и вошел Герасим Петрович.
Но после его бестактных, прямо-таки обидных слов у нее появилось желание назло всем и всему пойти.
Теперь она зарделась от мысли, как сказать об этом Максиму Евтихиевичу. Поймет ли он такой неожиданный поворот? К тому же ситуация усложнялась тем, что в приемной были посетители – вызванные раньше работники Дома партийного просвещения. При них не станешь объяснять, что и почему.
И очень встревожило, почти испугало, как Максим застыл у двери. Конечно же, ему теперь не до нее. Сделал жест обыкновенной мужской галантности – не согласилась, стыдливая дура, будь здорова.
Но он почувствовал ее взгляд, полный страха и ожидания. Забавно тряхнул головой, как после ныряния вытряхивают из ушей воду, мягко улыбнулся ей, сказал:
– Думаю, теперь вам стоило бы согласиться на мое предложение.
Она кивнула головой.
– Я согласна. – Лицо ее засветилось и сердце затрепетало, как у девушки, которой назначили первое свидание.
Когда Максим вышел, Игнатович долго сидел неподвижно, пока Галина Владимировна не доложила о пропагандистах.
Одолевало ощущение усталости и еще, кажется, потери. Чего? Снова услышал слова Сосновского о дружбе. Какая там, к черту, дружба после всего, что произошло и происходит! Вспыхнула злость... против Сосновского. Старый моралист. Одно знает – «поговорить по душам». Но я тебе не доярка, исповеди которых ты любишь выслушивать... Ладно, признаю, сельское хозяйство ты знаешь и умеешь им руководить. А в промышленности дилетант, хотя и гордишься своим опытом. Перегнала тебя промышленность, Леня, – мстил за «Герасима». Научно-технический прогресс шагает быстрее, чем ты. Семьдесят процентов промышленности области на моих плечах. Умей ценить это, попрекал он Сосновского, хотя тот о руководстве промышленностью сегодня и слова не сказал. Но Игнатович знал ахиллесову пяту секретаря обкома и безжалостно целил туда. Вот тебе! За твой намек о моей неверности в дружбе.
Но через минуту спохватился – испугала собственная злость. Ого, куда занесло! Никогда он не давал воли таким чувством. Так можно распуститься до анархизма, сравняться с Карначом в отрицании авторитетов. А он всегда был дисциплинирован, сдержан, если иногда и критиковал кого-нибудь из тех, кто стоял выше него, то всегда делал это принципиально и уважительно.
Сосновский выдвигал его, воспитывал как руководителя. Он не «безродный Иван» и благодарен за это. Он любит Леонида Миновича. Смешно упрекать за то, что, не имея инженерной подготовки, тот не всегда может разобраться в специфических процессах современного промышленного производства. В наше время, будь ты хоть гений и пройди три технических вуза, все равно не в состоянии будешь все охватить. У Сосновского есть более важное качество – талант партийного организатора и особое чутье на людей, умение распознавать, кто на что способен.
Эти мысли успокоили и приободрили, все-таки он объективный человек!
Сказал секретарше, чтоб партпросветовцы подождали.
Набрал номер секретаря обкома.
– Леонид Минович? Я. Еще раз. Прошу простить, что беспокою.
– Не делай длинной преампулы. – Сосновский шутил: один работник любил умные слова, но говорил, пока ему не растолковали, вместо «преамбула»– «преампула»; это стало местным анекдотом.
– Не знаю, каким вам покажется мой голос на этот раз, веселым или грустным. Но считаю своим долгом сообщить... Карнач только что передал мне копию своего письма в Совет Министров с протестом против посадки «химика» в Белом Береге.
Слышались далекие чужие голоса – из-за индукции или в кабинете у Сосновского были люди. Леонид Минович молчал. Игнатович подул в трубку.
– Алло!
– Не дуй мне в ухо. Оно и так горит... Что я тебе скажу, Герасим? – Игнатович сморщился, как от боли. – Голос твой на этот раз совсем невеселый. Загробный прямо-таки голос...
«Не может человек, без своего неуместного юмора», – недовольно подумал Игнатович.
– Но почему ты звонишь мне? Страхуешься?
– Думаю, в первую очередь спросят у вас.
– Предусмотрительно с твоей стороны. Но чем я могу утешить тебя, Герасим Петрович? Устав партии и наша советская демократия разрешают Карначу обращаться в любую инстанцию. Что же касается нас с тобой, то при любом варианте накостыляют нам. Готовься,
Черт возьми, невозможно понять, когда этот человек говорит серьезно, а когда шутит. Его шарады и ребусы прямо-таки сбивают с толку. Он, Игнатович, научился не только понимать людей с полуслова, но, как говорится, видеть каждого насквозь – и руководителя и подчиненного. Сосновский же не «просвечивается», слишком густо замешан.
XII
У Галины Владимировны эти четыре дня были, пожалуй, самые трудные с тех пор, как погиб Сергей. Три года не знала таких душевных мук.
Она всегда отличалась тактом и деликатностью, но не обладала той решительностью, которая свойственна другим женщинам, особенно в сердечных делах.
Уже через несколько минут после того, как главный архитектор вышел из приемной, она усомнилась в своем праве идти с ним в театр. А потом опять убеждала себя: вот нарочно пойдет, назло всем, и в первую очередь Игнатовичу. За его бестактный вопрос.
И так все четыре дня чередовались сомнения с решимостью, желание со страхом – идти или не идти?
Если б все не было так запутано, если б пригласил кто-нибудь другой, не Карнач, она, наверно, посоветовалась бы с Герасимом Петровичем, простив ему грубую шутку. Галина Владимировна уважала секретаря за его стиль работы, за решительность в словах и делах, чего так не хватало ей. С ним хорошо работалось. Игнатович тоже, она знала, был доволен ею, благодарил товарища, который после смерти Гордеичева порекомендовал вдову пилота, молодую коммунистку, в горком партии.
В день открытия гастролей она нарочно оделась проще и скромнее, чем обычно, не по-театральному. Правда, повертела в руках новые туфли, но не взяла их. На работе в ящике стола она держала довольно хорошие еще, но старые и уже немодные туфли, удобные, чтоб ходить в них целый день.
Не уверенная, что в последнюю минуту не передумает, Галина Владимировна решила нарочно задержаться на службе, чтоб не осталось времени съездить домой переодеться.
Но часа в четыре позвонил он, тот, о ком она думала все эти дни.
В приемной были люди, и Галина Владимировна попросила вежливо, но официально позвонить через пятнадцать минут. Скоро у Игнатовича начнется совещание и приемная опустеет. Но не на это она надеялась в тот момент, на другое – он обидится и больше не позвонит.
А он позвонил. В приемной было пусто. Она попыталась отказаться:
– У Герасима Петровича совещание. Я не могу уйти, пока оно не кончится. А потом я не успею переодеться.
– Плюньте на все совещания. Один раз. Я отвезу вас на машине. Домой. И назад. Ровно в половине шестого буду у вас.
Она задохнулась от страха и... радости. Шепотом попросила:
– Не поднимайтесь, пожалуйста. Я сама выйду.
Зимний день короток. Было уже темно. Но на тихой улице под голыми каштанами горели яркие фонари,
Максим знал, что Галина Владимировна будет озираться, как новичок преступник, и поставил свой «Москвич» подальше от здания горкома. Встретил ее пешком, как бы случайно.
В машине она села на заднее сиденье. Он улыбнулся этой наивной уловке – в театр пойти отважилась, а в машине садится подальше – и, повернув зеркальце так, чтоб видеть ее лицо, включил свет – посмотрел на нее.
Вид у женщины был невеселый. Максиму стало жаль ее.
Впервые явилась мысль отказаться от своей довольно-таки авантюрной затеи.
На открытие гастролей придут многие работники областных и городских организаций, даже те, кто годами не бывает в театре. И многим из них, главное, женам – силе очень страшной – он бросит вызов, почти такой же, какой бросил своим самоотводом. Но он шел на это сознательно, чтоб одним махом перечеркнуть все условности. Пускай узнают все сразу. Пускай поговорят. Через все это надо когда-нибудь пройти.
Он не чувствовал за собой вины и потому не видел необходимости делать из развода тайну. Но зачем ему впутывать в свою трагикомедию эту постороннюю женщину, с которой он, по сути, еще и мало знаком?
Военный городок, где она жила, находился на ближней окраине, у реки. Чтоб проехать туда, надо было выписывать пропуск. Долго. Он остался с машиной у ворот, а она побежала. Дом от проходной был недалеко, метров четыреста. Но, может быть, от мороза, который к вечеру усилился, у нее так перехватило дыхание, что она, вбежав в теплую квартиру, совсем задохнулась.
Пятилетний Толик кинулся ей на шею.
– Мама пришла!
Дочка-четвероклассница, хозяйка и нянька, смотрела на мать удивленно, догадываясь, что случилось что-то необычное.
Галина Владимировна, отдышавшись, сказала:
– Дети, я иду в театр. Поиграйте сами.
Постаралась сказать это самым будничным тоном, как будто поход в театр – дело обычное, ходит она туда, по меньшей мере, каждую неделю.
– И я с тобой, мамочка! – захныкал Толик.
Таня не сказала ни слова, повернулась и пошла на кухню.
Оттуда спросила тоном свекрухи:
– Есть будешь? Подогреть?
Галина Владимировна зажала рот руками, чтобы не закричать, не завыть по-бабьи от своего вдовьего горя. Там, в горкоме, она почему-то не подумала, что ей придется пройти еще и через такое испытание.
Да, надо пройти. Надо победить! Не сдаться. Переступить некую невидимую грань. Она и так жила три года только для детей.
Бросилась в комнату. Торопливо скинула свою простенькую юбку, кофточку.
Толик – молодец, мужчина. Крикнула ему, что детей вечером в театр не пускают, что она поведет его в воскресенье, и он отстал, уже где-то на кухне ведет в атаку свой воображаемый отряд десантников.
Открыла шкаф, чтоб выбрать платье получше, и вздрогнула – еще одно испытание! Вдруг поняла, что ни одного из тех платьев, которые покупал Сергей, в которых она ходила с ним, надеть не может. На работу наденет, в театр – нет. Вынула шерстяной костюм, который купила прошлым летом и в котором теперь, в зимнее время, почти каждый день ходит на работу.
Когда причесывалась, в зеркале увидела, как из другой комнаты наблюдает за ней дочка. Какие у нее глаза! В них грусть, боль, разочарование, укор! Застыла с поднятым гребешком, с распущенными волосами. Боялась шевельнуться.


Таня, должно быть, поняла, что мать заметила ее, спряталась за стену. Тогда она позвала ее неожиданно для себя твердо, будто приказывая:
– Таня!
Дочка появилась в дверях.
– Что, мама? – как всегда, послушная, вежливая.
Классная руководительница как-то сказала, что Таня могла бы учиться лучше. Она, мать, ни разу не решилась передать дочке эти слова, зная, какой груз она взвалила на худенькие детские плечики; хорошо, что учится на четверки.
Галина Владимировна повернулась и, глядя на дочку, стала быстро, по-домашнему скручивать волосы в привычный узел, в зубах она держала, шпильку.
– Что, мама? – повторила девочка.
Мать вынула изо рта шпильку, воткнула в волосы.
– Ты... не хочешь, чтоб я шла в театр?
Таня потупилась и не ответила.
Мать шагнула к ней, но, будто сил не хватило, опустилась на кровать.
– Я три года нигде не бывала. Ни в театре. Ни в гостях... Таня... Танечка... Мне тридцать четвертый год. Мне хочется еще жить...
И не выдержала, заплакала. Даже не закрыла лица, не упала на подушки. Только согнулась, как от сильней боли в животе, и затряслась от рыданий. Наверно, при одной Тане заплакала бы вслух, но подумала о сыне, как бы не привлечь его внимания. А Таня вдруг упала перед ней на колени, обняла, уткнулась головой в подол.
– Мама! Мамочка! Не надо! Не плачь. Прошу тебя. Ну конечно же, иди в театр. Я за Толиком присмотрю. Не волнуйся...
От дочкиной сердечности и ласки еще сильней хотелось плакать. Она целовала ее мягкие волосы и орошала их слезами.
– Мама... – прошептала Таня, – если он хороший... я буду его любить. Клянусь тебе, мамочка.
Вмиг высохли слезы.
Она сжала ладонями Танину голову, посмотрела в глаза.
– О чем это ты говоришь? – и засмеялась. – Глупенькая моя и маленькая! Кто мне нужен... Никто мне не нужен! Никто! Кроме вас с Толиком!
И сама поверила, что никто ей не нужен, что человек, который ждет ее в машине, абсолютно ничего для нее не значит; просто так, случайное приглашение.
И успокоилась. Почти весело с помощью Тани закончила сборы. Без колебаний надела шубу, которую Сергей когда-то привез из одной дружественной страны, где обучал товарищей летному делу. Поцеловала детей. Без спешки, не торопясь, чтоб не обращать на себя внимания соседок – жен летчиков, вернулась к машине. Села на переднее сиденье.
Максим с некоторым удивлением оглядел ее дорогую шубу, от которой еще пахло шкафом.
– А я, застывши на морозе, подумал уже, что вы не придете.
– Что вы! Грех отказываться от такой возможности. Когда-то в институте я играла в народном театре.
– О-о!..
– Вас это удивило?
– Почему-то удивило. Может быть, потому, что в жизни, мне кажется, вы совсем не актриса. Никогда не играете. Между прочим, за это вас любит весь городской актив.
Она не ответила. Некоторое время вообще молчала.
Максим подумал: окунулась в минувшее или улетела в будущее? Но он ошибся, она думала о сегодняшнем дне. Фраза его про актив почему-то напомнила, что жена архитектора – сестра жены Игнатовича и что шефу – во второй раз назвала его так, с оттенком иронии, – безусловно, не понравится ее нынешний поступок.
Она спросила почти шепотом:
– А жены... вашей... не будет?
Максим резко затормозил машину. Остановился. Посмотрел на нее. Черт возьми, как он не подумал, что Даша может прийти с Игнатовичами? Наверно, придет, потому что любит показать на людях свою причастность к искусству. Неплохо окончательно дать ей понять, что от их союза ничего не осталось, что он открыто, без ханжества готов пойти на сближение с другой женщиной. Но смолчит ли она? Скорее всего учинит скандал. На ее стороне формальное преимущество: никто не знает, как они живут, но все знают, что они муж и жена. Поддержат ее. Права свои, писаные и неписаные, Даша усвоила отлично.
– Назад? – опять-таки шепотом спросила Галина Владимировна.
– Назад? Нет! Только вперед! После такой подготовки – и отступать? С Дарьи Макаровны, пожалуй, станется учинить скандал, но мы не дадим ей этой возможности. Мы сядем врозь.
Она нервно рассмеялась.
– Вы предусмотрительны. Но зачем вам такая партнерша?
Максим поставил машину не на площади, а в проулке за театром. Галина Владимировна спросила озабоченно:
– Не уведут?
– Ее уже три раза крали. Но возвращали обратно. Один наглец даже письмо оставил с благодарностью. Я хочу, чтоб украли совсем. Может быть, тогда мне, как потерпевшему, продали бы без очереди новую. А то эту больше латаю, чем езжу на ней.
У театрального подъезда она смущенно попросила:
– Дайте мне билет.
Максим достал билеты, один оторвал ей.
– Так рядом же, – испуганно сказала она.
– Не волнуйтесь. Вы будете сидеть далеко от меня.
Когда передавал билет, почувствовал, как дрожит ее рука – женщину трясло. Грустно подумал:
«Проклятые условности. Сколько надо пережить, чтоб пойти с человеком в театр. Первобытные нравы!»
Галина Владимировна быстро взбежала по ступенькам. Театралов у входа было много, несмотря на мороз. Слышались вопросы: «Лишнего билетика нет?»
Максим увидел Лизу Игнатович. Она стояла за колонной и кого-то ждала. Вряд ли Игнатовича. Скорее Дашу. По тому, как Лиза посмотрела на него, понял: видела, с кем он вышел из переулка. Но это не испугало, наоборот, развеселило. Лиза не в пример сестре неглупа, обтесалась на комсомольской и профсоюзной работе. Интересно, как она себя поведет?