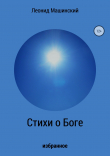Текст книги "Атланты и кариатиды (Сборник)"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
– А ну, морда, поделись с людьми! – сказала она мужчине и тут же начала откладывать в сторону свою часть.
– Пошла ты!.. Не тронь!
Но она послала его еще дальше.
– Ты со мной, паразит, не заедайся. Ты меня знаешь. У меня тут вся милиция своя, а тебя, видела, милиция под ручки водила.
– Кончилась твоя милиция. Пятки подмазала. Догоняй под Москвой.
Ольгу ошеломило это и испугало больше, чем бомбы. На какое-то мгновение она смутилась, готовая отступить. Но тотчас подумала, что если в самом деле и милиции уже нет, власти то есть, в дураках же она останется, когда из-за честности своей ворон будет ловить в то время, как другие наживаются. Со школьной скамьи знала, что все добро – народное. А раз народное, рассудила она, то, значит, и ее. Разве она не народ? Разве мало потрудились отец ее, муж, братья? Да и сама она не барыней по Минску ходила. Не отдавать же все вот такому лодырю и пьянчуге, как этот красномордый. Мародер, видно, и в самом деле хорошо знал молодую Леновичиху, потому что хотя и матерился страшно, и обещал перебить ей ноги, но вынужден был уступить какую-то часть своей нелепой добычи. В конце концов, десять лопат или дюжина чугунков и правда на черта ему...
Ольга отнесла этот железный клад домой и тут же, попросив соседку присмотреть за дочкой еще какое-то время, кинулась промышлять дальше. Не упустить бы момент! Она и так, кажется, уже многое проворонила, прячась от бомб в погребе.
Выбежала на Советскую улицу – только там, на центральной магистрали, можно узнать, что же творится в городе. После утренней бомбежки в центре и около вокзала полыхали пожары. Милиции и впрямь не было видно. Прошла военная часть, какой-то полк, солдаты, усталые, запыленные, некоторые с окровавленными повязками на головах, на руках. Неужели оставляют город? Слухи о наступлении немцев ходили самые невероятные и противоречивые: одни говорили, что немцы уже под Минском, другие – что обошли Минск, заняли Борисов, а Ольгина школьная подруга, работница типографии имени Сталина Лена Боровская, горячо доказывала, что все сплетни о разгроме Красной Армии под Гродно и Барановичами распускают фашистские шпионы. Но что нашим приходится туго, это, пожалуй, и из передач по радио можно понять: не говорят, что наши наступают – только ведут упорные бои. Откуда же идет полк? Боя за Минск не слышно, одни бомбежки беспощадные, да прошлой ночью стреляли из пистолетов и винтовок где-то на Болотной станции.
Красноармейцев Ольга пожалела. И женщин, которые испуганно уходили с детьми, с узлами, своих нелюбимых покупательниц, тоже пожалела. А вот к сидевшим в трех легковых машинах, что промчались мимо, почувствовала злость.
– Драпают начальнички, – злорадно сказал какой-то мужчина, стоявший рядом с Ольгой в подъезде шестиэтажного Дома коммуны, и подчеркнуто издевательски пропел: – «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим...»
Ольга засмеялась и по-мальчишески, чего не делала со школьных лет, свистнула вслед легковушкам. Но когда этот лысоватый, хотя и нестарый еще тип, аккуратно побритый, наодеколоненный, в чистой, вышитой васильками рубашке, почувствовав, очевидно, в ней единомышленницу, попробовал доверительно заговорить, Ольга ответила ему так, что его поблекшие глаза на лоб полезли.
Она смотрела на беженцев, некоторые – видно было по ним – шли издалека, и злость ее на тех, кто уезжал на машинах, росла. Вместе с ней, со злостью этой, пробуждалась какая-то дикая сила, росло бешеное желание, которого прежде никогда не возникало, – ломать, крушить, разбивать, жечь все, что оставалось, делалось ничейным. Но даже это Ольга постаралась направить на свое, себе выгодное – стала убеждать себя, что раз те, кто имел власть, убегают, а она никуда удирать не собирается, потому что некуда ей уходить, то хозяйка тут она и все добро принадлежит теперь ей. Уверенная, что не одна она такая умная, другие тоже не дураки, так же рассудят, кинулась искать, где и чем можно поживиться. И быстро нашла. На улице Куйбышева грабили гастроном, правда, несмело еще – вырвали решетку и выставили окна со двора; молодые мужчины, среди которых она узнала одного своего, комаровского, подавали друг другу ящики с водкой и вином. Женщин, видно жительниц дома, не подпускали, те хватали по бутылке из вынесенных ящиков. Но Ольга смело влезла в магазин через то же окно. Грабители, хозяйничавшие там, растерялись от такой ее смелости, хоть и глотнули уже из бутылок. Но тот, знакомый, с Комаровки, крикнул им:
– Это же Леновичиха!
Имя как бы все разъяснило, и ее не только тут же приняли, но считали уже, пожалуй, заводилой; арестуй их в тот момент милиция, непременно все эти «смельчаки» показали бы на нее: она первая! Ольга почувствовала это, поняла и ни в какой шайке-лейке быть не желала, ненавидела пьяные морды, презирала их, считала бандюгами, которым лишь бы водки налакаться, А себя оправдывала тем, что берет не для пьянства, не для забавы – кормить ребенка, кормиться самой. Иначе кто же теперь о ней позаботится, когда муж воюет, брат воюет? Впрочем, опыт коммерсантки подсказывал, что в будущем очень ценным продуктом станет именно эта мерзкая горькая, проклинаемая многими женщинами, Поэтому, как это делали и мужчины, она в первую очередь схватила ящик водки, вскинула на плечо. А в магазин через разбитую витрину уже лезли женщины, дети, и Ольга поняла, что, пока она отнесет водку домой и вернется назад, в гастрономе ничего не останется. А тут ведь и еще кое-что есть! Попробовала на другое плечо взвалить ящик рыбных консервов, но почувствовала, что два ящика не донесет. Попался на глаза неполный мешок макарон – удобней нести. Нет, мало. Конфеты! Остаются конфеты. Насовала конфет всюду, откуда они не могли высыпаться, даже в рукава, в рейтузы. Семь потов пролила, пока дотянула все домой по июньской жаре. И сразу же бросилась назад.
В гастрономе были уже выбиты двери, но женщины расходились с пустыми руками. Ольга вбежала в магазин, не очень задумываясь, почему люди так странно ведут себя, и... увидела милиционеров. Испугалась. Вот те и нет власти! Их было двое, милиционеров. Старшина стоял перед пьяными грабителями и, сжимая в опущенной руке наган, спокойно, устало просил:
– Граждане! Прошу – разойдитесь. Буду стрелять. Ей-богу, буду стрелять...
Мужчины, несмотря на хмель, револьвера испугались, сбились в кучу, как телята, матерились, давили сапогами витринное стекло. Не выходили, видимо, опасаясь поворачиваться спиной к оружию. Но именно неуверенность хранителей порядка вновь возмутила Ольгу: ведь власть рушится, так какого дьявола два дурака разводят тут антимонии! И она бросилась вперед, закрывая собой грабителей, рванула кофточку, специальную, на кнопках, чтобы удобнее было кормить дитя, и кофточка расстегнулась, обнажив полные груди.
– На, стреляй, убивай своих, падла ты! Начальнички твои пятки подмазали, а тебя, дурака, оставили стеречь добро. Для кого? Для немцев? Для Гитлера? А не шпион ли это переодетый?
Подбодренная пьяная компания с возмущением загудела.
– А ну, поговори, поговори, зараза! Заучил одно: «Буду стрелять...» Я тебе стрельну! Маму родную забудешь!
Побледневший старшина начал отступать ближе к дверям, которые выходили во двор, а товарищ его, так и не доставший из кобуры наган, сморщился, бросил с горечью:
– Застегнись, дура, – и вышел на улицу.
Не обращая внимания на милиционера и на осмелевшую благодаря ее выпаду пьяную компанию, Ольга подошла к прилавку, взвалила на плечи брошенный кем-то ящик с консервами да еще прихватила плетеную бутыль с растительным маслом.
Вышла уверенно и так же уверенно, твердо пошла дальше, но на улице вдруг показалось, что дуло револьвера нацелено ей в затылок. По спине заструился ледяной пот, онемели ноги. Чувствовала, что, если обернется, с ней случится что-то страшнее, позорное. Как в кошмарном сне, до сознания вдруг долетели голоса женщин, на которых она боялась глянуть:
– Одним можно, другим нельзя. Одна шайка. Спекулянтка эта давно с милицией снюхалась. Ишь сиськи показывает, бесстыдница!
Оглянулась она только в безлюдном переулке. Никто за ней не шел, лишь навстречу пробежала бабка, спросила удивленно, как спрашивали до войны:
– Где дают?
Ольга опустилась на песок, села, как курица, нехорошо засмеялась. Хотела крикнуть женщине, пробежавшей мимо: «Беги, беги, старая раззява, дадут тебе фигу!» – но силы хватило только на то, чтобы с песка пересесть на ящик, закрыть его юбкой. Слова застряли, слиплись в пересохшем горле. Не сразу сообразила, почему так безлюдно вокруг, пока над головой не заревели самолеты. Они шли очень низко, черные, с желтыми крестами на крыльях, точно драконы из страшной сказки или сна. Ольга сжалась, втянула голову в плечи, с ужасом ожидая, что вот-вот посыплются бомбы. Но прятаться не бросилась – бежать надо было в чужой двор. С такой добычей – в чужой двор? Перед теми, кто грабил вместе с ней, перед милиционерами стыдно не было, а вот перед людьми, которые прячутся где-то на своих огородах от бомбежки, она не могла явиться с награбленным – им же объяснять все придется. О том, чтобы бросить ящик и бутыль на улице и скрыться самой, даже и не подумала. Самолеты прошли быстро и сбросили бомбы где-то за городом, – по-видимому, на военный городок или радиостанцию.
Первые дни небо укрывали разрывы зениток, это успокаивало – их, горожан, защищают. Сейчас не отозвалась ни одна зенитка, город точно замер. Ольга впервые почувствовала приближение чего-то страшного.
Ноша ее стала такой тяжелой, что Ольга едва дотащилась с нею домой. И сразу же схватила на руки Светлану, прижала к груди, целовала со слезами радости и умиления пухленькие щечки, ручки, ножки. Малышка весело смеялась, радуясь материнским ласкам, и на своем смешном детском языке жаловалась на бабушку за то, что та носила ее в темный и сырой погреб. А тетка Мариля, прожившая в бедности, но имевшая свои радости, поняла, почему Ольга так набросилась на ребенка и что она могла пережить в магазине или под бомбежкой, – из погреба не очень разберешь, где бомбили, далеко или близко, Сказала, кивнув на консервы, то, о чем думала Ольга там, в переулке, когда над головой летели самолеты:
– Осиротишь ты ребенка из-за своей жадности. Что я буду делать с ним?
– Не пойду больше, тетка Мариля. Не пойду, – поклялась Ольга. – Пусть оно пропадет все пропадом. Такого страха натерпелась. Там дурак милиционер стрелял. – Теперь уже казалось, что милиционер действительно стрелял. – А потом самолеты... так низко летели, что чуть за трубы не задевали. Где наши зенитки? Где наше войско?
Слух, что Леновичиха таскает в дом награбленное добро, быстро разлетелся по улице. Одни позавидовали ее проворству: «Вот баба, нигде не растеряется – ни на войне, ни в пекле». Другие осудили: «Ненасытная! На войне и то нажиться хочет. Ой, вылезет ей все это боком!»
Пришла Лена Боровская, по-дружески упрекнула:
– Олька! Что это ты делаешь, дуреха? Да ты знаешь, что по военным законам за это расстрел? Во все времена за мародерство расстреливали.
Ольгу, которая только что клялась тетке Мариле и себе, что никуда больше не пойдет, пусть там хоть золото лежит, слова подруги вдруг опять разозлили.
– Кто это меня расстреляет? Ты?
– Не я. Власть советская. Армия.
– Где она, твоя власть? Наплевать ей на нас с тобой! Это только такие дуры, как ты, комсомолки, пели, что разобьем врага на его земле! Разбили? Дойдем до Берлина! Дошли? Армия меня расстреляет? Нет, армии не до меня! Пусть армия немцев остановит, тогда я грабить не буду! А так иди послушай: люди говорят, немцы не сегодня, так завтра Минск займут... Для кого же вы добро стережете?
– Какие люди? Шпионы? Паникеры? Кого ты слушаешь, Ольга? – Лене до слез стало обидно и страшно. Что же это происходит? Отчего столько злости у ее школьной подруги, когда-то веселой девчонки, хохотушки? С кем же она дружила? С врагами? С кулаками? Не случайно они торговлей занимались. Ишь ощерилась, как тигрица, даже побелела от злобы.
– Не захватят немцы Минска! Не дойдут! – закричала Лена с отчаянной убежденностью. – Руки коротки!
– Ох, длинные у них руки, Леночка! Да не в погребе ли ты сидишь все время? Ничего не слышишь, ничего не видишь...
– Да уж не бегаю магазины грабить.
– А ты меня не упрекай! Не упрекай! Я о ребенке своем думаю. Ты о нем не подумаешь! И начальники твои, которые драпают, не подумают.
Поссорились они шумно, по-бабьи. Ольга ругалась грубо, материлась, к чему Лена не привыкла, хотя и жила на Комаровке. Выбежав на улицу, она, как маленькая, заплакала навзрыд. Но и у Ольги было не легче на душе. «Завела» ее Лена, растравила свежие раны, она еще больше рассердилась, а на кого – сама не понимала: на Гитлера, на нашу армию, на Лену, а может, на самое себя – за свой страх и отчаяние? Но страх постепенно отступил, и вновь появилась шальная смелость, азарт охотника на дикого зверя, желание рискнуть еще разок. Опять не сиделось дома, неизвестная сила, какой-то душевный протест, а может, просто жадность, за которую люди упрекали еще ее мать, тянули на улицу, на поиски брошенного добра и новостей.
Под вечер, после грозового дождя, она опять вышла за добычей. Шла, как кошка, которая знает, чувствует, что рядом собаки. И вокруг все насторожилось, даже небо, затянутое облаками и дымом от притушенных июньским дождем пожаров. Отвратительно пахло какой-то гарью, будто горел скот или склад шерсти. И дым этот не поднимался вверх, а стлался по земле, по улицам и переулкам. Город притаился, обезлюдел, редко появлялся такой же, как она, настороженно-испуганный прохожий. Даже на Советской и Пушкинской, где никогда не останавливалось движение, где с началом войны все гудело и дрожало от танков и грузовиков, теперь не было ни машин, ни людей. Гул стоял где-то далеко за городом, на Логойском тракте, будто опять приближалась гроза. Не знала Ольга, что не на западе, не под Дзержинском или Раковом, а на севере, под Острошицким городком, шел последний тяжелый бой за Минск, бойцы и командиры Сотой дивизии преграждали дорогу немецкой танковой колонне, рвавшейся на Московское шоссе, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.
Опустевшие улицы пугали Ольгу, и она готова была уже вернуться домой. Но подбодрили ее дети, мальчишки: в песчаном переулке за католическим кладбищем они сооружали на дождевом ручейке плотину, старались остановить напор быстрой воды, стекавшей с Долгобродской улицы. Все это говорило о том, что жизнь идет и ничто не может ее остановить – в это Ольга твердо верила. А значит, и самой нужно жить, растить дочь. Для этого необходимо иметь хлеб или на хлеб. Только подумала о хлебе – и он тут же возник перед глазами. Не воображаемый, настоящий. Двое, мужчина и женщина, тянули тачку, на ней – мешки с мукой, да не с ржаной, с белой, пшеничной: видно было по тому, как эти двое запылились, будто мельники, – так пылит только мука тонкого помола. Ольга сразу же бросилась к ним:
– Откуда?
Они не таились, ответили просто:
– С хлебозавода. Спеши, – может, захватишь.
Ольга тут же забыла обо всех опасностях, какие могли подстерегать в обезлюдевшем городе, не устрашилась даже хорошо слышной артиллерийской канонады где-то со стороны Жданович.
Ворота на завод были раскрыты. В цехах с мертво застывшими печами, мешалками, конвейерами, с широко распахнутыми дверями и окнами Ольге сделалось не просто страшно – жутко. На улице играли дети, а тут дохнуло самым страшным, что несла война: замерла основа жизни – остановилась выпечка хлеба. Пахло мукой, кислым тестом, печи были еще горячие, пахло хлебом, но хлеба не было, валялось только несколько буханок, кощунственно втоптанных Сапогами в пыль и грязь. И нигде – ни живой души. Ольга подобрала две такие буханки, сдула с них песок, вытерла платком. Цену хлеба в свои двадцать лет сна знала хорошо, хотя и не помнила, чтобы в их доме когда-нибудь не было на столе краюшки, далее в начале тридцатых годов, когда ввели карточки. Отец получал карточки на заводе, а мать добывала хлеб из травы, как она иногда шутила, вынося овощи на рынок.
С этими буханками Ольга намеревалась кинуться назад, потому что было здесь действительно жутко, среди кафельной и мучной белизны, загрязненной множеством людей, видимо, недавно, после дождя уже, побывавших тут. Как можно опоганить таксе святое место! Но вдруг она услышала приглушенный гул толпы где-то во дворе и, подбодренная присутствием людей, побежала туда. В дальнем углу двора, около склада, стояли люди, стояли почти тихо, в очереди; склад не разворовывался – хлеб раздавали четверо мужчин, из них двое в красноармейской форме. И это как-то сразу успокоило Ольгу и даже погасило ее злость на власти, ибо двое в гражданском по всему выглядели начальниками. Давали на человека мешок, не больше. Когда какой-то мужчина начал требовать больше, военный соскочил с площадки вниз и повел его в сторонку, к ограде. Люди притихли, ожидая, что того расстреляют. А Ольге хотелось кинуться на выручку. Разве можно молча смотреть, как убивают человека! Кто имеет право убивать за то, что человек попросил хлеба? Но военный вскинул винтовку на плечо и просто, даже весело, дал жадюге коленкой под зад. Толпа засмеялась, видно было, что люди все больше проникались уважением и доверием к тем, кто раздавал муку. Когда подошла Ольгина очередь, она все еще держала в руках, прижимая к груди, помятые буханки, и поэтому полный начальник удивленно посмотрел с высоты на ее занятые руки и спросил:
– Донесешь?
– Кто это хлеба не донесет! – ответила Ольга.
– Это правда, – согласился он и сам ловко перекинул тяжелый мешок на край разгрузочно-погрузочной бетонной площадки.
Ольга зажала буханки под мышкой, повернулась спиной и, схватив зашитый мешок за «рог», легко вскинула его на плечо. И легко пошла.
По дороге несколько человек спрашивали у нее так же, как спросила она у тех, что везли мешки на тачке: «Откуда?» Ей сказали правду, она правды никому не сказала, потому что решила вернуться назад. Чего же звонить? Чтобы туда сбежалось полгорода? Такая новость разлетится быстрее, чем по радио, быстрее воздушной тревоги. Ей захотелось, чтобы началась тревога, заревели сирены, чтобы никто не вылезал из бомбоубежищ, из погребов, чтобы даже те, около склада, разбежались: тогда там могла бы остаться мука только для нее, а так растащат, живодеры, – те, с тачкой, вон целых два мешка везли. Разве не вернутся еще раз?
Мешок был все же тяжелый, не по ее женской силе. Сбросив его дома, Ольга обессиленно повалилась на кровать и несколько минут лежала неподвижно, даже к дочке не кинулась, как обычно, хотя малышка звала ее, тянулась ручками. Не видела Ольга, как тетка Мариля, глядя на нее, укоризненно качала головой, но уже ничего не говорила, поняла, что упрекать Леновичиху – напрасно тратить слова.
Но лежать не было времени. Вскочила, бросилась к клети. Там стояла тачка на резиновом ходу, сделанная когда-то еще отцом, чтобы матери было легче возить на рынок зелень, картошку и мясо заколотых кабанчиков. Прихватила дерюгу – накрыть добытое, чтобы не каждому бросалось в глаза, что она везет.
Проходя с тачкой мимо дома Боровских, Ольга вспомнила свою утреннюю ссору с Леной, почувствовала вину перед ней и неловкость за свою скаредность: никому из соседей про муку не сказала, а им же тоже есть надо, у многих не по одному ребенку и отцы в армии. Рассудила, что кричать о муке на всю Комаровку – дурой надо быть, но Лене стоит сказать и таким образом помириться с подругой: пусть знает, что она, Ольга, не злопамятная, а заодно и оправдаться перед своей совестью – не одна пользовалась, другим сказала.
Забежала во двор, в дом не вошла, полезла в куст сирени, осыпавший ее буйной росой, добралась до окна. Постучала. Выглянула старая Боровская.
– Лену!
Лена вышла заплаканная, с красными глазами.
– Чего ты ревешь? Что случилось?
– Боже мой! Ты не знаешь, что случилось? «Вспомнила комсомолка бога», – с иронией подумала Ольга.
– На хлебозаводе муку раздают. Пойдем. Не лови ворон. Свои же раздают.
Лена как-то странно вздрогнула от этой новости, будто испугалась очень, и глянула так, что Ольге на миг сделалось нехорошо, какую-то вину свою почувствовала, в этом крушении привычной для Лены жизни. Но тут же разозлилась на себя. А ее жизнь разве не рушится?
– Не пойдешь? Дура! Ну и реви о своих партийцах! Они о тебе не подумают, – и даже плюнула со злости в сирень, роса на которой загорелась каплями крови в лучах вечернего солнца, вдруг пробившегося через тучи и дым.
...Канонада, грохотавшая где-то у Заславля, стихла. Только со стороны Логойска все еще слышался странный гул, приглушенно-тревожный, точно лесной пожар.
Народу на улицах стало больше, чем два часа назад, и все куда-то спешили, при этом как бы таясь друг от друга. На Горьковской мимо Ольги промчались три всадника в казацких бушлатах. Один из них развернул коня и направил прямо на нее. Она испугалась, но казак крикнул:
– На Московское шоссе не ходи! На Могилевское... на Могилевское пробивайся! – и помчался догонять товарищей.
Ольгу тронула забота красноармейца, дрогнуло сердце, заболело, натруженное, сдавило горло: свои, родные отступают. Но через минуту мысли приняли другое направление: подумалось, что всадник посчитал ее беженкой. Ругала себя. Как это она раньше не додумалась пойти с тачкой? Сколько можно было взять в гастрономе! Покрыть дерюжкой, запылиться... Никто бы не остановил беженку, не стал бы проверять, что в тачке.
Муку, конечно, раздали без нее. Но несколько мужчин и женщин все еще шныряли по складам, по цехам, по остывшим печам. Какая-то старуха нагребла два красных пожарных ведра прокисшего теста. Тесто Ольгу на соблазнило – на день-два поросенку, стоит ли из-за этого рисковать?
Мужчины разбили ящик с сухими дрожжами. И бросили. Дрожжи мужчин не интересовали, они не понимали их ценности. Ольга подождала, пока они разойдутся, и собрала дрожжи. Потом в углу цеха нашла соль, высыпанную из разорванных мешков, смешанную с грязью. Вспомнила: когда два года назад начался поход в Западную Белоруссию, мать ее и все комаровские в первую очередь покупали соль, мешками таскали. Соли у нее дома был порядочный запас, но все равно упорно ползала на коленках и собирала соль пригоршнями, пока не испугала ее, да и всех остальных пулеметная очередь. Стреляли где-то близко – уж не в Веселовке ли? Некоторые и пожитки свои бросили. Ольга не бросила. Бегом катила тачку с солью и дрожжами. Но уже у самого дома ее ограбили трое франтоватых бандитов. Хорошо одетые, в черных костюмах, даже культурно говорили, не матерились. Но когда она попробовала по-бабьи запричитать, один показал револьвер и пригрозил:
– Молчи, а то разложим под забором. Больше потеряешь. Скажи спасибо, что времени нет.
При всей своей смелости и бесшабашности она со школьных лет больше всего боялась насилия, смерти так не боялась, как позора. Спросила примирительно:
– Да зачем же вам соль с песком да дрожжи?
– Нам все пригодится, – сказали бандиты и покатили тачку не в тихий переулок, не во двор, а на Советскую улицу. Выходит, никого и ничего не боялись.
Произошло это, когда не совсем еще стемнело, из окон наверняка смотрели люди. Но Ольга и не надеялась, что кто-то выйдет защитить ее. Защитить мог только тот казак, который позаботился о ее пути. А что же будет ночью? Впервые подумала, как страшно, когда город и люди остаются без власти, некому будет пожаловаться, не у кого искать защиты.
На другой день Ольга узнала, что в Минск вступили немцы. И недели не прошло, как началась война. Она не понимала, что случилось. От этого становилось страшно не только за себя, за своего ребенка, но и за что-то значительно большее, – возможно, за всю страну или за саму жизнь. Однако чувство это было еще довольно смутным, неопределенным, осмыслить всего она не умела. Представления о происходящем в стране, на фронте, в мире были у нее примитивные, комаровские. Как обороняли Минск наши войска и как захватили город гитлеровцы, она тоже не знала. Вчера ее испугало безвластие, поэтому хотелось, чтобы какая-то власть, порядок были, и вместе с тем не оставляла мысль, что было бы недурно в шуме и суматохе добраться еще до какого-нибудь склада или гастронома.
От матери, от отца, от соседей – в дни ее детства это было главной темой у собравшихся посудачить комаровцев – она слушала рассказы, как в ту войну (войны империалистическая и гражданская в ее представления сливались в одну войну) Минск занимали немцы, потом белополяки. Были насилия, издевательства, расстрелы, но из рассказов неизменно вытекало: простой народ все может пережить. Потому и теперь у нее не угасала молодая, может, даже легкомысленная вера, что она, Леновичиха, как и мать ее, со своей хваткой и изворотливостью тоже все переживет – и немцев, и черта лысого. И перехитрит всех.
Конечно, в первый день было страшно: какие они, немцы, и как ведут себя?
В жаркий июньский день комаровцы не выходили из домов или, во всяком случае, из своих крепостей – дворов и огородов, тихонько переговаривались через плетни. Выжидали. Ольга тоже не отваживалась выходить.
Немцы появились в полдень: проехали мотоциклисты в зеленых касках, с закатанными рукавами, с автоматами на шее. Ехали тихо, даже пыль не подняли. В конце улицы дали очередь из автомата. Это испугало. Но быстро через ограды дошло известие: стреляли по курам, копошившимся в песке. Новость эту комаровцы передавали друг другу весело, будто чему-то радуясь. Ольгу это тоже развеселило и успокоило. Правда, ночь потом была неспокойная, более тревожная, чем ночи перед вступлением немцев: несколько раз где-то совсем близко, тут, на Комаровке, слышалась стрельба, а под утро загорелся завод «Ударник». Это ведь рядом, и все не спали, сидели с ведрами коды, следили за головешками и искрами, боялись, что пожар может уничтожить весь их деревянный район. И не потушишь – пожарная не приедет. Но не зря молились старики, бог был милостив к Комаровке.
Днем снова было тихо. Появилась новая власть – полицейский с черной повязкой на рукаве светлого гражданского костюма. Прошел, как на похоронах. И повесил распоряжение, в котором на белорусском языке, несколько выхолощенном, казенном, немецкие власти гарантировали жителям безопасность, разные права, но приказывали сдать оружие, радиоприемники, автомашины, мотоциклы и вернуться всем на места своей работы и попутно, будто между прочим, предупреждали: в случае неповиновения – расстрел. «Все равно что «за нарушение – штраф», – подумала Ольга, вспомнив рыночные объявления.
В другие параграфы она вчитывалась не очень внимательно, но один запомнила – давалось право на торговлю. И она решила использовать это право – не из жадности, знала, понимала – заработает она в это время как Заблоцкий на мыле, – но, из интереса, хотела быстрее разузнать, что и как, какая она, новая власть.
Нарвала луку, редиски, салата, нарезала гладиолусов и пионов и... пошла на рынок, правда, едва преодолевая страх. Шла и ноги дрожали. Соседи, не отходившие в этот день от окон и щелей в заборах, очень удивились, когда увидели ее с корзиной зелени, с цветами. Передавали через заборы эту новость так же, как то, что немцы вступили в Минск: «Леновичиха на базар пошла!» Одни хвалили ее за смелость. Другие бранились: «Курва! К фашистам подлизаться хочет. Ишь ты, цветочки понесла! Дать бы хороших розог по толстой...» – «Таким не дают... Такие всегда, как дерьмо, наверху, при любой власти...»
Ольга пришла на рынок и... с разочарованием убедилась: не она первая, на пустой рыночной площади уже было несколько человек. И что особенно удивило – не ее давние приятельницы, а люди, которые при Советах ничем не торговали, но большинство из которых были ей известны – здешние, комаровские, часто шлялись по рынку, по лавкам. Людей этих она вмиг возненавидела – и не как своих конкурентов, а как тайных врагов, за то, что тогда они сидели тихо, а сейчас вылезли первыми. Иное дело, она сама – какая была, такой и осталась, как торговала в прошлое воскресенье, в день начала войны, так торгует и теперь, когда весь свет, как сказала тетка Мариля, перевернулся вверх ногами. И они, клопы эти, что повылезали из щелей, потянулись к ней, потому что признавали ее рыночный авторитет. От них она услышала: можно хорошо поживиться в квартирах партийцев, убежавших из города, немцы, мол, глядят на это сквозь пальцы. Обо всем знал седенький дедок, одетый в чистенький полотняный костюм, и его не то дочь, не то невестка, худая, как щука, баба лет под сорок. Они принесли на продажу красивые цветы, у Леновичей никогда такие не росли, мать Ольги все умела выращивать, цветы не умела.
Ольга когда-то слышала, кажется, от отца, что дедок этот из немцев. Она догадалась, что сами они, эти обрусевшие немцы, боятся пойти шнырять по квартирам, потому и хотят подстрекнуть ее, пусть она получит немецкую пулю. Закипела против них гневом, но смолчала, понимая, что с такими лучше не заедаться теперь.
Покупателей, конечно, не было. Какому дураку придет в голову пойти на рынок в такое время! Люди по улице боятся ходить. Но Ольга все-таки дождалась тех, кого ждала со страхом и любопытством, – немцев. Их пришло сразу шестеро в незнакомой черной форме, потом Ольга узнала, что это военная жандармерия, эсэсовцы. Они сразу окружили прилавок, за которым разместились первые торговцы. Седой иконоподобный дедок заговорил по-немецки – вероятно, приветствовал их – и подарил высокому, в фуражке с кокардой, по всему видно, офицеру, цветы. Двое подошли к Ольге. Похвалили:
– Хандаль? Гут!
Ольга через силу улыбнулась – выжала из себя эту улыбку. Один немец белым платочком вытер редиску и вкусно захрустел. Другой оглядел не редиску – ее, Ольгу, оглядел оскорбительно, как цыган кобылу, которую хочет купить, кажется, вот-вот схватит за храп и заставит оскалить зубы, чтобы посчитать года. Тот, кто хрустел редиской, снова похвалил:
– Гут!
Другой засмеялся и, наверно, сказал, что не редиска гут, а фрау гут, потому что слегка похлопал Ольгу по щеке, потом по плечу, если бы не прилавок, то, наверное, похлопал бы и ниже, по мягкому месту. Если бы это сделал кто-то из своих, пусть хоть сам генерал, какую оплеуху он бы заработал! Ольга могла пошутить, бывало, на вечеринках разрешала знакомому парню обнять себя, за что Адам не однажды ревновал. Но чтобы кто-то ее хлопал, как кобылицу по крупу... Ну, нет!
Подошел офицер и сказал что-то строгое, потому что солдат положил редиску назад и отступил. За офицером подбежал иконный дедок. Перевел: