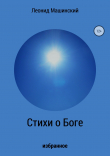Текст книги "Атланты и кариатиды (Сборник)"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
– Господин офицер хотел бы, чтобы пани подарила ему цветы.
– Господин офицер может купить, господин богатый, а пани бедная, ей детей кормить надо, – серьезно, без улыбки, сказала Ольга.
Дедок вылупил глаза, не сразу отваживаясь перевести ее слова. Но офицер так глянул на фольксдойча, что тот понял: приказывают переводить точно. Офицеру, видимо, показалось, что молодая русская сказала что-то оскорбительное для великой Германии или фюрера. Дедок перевел, и офицер весело засмеялся. Потом сказал что-то солдатам. И тогда тот, кто грыз редиску, сгреб и редиску, и лук, а второй, кто трепал по щеке, – цветы.
«Ну и гады, злодеи, разбойники!» – подумала Ольга, но решила смолчать, утешившись тем, что хотя они и грабители, но не такие страшные, как говорили про них в первые дни войны, жить можно.
Впрочем, офицер не торопясь достал кошелек и дал ей бумажку – чужие деньги.
Дедок будто на небо взлетел, кажется, даже нимб засиял вокруг его головы.
– Господин офицер щедро заплатил пани. Пани должна благодарить.
– Спасибо, – коротко сказала Ольга.
Это с,спасибо» старик перевел чуть ли не двадцатью словами льстиво заглядывая офицеру в глаза.
Когда гитлеровцы пошли, он сказал с восторгом:
– Вот они, немцы! Культура!
«В чем же эта культура? – подумала Ольга. – Пошел ты, старая падла!» Но хлестнуть сильным словцом этого прихвостня, как хлестала таких раньше, побоялась.
По дороге домой бумажка в десять оккупационных марок – совсем мизерная плата, как она узнала потом, – жгла ладонь; за пазуху, куда всегда клала деньги, ее не положила, это было бы как прикосновение к ее груди лапы чужого солдата. Хотелось швырнуть бумажку, втоптать в песок или в засохшую после позавчерашнего дождя грязь. Но, воспитанная в бережливости, сдержалась: теперь это деньги, их нужно знать, к ним нужно привыкнуть. Однако весь тот день на душе было погано от этой первой встречи с оккупантами, от своей, казалось, удачной торговли, будто продала не лук, а совесть. Не покидало чувство, что кого-то или что-то предала, но ясно определить это чувство не умела. Поэтому злилась. От злости она всегда, еще с детства, делалась отчаянной, бешеной. Вспомнила слова дедка, что можно поживиться в опустевших квартирах, и не столько из жадности, сколько из непонятного протеста решила рискнуть еще раз.
Первую вылазку совершила в дом, где жили офицеры штаба округа, рассудив, что семьи военных наверняка уехали. В доме, видно было, похозяйничали до нее, но и она еще навытягивала из комодов немало постельного белья, детской одежды, вилок, ложек – ничем не брезговала.
Выходя из квартиры на третьем этаже, встретила на лестнице немцев, четверых немолодых уже тыловиков, видимо, квартирьеров, – они заглядывали в квартиры, спорили друг с другом.
Ольга обомлела. Вот влипла, так влипла, с первого раза, будь он проклят, тот дед, что подстрекнул. Вспомнила слова Лены Боровской: за мародерство во всех армиях расстреливают. А что им? Шлепнут тут же – и все, кто их осудит, никто даже не узнает, где она погибла. И никто не пожалеет – сама полезла. Правда, паспорт она взяла с собой на всякий случай, долго думала, брать или не брать советский паспорт, и решила, что иметь документ, который свидетельствует, что она минчанка, не лишнее. Стояла, боялась пошевелиться, ждала, когда немцы дойдут до нее. Подготовила паспорт. Себя не жалела, про себя думала безжалостно: «Так тебе, дуре, и надо!» Свету жалела. Куда ее денут? Казимир добрый, не бросит. Но несчастной будет сирота, которой придется жить у Анюты, у их невестки, – неприязнь к ней осталась в наследство от матери.
Немцы поднялись выше, один что-то спросил у нее по-немецки. Она испуганно заморгала, замотала головой. Немцы засмеялись и, обойдя ее, вошли в квартиру, из которой она только что вышла. Даже не посмотрели, что у нее в узле: наверное, подумали, что она здешняя жиличка и выселяется, а это им и нужно – очистить дом от жильцов. Как бы там ни было, но от встречи такой, от безнаказанности Ольга совсем осмелела. Тянула все, что попадалось под руку. Висел приказ сдать радиоприемники, а она с Революционной улицы, чуть ли не через весь город, принесла завернутый в простыню радиоприемник домой.
С такими же, как она, рисковыми личностями облазила разбомбленные дома. В одном дворе взрывом бомбы перевернуло машину, в кабине остался убитый шофер. Они и машину эту «почистили», нашли в кузове советские деньги и почтовые марки. Труп уже начал разлагаться, в такую жару это недолго, но Ольга усмотрела на нем новенькую кобуру и тайком от остальных «чистильщиков» обрезала ее и спрятала в узел, завернув в кусок сукна. Понимала, что если немцы осмотрят ее добычу, – а уже случалось, что осматривали, – и найдут советский пистолет, мало ей не будет. Но удержаться от искушения не могла. Возможно не столько револьвер ее привлекал, сколько желтенькая кобура, дочь кожевника знала цену хорошей коже. А может, жило в ней что-то озорное, мальчишеское: почему бы не взять такую игрушку?! Ни один из комаровских парней не прошел бы мимо! Или подсознательно рождалось что-то более серьезное: вдруг в той неизвестности, что ждет впереди, понадобится и пистолет?
Прекратила она свои вылазки после того, как в руинах большого дома на Комсомольской немцы обстреляли их из автоматов. Без предупреждения. Компаньонка по поискам добычи, немолодая женщина со Сторожевки, вскрикнула и ткнулась головой в щебенку. Ольга скатилась по ступенькам лестницы, как неживая, разбила голову, пообдирала колени. На животе, будто раненая кошка, выползла из злосчастного дома.
Вот они какие, немцы! Могут не обратить внимания, когда ты тянешь на плечах приемник, и могут начать стрелять просто так, точно для забавы. Кстати, в тот день было ей уже одно предупреждение: на ее глазах на Немиге застрелили старого еврея. Одетый в замусоленный сюртук, он шел с новеньким кожаным чемоданом, который очень уж не подходил к его внешности, к его бедности. Двое гитлеровцев в черной форме подошли к еврею, один взял его за бороду, ничего не сказав, достал пистолет и выстрелил старику в... шею, в кадык. Ольга увидела, как брызнула кровь, и чуть не потеряла сознание. Конечно, после того случая нужно было к дьяволу бросить все тряпки, – ведь в тот день они и вправду подбирали одно тряпье, ничего хорошего уже не осталось, – бросить и бежать домой, к Светке, и жить как Лена Боровская, как другие соседи: никуда не выходить, ждать... Но по-обывательски рассудила: то был еврей, немцы не любят евреев, а она белоруска и ничего плохого не делала – будто тот старик обязательно сделал что-то плохое.
II
– Драники! Драники! Горячие драники! – кричала Ольга, хлопая в ладоши и пританцовывая от холода. Но в тот день и на такое лакомство, как горячие картофельные оладьи, не особенно бросались, не так, как раньше, когда на рынке начали торговать едой, которую можно было тут же съесть. Голод, лучший экономист, подсказывал тем, у кого было что продать, как это сделать выгоднее всего. При Советах вареным и жареным не торговали – нужды не было. Кто бы это стал есть на рынке? Разве что пьяница какой-нибудь. Правда, Ольге рассказывала мать, что при нэпе тут, на рынке, стояли жаровни, на них жарились колбаса, верещака, пеклись блинцы... Но тогда нэпманы просто искали, чем привлечь покупателей. Теперь же, в оккупации, эта торговля от голодухи. Ольга одна из первых сообразила, что нужно людям, которые бродили по рынку и даже на кочан капусты смотрели голодными глазами. Если бы кто-то упрекнул ее, что она обирает голодных, она бы плюнула тому в глаза. Нет, она помогает людям, пусть скажут спасибо, что ей удалось и картофеля накопать, и мукой запастись, и маслом. В конце концов, продать это все можно, не выходя из дому, теперь любые продукты с руками оторвут, спасибо скажут. А она печет эти драники, сама же и дрова покупает тут, на рынке, а потом стоит на холоде, дубенеет. Ей не приходило в голову, что без торговли она уже не может жить, что торговля стала для нее потребностью, главной целью существования. В натуре всех примитивных людей – искать своим поступкам благородные оправдания: одни их объясняют большой политикой, своей верой в национальные, расовые, религиозные идеи, другие – желанием помочь ближним не умереть с голоду, кормить детей и т. д.
То, что не бросались на драники, не хватали их, Ольгу не очень беспокоило: не пропадет ее товар, продаст, голод, как говорится, не тетка.
На рынке в тот день было пустовато. Сильно похолодало. Захолодало рано – середина октября всего, в прошлые годы в такое время еще сверкало золотом бабье лето. А тут, точно назло тем, кто сейчас где-то в окопах, уже три ночи здорово подмораживало. Но позавчера и вчера еще пригревало скупое осеннее солнце, а сегодня по небу летели тяжелые, темные снежные тучи, раза два сыпалась снежная крупа, потом тучи разорвало, подул порывистый ветер, вздымая с земли песок, засыпая глаза. Было неуютно, грустно и тревожно. Рынок опустел, наверное, и по другой причине: вчера была облава, некоторых подозрительных схватили полиция и гестапо. Облава Ольгу насторожила. Если они и дальше начнут превращать рынок в ловушку, то какой дурак будет ходить сюда и что тогда останется от свободной торговли, которую новая власть декларировала... За себя она не боялась, у нее были знакомые и в полиции, и даже среди немцев, – легко заводить знакомства, если есть чем угостить, сами липнут, как мухи на мед.
Подошел высокий мужчина с аккуратно подстриженными усиками, странновато одетый – в старой, помятой шляпе и в новом кожушке, красном, расшитом желтыми нитками. Впрочем, Ольгу это не особенно удивило: теперь многие так одеваются – половина убранства городского, половина деревенского. Но на кожушок она позарилась – подумала, что расшивка на нем женская, зачем мужчине такие галуны, ей бы они больше подошли.
– Почем драники, красавица?
– Три марки за пару.
– Ого, кусаются же они у тебя!
– Так их же кусать можно, потому и они кусаются.
– А ты веселая.
– А чего мне бедовать?
– И правда, зачем нам бедовать, когда можно торговать?
Он почти пропел эти слова, и тон его обидел Ольгу. Но она научилась молчать. А то еще нарвешься на какого-нибудь агента гестапо. Обиду высказала осторожно:
– Стань на мое место, покалей тут... А картошку иди купи ее, привези в город...
Мужчина засмеялся.
– Возьми меня в примаки, буду снабженцем.
– Много вас набивается в примаки. У меня муж есть.
– Не везет, – причмокнул он.
– Так давать драники?
– Не заработал я на них.
– Продай дубленку.
– А сам в чем пойду? Зима наступает.
– Я тебе шинель дам. Кило сала. Литр самогонки. И накормлю от пуза.
Он весело свистнул. С иронией сказал:
– Неплохая цена.
– Разве мало даю?
– Да нет, щедро. Но шинель мне пока не нужна. – Он нахмурился. – Будь здорова, торговка.
Слова этого «торговка» Ольга не любила. Сама торговля не оскорбляла, работа не хуже любой другой, так считала ее мать, так и она считает, а слово обижало.
Подошел знакомый полицейский – Федор Друтька.
«Появился нахлебничек, нигде без вас не обойдется», – подумала Ольга, но без злости, потому что Друтьку этого считала человеком: не нахал, не хапуга, ласковый, добрый, а главное – молодой и красивый. Ольга не любила стариков. Но и к ласковости Друтькиной относилась осторожно.
– Не замерзла?
– Не-ет...
– Кровь у тебя кипит. А я заколел, пальцы не могу разогнуть. Откуда он, такой холод? Рано же еще.
Ольга незаметно вздохнула: знала, чего ждет полицай, когда жалуется на холод. Нагнулась над прилавком, не вынимая бутыль из корзины, накрытой платком, налила в кружку, протянула Друтьке. Тот как-то стыдливо оглянулся, но соседки торговки отвернулись: они, мол, не видят, у кого угощается пан полицейский. А пан очень быстро, с размаху, выплеснул полкружки вонючей самогонки в пасть. И застыл, будто прислушиваясь к сигналу далекой тревоги, потом весело крякнул:
– Вот когда, падла, дошла до жилочек! Огонь! Пламя!
Ольга про себя думала: «Жри, чтоб тебе внутренности сожгло», – но все же засмеялась: угостить человека ей всегда было приятно.
Развернула старое одеяло, достала из кастрюли вилкой два драника и опять подумала: «На, живоглот, закуси».
Полицай запихнул в рот сразу два драника, проглотил не жуя. Похвалил:
– Вкусное у тебя все, Ольга. Хорошая ты хозяйка. Бери меня в примаки.
Ольга весело крикнула соседке:
– Слышала, тетка Стефа? Еще один примак! Вот везет мне!
И повернулась к полицаю:
– Тут перед тобой, посмотрел бы, какой пан напрашивался в примаки. Ого! Мужчина во! А какой кожушок на нем. Чудо!
Друтька нахмурился.
– Из панов не бери. Из нас, мужиков, выбирай.
– О чем это вы болтаете? У нее муж есть, – вступилась за Ольгу соседка.
– Где он, ее муж? – Самогонка ударила в голову, и Друтька, сразу побагровев, угодливо улыбнулся: хотелось еще выпить, и он было потоптался перед Ольгой, но вымогать не стал, пошел искать других, кто платил дань такой же жидкой натурой.
– Вот повадились, как татары, – сказала Стефа, когда полицай отошел.
Через некоторое время они, четыре опытные торговки, стали обсуждать размеры взяток, которые следовало давать полицаям и немецкому патрулю, – кому сколько, чтобы была одна норма, одна тактика.
В разговоре Ольга не заметила, как перед ее прилавком появилась Лена Боровская, или просто не сразу узнала подружку. С того времени, как поссорились в начале войны, они не разговаривали и видели друг друга только издалека.
Лена была в стареньком пальто, слишком легком для такой погоды, голова обернута клетчатым, как плед, платком, теплым, но старомодным, такие платки разве что еще до революции носили. Правда, теперь в оккупации, никакая одежда не удивляла, из сундуков вынималось все старье – старые шубы, сюртуки, сарафаны, армяки, поневы, их носили, торговали ими, выменивали на продукты. Но Лену платок этот очень старил, она выглядела в нем пожилой женщиной. Ольга даже растерялась, когда наконец узнала ее. Лена очень похудела, лицо вытянулось, пожелтело, нос удлинился, а под когда-то красивыми голубыми глазами легли черные тени, точно после болезни. Из гордости Ольга глядела на Лену молча – ожидала, чтобы она, Лена, поздоровалась первая.
Лена не сказала «здравствуй», но улыбнулась посиневшими губами примирительно и, съежившись, пожаловалась:
– Х-холодно...
Этого было достаточно, Ольге стало жалко подругу. Хотя семью их она осуждала: «Дураки они, эти Боровские. Как дети. Все же дома – и старик, и мать, и братья. И ничего не умеют сделать, чтобы не голодать».
– Драника хочешь? – неожиданно для себя спросила Ольга.
– Хочу, – просто ответила Лена.
Откусывала она маленькими кусочками, согревая теплым драником руки и смакуя его, как самое дорогое лакомство. Глаза ее, словно потухшие, застывшие, бесцветные, сразу ожили, и в них засветилась прежняя голубизна. Ольга тоже оттаяла, радуясь, что школьная подруга после долгой ссоры пришла к ней первая.
– Дать еще драник?
– Если не жалко.
– Тебе не жалею.
– Не боишься, что сама останешься без картошки?
– Не боюсь.
– Запасливая ты.
– Да уж ворон не ловила. – -Это был явный упрек им, Боровским, но то ли Лена не поняла, то ли решила не обращать внимания, или, может, голод привел к мысли, что жить нужно иначе. Во всяком случае, Ольге все больше нравилось, что Лена теперь такая кроткая, покорная, без гонора своего комсомольского, который она часто проявляла и в школе, и работая в типографии, и особенно в начале войны.
– Домой не собираешься? – спросила Лена, доев вторую пару драников уже торопливо, не то, что первую.
Ольга догадалась, что Лена хочет что-то сказать, о чем тут на рынке, говорить не отваживается.
– А правда, какая торговля в такой холод! – И, удивив соседок, поставила завернутую в одеяло кастрюлю в корзину, вскинула ее на плечо. Лене сунула клеенчатую сумку с самогонкой и свеклой.
Друтька, которому не удалось больше ни у кого поживиться, увидев, что Ольга уходит, разочарованно раскрыл рот и поплелся следом.
Может, потому, что увидели за собой полицая, хотя и на значительном расстоянии, или потому, что грязь за день оттаяла и нужно было идти гуськом, след в след, наступая на одни и те же кирпичи и кладки, чтобы не попасть в лужи, они долго шли молча. Когда вышли на свою, более сухую, песчаную улицу, пошли рядом, потом обернулись: полицай отстал, у него еще были остатки совести, чтобы не идти за вторым стаканом самогонки в дом.
Ольга спросила:
– Что ты делаешь, Лена?
– Работаю.
– Где?
– В типографии.
– В немецкой? – очень удивилась Ольга.
– Нужно же как-то жить.
– Вот это правда! – чуть ли не крикнула от радости Ольга. – Нужно как-то жить. А ты меня упрекала.
Лена смолчала. Потом неожиданно попросила:
– Слушай, забери одного человека из лагеря в Дроздах.
– Как же я заберу его?
– Как мужа. Женщины забирают мужей...
Ольга знала: некоторые минчанки и жительницы пригородных деревень выкупили кто своих мужей, если им посчастливилось очутиться тут, близко от дома, кто чужих. Ольга тоже ходила в Дрозды, в Слепянку, ездила в Борисов – искала своего Адама. За хороший выкуп немцы отдают пленных красноармейцев, только комиссаров не отдают.
– У меня есть муж. Что скажут соседи?
– Ты только выкупи его да выведи из лагеря, а там уже не твоя забота.
– Ага, чтобы охрана подстрелила? Было ведь уже, говорят, такое, что начали стрелять в баб. Положишь голову неизвестно за кого.
Лена остановилась, схватила Ольгу за лацканы пальто, глаза ее горели, щеки болезненно румянились.
– Ольга, это очень нужный человек.
– Кому нужный? Тебе? Так ты и забирай.
– Народу... народу нужный, – странно, как бы захлебываясь, прошептала Лена.
– О милая моя! – засмеялась Ольга. – Что мне думать о народе! Народ обо мне не думает.
Лена рывком притянула ее к себе и горячо зашептала в лицо:
– Олька! Нельзя так... Нельзя... не думать о народе. Когда-нибудь у нас спросят... дети наши спросят... что мы сделали, чтобы освободиться от нечисти этой... Ты хочешь, чтобы твоя Света выросла в рабстве? И вырастет ли вообще!.. Ты еще не узнала, что такое фашизм!
– Если я буду жива, то вырастет и моя дочь. А если ты меня втянешь в партизаны и меня повесят, как тех, в сквере, то о ребенке моем никто не подумает. Никто!
– Я тебя не втягиваю в партизаны. Я тебя прошу спасти человека.
– На хрена мне твой человек!
– Эх, Ольга, Ольга! – легонько отпихнув Ольгу, с печалью и разочарованием сказала Лена, повернулась и побежала с середины улицы ближе к заборам, будто испугалась или искала убежища от чужих глаз.
«Ну и пошла ты...» – в первый момент хотелось крикнуть Ольге и добавить базарное слово. Но Лена уходила медленно, маленькая, сгорбленная, как старушка, в старомодном платке. И Ольге вдруг стало жаль ее. И себя. И еще о дружбе с Леной пожалела, почувствовала, что ведь так разойдутся они навсегда, на всю жизнь врагами станут. А врагов хватает чужих,
Но не только это остановило. Было много другого. Поднялась целая буря чувств, самых противоречивых. Целый день потом, хозяйничая в доме, она старалась разобраться в самой себе... Действительно, разве пришлые захватчики в зеленых и черных мундирах друзья ей? Зачем же еще и своим становиться врагами? Хватит и этой гадости – полицаев, они будто звери. Не к полицаям же ей, Ольге, тянуться, хотя и вынуждена иногда угощать их. А к кому, к кому тянуться? К таким, как Лена? Но очень уж похоже на то, что эта одержимая комсомолка связана с партизанами, которые действуют тут, в городе, о которых шепчутся люди, а немцы вывешивают приказы, грозят всем, кто их поддержит, смертью, и уже повесили несколько человек в сквере около Дома Красной Армии, виноватых или невиновных – неизвестно, может, просто для устрашения. Нет, с Леной ей не по пути. Но вместе с тем люди, такие, как вся семья Боровских, которые живут в голоде и холоде, но не склоняют головы перед врагами, впервые как-то совсем иначе, не по-обывательски, заинтересовали Ольгу, более того – она почувствовала к ним уважение, и от этого самой сделалось страшно. Если о них с уважением думать, то и полюбить их можно, восхищаться ими и пойти за ними, на смерть пойти. Лучше было поссориться с Леной, пусть бы немного поскребли кошки на душе, но зато потом она жила бы спокойно, не признавая никаких Боровских, и ничего бы не боялась. В конце концов, и при немцах жить можно, если не быть дураком, торговле даже больший простор, чем при Советах. Можно свою лавчонку иметь, о чем, между прочим, она мечтала, ради чего копила марки: не нужно будет тогда дрожать на рынке от холода и страха, сиди себе в тепле, отмеривай и отвешивай товар, на который получишь разрешение, а к тебе с уважением будут: «Пани Леновичиха...»
Нет, в ту ночь не уважение к таким, как Лена, определило ее решение. Ольга думала о том, что все чаще и чаще к ней заглядывают полицаи и, подвыпив, липнут со своими мерзкими ласками. От полицаев она пока что отбивалась: кому вынуждена была подарить поцелуй как надежду на большее, лишь бы сейчас отцепился, а кому оплеуху и тумака – не лезь в чужое. Но вот вместе с полицаями стали заходить немцы и тоже посматривают, как коты на сало. А эти гады на будут церемониться, надругаются на глазах у ребенка, у старой Марили, в душу наплюют, ославят на весь город. Этого она боялась, как смерти. Так почему бы ей не взять в дом мужчину? Взяли же некоторые бабы, а ведь у них мужья, как и у нее на войне. При мужчине, да еще если он назовется мужем, не отважатся приставать. Адам? Что ж, если он вернется (боже мой, когда это может случиться?!), она покается... Хотя, возможно, и каяться не нужно будет. Нет сомнения, что Лена имеет задание спасти не лишь бы кого, а наверняка командира или комиссара, коммуниста, видимо, уже немолодого человека. Такой, даже живя с ней в одном доме, никогда не станет посягать на ее женскую честь. А если уж случится грех – сама она не устоит, – то пусть это будет с одним, со своим человеком, по-доброму, по согласию. Что это будет за человек, чем займется на воле – об этом не думала, далеко не заглядывала.
Фашисты не скрывали лагерей военнопленных, умышленно, для устрашения, конечно, устраивали их на видных местах, рядом с шоссе, железными дорогами. Дулаг в Дроздах был основан в первые же дни оккупации в каких-нибудь двух километрах от города, рядом с деревней Дрозды – на противоположном, левом берегу Свислочи, между двумя холмами. На одном из них, как на кладбище, росли сосны, другой был голый, словно бубен. С холмов этих, со сторожевых вышек хорошо просматривалась вся окрестность, на пустом осеннем поле был виден каждый человек.
Лена Боровская не раз уже ходила в этот лагерь, знала, откуда, с какой стороны, подпускают к колючей проволоке, даже имела знакомых охранников, если считать знакомством то, что несколько немцев уже знали молодую женщину, настойчиво искавшую брата, потому что, говорят, брата ее видели тут. Они, немцы, могли поверить, что она ищет брата, – но посмеивались над ее наивностью: брат, конечно, мог быть здесь, но скорее всего он давно уже лежит в общей могиле, где таких тысячи и где его никто не найдет – ни сестра, ни мать, ни память людская.
Ольга и Лена шли по полевой тропинке в стороне от гравийки. Тропинка эта была протоптана горожанами и подводила к тыловой ограде лагеря – к тем «воротам», через которые женщины искали своих. Здесь они подходили к колючей проволоке, и здесь же разрешали собираться пленным. Отсюда реже отгоняли, чем от настоящих ворот, что у самого шоссе. Так охрана, видимо, скрывала торговлю пленными от начальства. Но и в нарушении инструкций немцы любили порядок: тут, около проволоки, узнавай своих, а договариваться, обойдя далеко по полю, иди к проходной.
Охрана не любила, чтобы ходили вдоль ограды, – по таким нередко стреляли без предупреждения или науськивали овчарок. Минчанки об этом знали – знали все неписаные правила. Мужчинам вообще было опасно к лагерю подходить, к ним фашисты относились особенно подозрительно.
После сухих холодных дней, когда мороз по-зимнему сковал землю, снова наступила грязная осень, земля оттаяла. Шел дождь вперемежку со снегом. Было ветрено. Сильный ветер бил в лицо, мокрый снег залеплял глаза, набивался под платки, за воротники.
Женщины, прикрываясь от ветра, от снега, шли по тропинке одна за другой. Лена – впереди. Не разговаривали. Да и о чем было говорить? Все обговорили вчера у Лены. Тогда Ольга была возбуждена, пожалуй, даже обрадована своим неожиданным дерзким решением. Само такое решение – взять в дом человека, «нужного народу», – как бы очищало ее от всей скверны, что прилипала ежедневно к ее коммерции, не обходившейся без обмана, без взяток полицаям и немцам. Но снег, дождь и ветер остудили те хорошие, теплые вчерашние чувства. Ольга шла раздраженная, обозленная на свою глупость – зачем согласилась? На Лену – навязалась на ее голову! Разве мало баб в городе? Пусть бы попросила кого-то другого! Еще при выходе из Минска, за Сторожевкой, где патруль довольно придирчиво проверил их документы – советские паспорта с допиской и штампом городской управы, – Ольга сказала Лене:
– Ох, вижу, тянешь ты меня в омут.
Зная характер подруги, ее изменчивое настроение, Лена испугалась, стала уговаривать:
– Олечка, человека же от смерти спасем. Разве из-за этого не стоит помучиться? Ты в бога веришь. Иисус Христос за людей мучился и нам наказывал.
– Ты же в бога не веришь.
– Теперь все, Олечка, верят. – Лена стремилась всячески умилостивить подругу, не дать ей передумать.
По скользкой тропке женщины вышли на пригорок. Им предстояло перейти ложбину и на косогоре, где росли редкие сосны, подойти к тем условным воротам, к колючей проволоке, куда охрана с выгодой для себя подпускала женщин поискать среди пленных близких. Сквозь снежную завесу они увидели, что в ложбине работает множество людей, – белые, как привидения, они, казалось, не ходили, а плавали в воздухе, и нельзя было издалека понять, что они делают. Ближе, у подножия того пригорка, на котором они остановились, очень ясно вырисовывались черные, будто снег сразу таял на них, фигуры с автоматами и такие же черные собаки, огромные, с настороженными ушами, – эти уши слышат человека за версту.
Женщин заметили. Сразу двое навели на них автоматы. Но, кажется, не стреляли, только постращали, потому что ни Лена, ни Ольга выстрелов не услышали. Пригнувшись, они бросились бежать уже не по тропке, а по полю, увязая в мягкой почве, будто так легче было спастись. Вначале им казалось, что сзади, запыхавшись, лают собаки, как гончие, когда преследуют зайца. Но скорее всего они слышали лишь свист ветра и стук собственных сердец.


Потом Ольга не могла себе объяснить, почему они не побежали назад, к городу, в сторону реки. Может, потому, что в пойме реки росли кусты, стояли голые вербы, а на той стороне стояли дома, жили люди. Желания за что-то спрятаться или бежать к людям у нее не было. Просто она бросилась за Леной. А та, одержимая, возможно, схитрила: знала ведь, чувствовала, что если приблизятся к городу, то Ольгу назад уже не вернуть, не уговорить. Ольга и так, почувствовав себя в безопасности (вокруг теперь царила тишина, и снова посыпался густой мокрый снег, за сотню шагов ничего не было видно), сказала настойчиво и даже зло:
– Ты, дорогая подружка, как хочешь, ты птица вольная, а я буду спасать себя, у меня ребенок остался.
Но Лена так просила за того незнакомого человека, как за отца родного, со слезами на глазах, что Ольга вновь согласилась выйти на дорогу, где ходят люди и машины, и подойти к центральным воротам, куда приходили все, кто не знал условных ворот.
Ольга успокоилась, увидев, что они не одни тут: за бараком, которого не было в августе, толпилось с десяток женщин. А на той стороне, за проволокой, стояли сотни две пленных, страшных призраков, обернутых в шинели, рваные ватники, одеяла, мешки. Они стояли в трех шагах от проволоки, и никто не отваживался переступить эту узкую полосу, никто не мог дотянуться до женщин, чтобы взять кусок хлеба или картофелину. На страшной полосе этой лежали двое мертвых. На спине у одного, на белой от снега гимнастерке, – больше на несчастном ничего не было, – алела свежая кровь. Его убили недавно. Может, оттого некоторые женщины испуганно отступали от проволоки и незаметно исчезали.
Переступая через мертвых, будто это бревна, спокойно, казалось, равнодушный ко всему, ходил немец, подняв воротник зеленой шинели и опустив наушники шапки на уши. Руки его в перчатках небрежно лежали на автомате. Он точно прогуливался, хотя на саком деле внимательно следил за каждым движением пленных и женщин. Передавать ничего нельзя было – за это смерть, – а переговариваться можно. Очень может быть, что охранник понимал по-русски. А если не знал языка караульный, то наверняка находился агент среди пленных. Возможно, не только ради того, чтобы нескольких человек выгодно продать действительным женам, матерям или тем, кто назовет себя женой или сестрой, но и ради того, чтобы иметь определенную информацию и показать населению, как много взято пленных и в кого превращаются бойцы Красной Армии, какими послушными делаются они под дулами немецких автоматов, пустить в народ самые невероятные слухи, коменданты дулагов и шталагов не запрещали пока странные свидания пленных с женщинами.
Ольгу очень поразила неподвижная стена призраков – только по блеску глаз, лихорадочных, горячих, было видно, что люди эти еще живые. В августе, когда она наведалась сюда впервые, пленные были иные: голодные, обессиленные, раненые, они бросались на проволоку, вырывали из женских рук любую еду, кричали, стонали, плакали, матерились, проклинали немцев, бога, черта...
А эти молчали, говорили только их глаза.
Не сразу Ольга разглядела, что за стеною живых и в стороне от них по всей лагерной площади, побеленной снегом, лежали люди. Сначала она подумала: «Почему им приказали лежать?» Но потом заметила, что на руках, на непокрытых головах тех, лежащих, не тает снег, они давно остыли. Скорее всего их убил неожиданно сильный мороз в прошлые ночи, дождь и снег в эту сегодняшнюю ночь. В той части лагеря, куда они с Леной хотели вначале подойти, работали тысячи людей – расширяли лагерь, строили бараки. Там же стояли грузовики, и такие же призраки, что и неподвижно стоявшие здесь, сносили к машинам засыпанные снегом трупы.
Ольгу, которая не боялась ни крови, ни мертвых, охватил такой ужас, что на короткое время она будто потеряла сознание. Во всяком случае, какой-то миг ничего не видела, не слышала. Только перед глазами плыла муть, не снежная, не белая – кроваво-красная и зеленая.