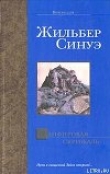Текст книги "Иудей"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
LXXIII. РАННИМ УТРОМ…
Береники на пиру не было: она сказалась больной. Да она и была больна – если не телом, так душой. Она не спала всю ночь. Во дворце Иоахима все было оставлено так, как было тогда, во время брачного пира Язона… Томимая тоской нестерпимой, рано поутру, на свету, она вышла из дворца и розовым от зари, ещё спящим городом пошла куда глаза глядят. И вдруг увидала она себя в прекрасных Салюстиевых садах, неподалёку от мавзолея Домициев, где спал последним сном Нерон, Зверь…
Сзади неё послышались вдруг лёгкие, женские шаги. Она торопливо спустила покрывало и отступила за чёрные кипарисы: она не хотела, чтобы кто-нибудь увидал её тут. Ещё минута, и она увидела маленькую женскую фигурку. Она сразу узнала её: то была Актэ, которую она не раз встречала во дворце. В руках Актэ были дивные розы… Она подошла к пышному мавзолею и росистыми розами украсила урну из красного мрамора, прижалась к ней, точно в молитве, своим белым лбом и долго стояла так… А потом оторвалась, постояла и, потупив голову, тихо скрылась в садах…
«Но неужели же она любила так… и даже теперь любит… это чудовище?» – с недоумением спросила себя Береника.
Ответ дали ей свежие, росистые, благоухающие розы вокруг красной урны…
И она не могла отвязаться от видения этой маленькой женщины со своими розами на утренней заре в пустынных садах… Ничего не замечая, она снова медленно вернулась во дворец – там уже началась тревога о ней – и, все томясь захолодавшей душой, пошла роскошными покоями дворца, стараясь вызвать милую тень такою, какою она тут жила… И вдруг в глаза ей бросилась знакомая статуэтка: эта была та Венера Победительница, которую она подарила Язону на другой день его свадьбы… И на подставке угловатыми греческими буквами так же стояло горделивое: «Ксебантурула сделал».
Забыл Язон её тут или оставил умышленно?
И то, и другое было одинаково больно…
Нежданные-непрошеные поднялись в груди колючие рыдания, и красавица обняла прекрасными руками своими статуэтку и, прижавшись к ней лбом, горько-горько заплакала…
LXXIV. ФИЛЕТ
Филет тихо угасал. Никаких болей нигде он не чувствовал – по крайней мере, никогда он на них не жаловался, – а только слабел все более и точно просветлялся. С утра его переносили в огромную библиотеку, в которой он провёл столько милых, тихих часов, и он, глядя через огромное окно в лазурную бездну моря, ласково беседовал со своим учеником и другом Язоном. Часто приходил посидеть к нему и Иоахим, который постепенно сокращал свои огромные дела и, как всегда, находил большое удовольствие в речах угасающего философа. К удивлению всех все чаще и чаще появлялась около него Миррена. Сперва она точно чего-то стыдилась, но Филет был с ней так ласков, так иногда нежен, что она скоро привыкла к нему и с радостью, не допуская рабынь, служила ему сама. И раз, когда она зачем-то вышла, Филет взял руку Язона и с увлажнившимися глазами проговорил:
– Миррена возвращается к тебе. Ты не можешь представить себе, как я рад, уходя, видеть зарю твоего счастья!.. И ещё благодарю я богов за то, что они дали мне тебя другом на всю жизнь. Это было для меня всегда великим утешением…
У Язона перехватило горло.
– Мне тяжело, carissime, что ты говоришь так… Я уверен в твоём выздоровлении… Мы ещё почитаем с тобой, побеседуем…
– Нет, милый, лучше всего в жизни правда. Я ухожу… Боги были милостивы ко мне: я прожил жизнь недурно и с удовольствием. Были, конечно, и тяжёлые минуты, – тихо вздохнул он, вспомнив Елену, – но без этого никто не живёт на земле… Человек подобен нашей Этне, – указал он на сияющую в лазури гору, на вершине которой курился лёгкий дымок. – Он стремится в небо, но он прикован к земле. И иногда – помнишь тот страшный день землетрясения?! – даже и находясь головой в небе, он весь содрогается от земных страстей… А ту, другую гору помнишь?.. Та уже не знает никаких борений, никаких страстей, она уже победила все и ушла в пустыню неба… И я рад, – слабо улыбнулся он, – что я в жизни не шумел много…
– А о загробной жизни ты не изменил своего мнения, друг? – спросил Язон.
– Нет, милый… Ты знаешь, как люблю я благостного Эпикура. Но и он ошибался. Раз, в молодых годах, некий грамматик прочёл в его присутствии стих Гесиода: «Прежде всех вещей создан был Хаос…». Эпикур спросил: «Откуда же мог взяться Хаос прежде всех вещей?». «Это не моё дело, – отвечал грамматик, – это дело философов». И Эпикур решительно сказал: «Хорошо, тогда я пойду к философам». Но мы, увы, уже знаем, что идти к философам незачем, ибо и они также мало знают о начале всех вещей, как и грамматик. Напрасно и сам Эпикур написал такое множество всяких сочинений 6 том, чего знать нельзя. Посмотри, как много вокруг нас с тобой книг, но если сложить все то, что они говорят, то ты получишь…
– Нуль, – тихо уронил Язон.
– Вот, – с улыбкой подтвердил Филет. – Это единственное, что мы знаем бесспорно. Какой блестящий ум у Лукреция, а и он все пытается откопать что-то такое новое. Но все эти рассуждения эпикурейцев о четырех элементах, из которых состоит будто бы наша чудесная душа, только детская игра в бирюльки. Никаких атомов нет. И смешно было ему приводить двадцать восемь доказательств того, что загробной жизни нет, – пусть его противники дали бы только одно доказательство, что она есть. Но так как такого доказательства нет, то и нет надобности искать двадцать восемь доказательств противного. Мне всю жизнь был ближе Пиррон, который отрицал возможность всякого знания. Он вполне справедливо говорил, что утверждать нельзя ничего. Все, что мудрый может сказать, это: мне кажется, что это так… Все блаженство человека в спокойствии духа, а тщетные попытки проникнуть в тайну вещей не дают ничего, кроме смятения духа… Да, – вздохнул он тихонько, с ясной улыбкой. – Все, что говорят там эти тысячи книг нашей библиотеки, это всего одна фраза: я ничего не знаю и никогда ничего не узнаю…
– Вот и я всегда говорю Язону, что незачем столько читать и столько мудрить, – входя с прохладным питьём, проговорила Миррена. – Все, что нам нужно знать, нам открыто…
Здесь, в Сицилии, на солнышке, она поправилась, загорела и похорошела. И в глазах её, и на румяных устах все чаще и чаще зацветали улыбки. Иной раз слышался даже и греховный смех. Она спохватывалась, но снова забывалась в счастье жить и дышать, и опять звенел её смех…
Филет улыбнулся ей.
– Но среди величественных нулей, которые украшают собой нашу библиотеку, Миррена, есть и эти ваши новые мыслители, – мягко проговорил он. – Вон там в уголке лежат послания вашего Павла. Это тоже нуль, дитя моё, потому что он уверенно говорит то, чего он не знает и знать не может… Не огорчайся, дитя, я уже на краю могилы и я говорю тебе только правду. Я для себя ничего не ищу. Все, чего я хотел бы теперь, но из всех моих сил, это чтобы вы оба были, наконец, счастливы…
Миррена вспыхнула. Язон смотрел на неё сияющими глазами.
На террасе послышались твёрдые шаги Иоахима. Он с улыбкой вошёл в библиотеку.
– Ну, как? Дышишь, философ? – весело спросил он. – И хвала богам! А у меня все утро просидел Птоломей, управляющий Береники: рассчитаться со мной за римский дворец приехал… И много интересного рассказывал о римских делах, – садясь, продолжал он. – В Веспасиане я не ошибся: дельный хозяин… И Тит крепко взялся за дело. Он составляет эдикты, вместо квестора читает в курии письма императора и исполняет даже обязанности префекта преторианцев. На тут, к сожалению, он показал себя и грубым, и жестоким: заподозренных в каком-то заговоре по его приказанию убили… Веспасиан воздвигает пышный храм богине Мира, и в него внесены уже священные сосуды иерусалимского храма. Но Тору и завесу из святая святых Веспасиан приказал хранить почему-то у себя во дворце. Уже строится триумфальная арка Тита, и наши иудеи далеко обходят это место, чтобы не видеть своего унижения. Хорошо, что мы уехали из Рима, а то я, может, тоже стал бы сердиться: из нашего дворца её будет видно… А тут как-то старый Веспасиан заболел, – засмеялся вдруг Иоахим, – его и спрашивают: как ты себя, цезарь, чувствуешь? А он говорит: «К сожалению, я становлюсь, кажется, богом». А? Острый старик!.. Береника наша в своих расчётах на Тита ошиблась, – не глядя на сына, продолжал старик. – Она переехала к нему в дворец, но Августой ей, по-видимому, не быть: народ ропщет, что иудейка метит так высоко… Они уверены, что все эти их Мессалины, Агриппины и Поппеи лучше… Ну, впрочем, все это не наше дело. Мы будем в нашем уголке посиживать да на солнышке греться. Так, Миррена?
Миррена, вспыхнув, робко улыбнулась – она как-то все боялась Иоахима, – и подойдя к нему, приласкалась – в первый раз. Иоахим, тронутый, с весёлым удивлением посмотрел на Филета. Тот улыбнулся ему своей ясной улыбкой и опять тихо пожал руку Язона.
Поговорив и развеселив, как он думал, больного, Иоахим снова своим энергичным шагом пошёл к себе.
– Прав Иоахим, – тихо сказал Филет. – Нам в нашем тихом уголке много лучше, чем на Палатине. Все эти маленькие сизифы ничего не достигают. Их сердце – это бочка Данаид, которую наполнить нельзя. Ты помнишь Язон, у Лукреция:
…ничего нет милее, как жить в хорошо защищённых
Храминах светлых, воздвигнутых славным учением мудрых.
Можешь оттуда людей разглядеть ты и их заблужденья.
Видеть, как ищут они в колебаньях путей себе в жизни,
Как о способностях спорят они и о знатном рожденьи,
Ночи и дни напролёт проводя за трудом непрестанным,
Чтобы достигнуть богатства большого и власти высокой…
Жалкие души людские!.. Сердца ослеплённые смертных!..
В скольких опасностях жизни, в каких непроглядных потёмках
Тянется краткий наш век! Неужели для вас непонятно,
Что ничего для природы не нужно иного, как только
Сладостным чувством души наслаждаться спокойно, из тела
Всякую боль устранить и откинуть весь страх и заботы?
Или это вот:
Если в дворце твоём нет золотых изваяний, что в виде
Отроков юных лучистые факелы держат в десницах,
Пусть освещаются пиршества ночью светилами неба.
Если твой дом серебром не сверкает и златом не блещет,
В сводах его изукрашенных звуки кифары не льются,
Все же ты можешь, на мягкой зеленой мураве простершись,
На берегу ручейка, под ветвями тенистых деревьев,
И без малейших хлопот усладительный отдых дать телу,
А особливо когда улыбнётся весна и цветами
Всюду она окропит изобильно зеленые травы…
Утомлённый, он побледнел и закрыл глаза. А потом, помолчав, ослабевшим голосом он проговорил:
– Да, нули… Конечно… Но только для невежды все кажется легко и просто. Для него крапива просто мешающая дрянь. Философ же видит и в ней красоту и неизъяснимую тайну жизни. Да, да, опять прав наш Лукреций:
Можешь ли ты сомневаться, что только по бедности мысли
Большею частью во тьме совершается жизнь человека?
И, опять усталый, он закрыл глаза.
– Филет, ты не говори, – положил ему руку на его холодеющие руки Язон. – Отдохни. Мы помолчим с тобой…
Точно издалека глядя на них своими мягкими, тёплыми глазами, Филет слабо – точно тростник на заре прошелестел – проговорил:
– Я ухожу, дети… И я… счастлив, что я видел… зарю вашего счастья… Дайте… мне… ру… ки…
Язон, побледнев, взял его холодную руку в свои, точно он согреть её хотел, а Миррена, вся трясясь от рыданий, взяла другую его руку. И Филет слабо, через силу улыбнулся ей:
– Не… надо… слез… Я буду… с вами. Бе… реги… ра… дость…
Шелест оборвался. Глаза остановились. По лицу разлилось выражение такой тишины, такой кротости, такого величия, что Язон затрепетал.
– Вот ты как-то говорила, что только ваши христиане умеют умирать, – тихо в слезах сказал он Миррене. – А что ты скажешь теперь?
Она бросилась ему на шею и зарыдала…
LXXV. ЖЕЛАНИЕ МИРРЕНЫ
Погребальный костёр потух. Рабы благоговейно – Филета любили все – подгребали пепел. Язон, бледный, набожно складывал его в красивую погребальную урну. И когда все было кончено, он сам отнёс урну в библиотеку и среди бесконечных рядов книг, на особой полочке, как раз против золотой клепсидры матери, бережно установил её и обратился к Миррене. Она, бледная, заплаканная, виновато смотрела на него исподлобья своими дикими глазами гамадриады.
– Миррена, – проговорил он тихо. – Оправдается ли надежда нашего друга?
– Если ты понимаешь… что я… не нарочно… если ты готов… простить…
– Не говори так, девочка: ты решительно ни в чем не виновата… Вот разве только за сожжение моих бедных книг следовало бы немножко наказать мою…
– Не шути! – воскликнула она, бросаясь к нему на шею. – Если бы ты только знал, как я от них устала!.. Если бы ты только мог почувствовать, как это тяжело все время караулить каждую мысль свою, каждое слово… И если бы ты знал, как много было во всем этом обмана!.. Они всегда притворялись святыми, но постоянно ссорились, завидовали, боролись за первые места. Две диакониссы наши из Филипп пословицей стали: «Грызутся, как Евходия с Синтихеей». Они думали, что они становятся другими людьми после крещения и после того, как поедят вечером вместе, но они совсем такие же люди, как и все… А они на всех смотрели свысока… И я больше не могу. Они будут сердиться, что я ушла от них, но я… не могу… Зачем я буду лгать и притворяться?..
– Совсем не надо, моя девочка, ни лгать, ни притворяться. Как хочешь, так и верь, так и живи, – лаская её, тепло говорил он. – Никого и ничего нет над тобой, кто запрещал бы тебе радость или отнимал свободу, и ты напрасно принимаешь все это так близко к сердцу…
– Но это не все, – обнимая его, говорила она. – Если бы они были просто… мелки, то что тут за беда: повернулась и ушла… Но как-то случилось так, что у них в руках есть что-то большое и хорошее, что им дали нести. А они все исковеркали… Погоди, я принесу тебе сейчас книгу, которую подарил мне милый Лука. Я сама прочту тебе её, и ты увидишь, сколько там настоящего золота! Он нам читал уже её, но он опять все переделал, и теперь стало ещё лучше… Подожди минутку…
И быстрым вихрем она скрылась за дверью…
Язон подошёл к окну. Справа, сквозь белый лес колонн, чуть дымила в лазури Этна: точно кто-то незримый приносил там богам жертву за радость жить. И где-то там, у подошвы горы, среди скал и застывших потоков лавы покоится прах его милой матери… Слева виднелся пустой амфитеатр, а за ним вдали розовые берега Калабрии. А впереди – безбрежная лазурь моря и неба. И все это было напоено солнцем и какой-то божественной негой… «А он ушёл, – печально подумал Язон. – И никогда больше он не увидит этого. Каждое мгновение есть драгоценный дар, и безумен тот, что теряет его попусту…» Но в библиотеку, вся розовая от волнения, вошла Миррена со списком в руках. Сев у окна перед лицом голубой бездны, она тихонько развернула рукописание и, положив руку на руку мужа, начала читать:
– «Как многие уже начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передавали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего с начала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твёрдые основания того учения, в котором ты был наставлен…»
– А кто это Феофил? – тихо спросил Язон.
– Не знаю… Кажется, никто… Это он… вроде как к какому-то Феофилу обращается… Ты слушай…
И она старательно и тепло стала читать добрую весть Луки о том, что произошло в Иудее лет сорок тому назад. Местами книга так волновала её, что голосок её начинал дрожать и на глазах выступали слезы. Язон тоже был в таких местах тронут и нежно целовал белокурую головку, склонённую над рукописанием Луки. А за окнами сиял ликующий день и кто-то незримый все приносил на солнечной вершине Этны благодарственную жертву богам…
– Ну, вот, – дочитав до скалки, на которую была навёрнута рукопись, взволнованно сказала Миррена. – Разве ты можешь сказать, что это плохо?
– Нет, милая, этого я сказать не могу, – отвечал Язон. – Но не могу и сказать, что все тут одинаково хорошо. Есть тут страницы красоты бессмертной – как рассказ о бедной блуднице, как страдания бедного рабби в саду Гефсиманском, как эти его удивительные слова с креста о неведающих что творят… Видишь, я не скрываю: на глазах моих слезы… Есть тут прекрасные сказки, как рассказ о его рождении, когда над его колыбелью ангелы пели дивную песнь, сказки, которые встречаются, однако, и у других народов. Но есть тут и просто-напросто человеческие глупости, тот мусор, который на земле, увы, примешивается ко всему великому, как все эти глупые рассказы о невероятных и нелепых чудесах, которые ни на что не нужны и которым не поверит ни один разумный человек. Что мне до того, что он исцелил будто бы какого-то слепого? По всему Риму идёт болтовня, что и Веспасиан в Александрии исцелял и хромых, и слепых… Что мне до этого, когда я ослеплён божественным светом его слов о блуднице, о лилиях полевых, о прощении неведающим?.. Я возьму вместе с собой все, что прекрасно, но грязный мусор отбросим: я не могу, я не хочу оскорблять учителя глупостью и низостью толп!.. А самое главное, моя Миррена, зачем, зачем будем мы из-за этого ссориться, обличать друг друга, ненавидеть? Зачем вы непременно хотите заставить всех принять все так, как это вам хочется? А если вы ошибаетесь? А если ненужный мусор, прилипший к прекрасному образу, вы принимаете за необходимую часть этого образа? Зачем ты хочешь, чтобы всем было непременно тяжело? Не лучше ли всем нам летать свободно на белых крыльях над этой солнечной землёй и вместе с ангелами Луки петь их прекрасную песнь: «Слава в высших Богу, на земле да будет мир, а в человеках благоволение»? За Распятого ты держись, а от них – уйди…
– А ты за него будешь ли держаться? – приласкалась к нему Миррена.
– Буду, сладкая моя… И за него, и за Сократа, и за Филета, и за твоего милого Луку, который готов иногда даже покривить немножко душой, чтобы красота и добро просияли ярче…
– Язон, – подняла она на него свои лесные глаза. – Но почему ты, злой, не говорил так со мной никогда раньше?
– Да потому, птичка моя, что ты не давала мне сказать ни единого слова, – улыбнулся Язон. – Ты знала все, а я был только тёмный и грешный не то иудей, не то язычник, которого ты должна обязательно спасти… хотя бы даже ценой гибели его… библиотеки…
– Не смей!.. – закрыла она ему рот рукой. – Если ты ещё раз будешь говорить об этом, мы рассоримся…
– Хорошо, не буду, – сказал он, удерживая улыбку. – Но я хочу только добавить, что те, кто знает все, милая, самые тяжёлые, самые недобрые, самые опасные люди на земле.
И когда солнце спустилось за посиневшую Этну и над кратером золотым огнём загорелся дым, Иоахим, отпустив Птоломея, подошёл к окну. И старый иудей увидел, как в саду, среди цветущих апельсинов, наполнявших благоуханием своим, казалось, всю вселенную, тесно один к другому прижавшись, ходили его дети, Язон и Миррена. «А вот этого, пожалуй, на Палатине я и не увидал бы…» – подумал Иоахим, и душу его наполнил глубокий мир и умиление. И опять вспомнилось ему последнее свидание с Веспасианом, когда цезарь, смеясь глазами, прозрачно намекнул ему, что о замыслах Иоахима ему все известно. «Пожалуй, ты немножко и прав, – сказал Веспасиан. – Действительно, дела шли из рук вон плохо. Но раз уж я на Палатине, то дай мне срок попробовать мои силы…» И – заговорил о займе… Умный, хороший старик…
– Нам совсем не нужно этого пышного дворца, – тихо говорил Язон. – Но не будем огорчать старика и останемся, пока он жив, с ним. А когда он…
– Постой, – перебила его тихонько Миррена. – Я хочу тебя попросить о чем-то и, если ты исполнишь мою просьбу, я скажу тебе что-то очень, очень хорошее…
– Хорошо, говори…
– А ты не будешь смеяться?
– Не буду…
Она положила ему руки на плечи и долго снизу вверх, колеблясь, смотрела ему в глаза.
– Но только ты не должен смеяться!..
– Не буду, – сдерживая улыбку, сказал он. Она все-таки колебалась.
– Я хочу… ты должен… Но только не смей смеяться!.. Я хочу, чтобы ты… сбрил бороду… Постой, постой! – воскликнула она. – Я знаю, что у тебя хорошенькая бородка… Она очень идёт тебе… Но я хочу, чтобы ты был такой, как в Ольвии…
– О, моя гамадриада!.. Все будет, как ты хочешь… Но теперь ты должна сказать мне, что обещала…
Она долго колебалась. Наконец она пригнула к себе его голову и прямо в ухо тихо-тихо прошептала:
– У нас с тобой скоро будет маленький Язон…
Вверху горела и искрилась вселенная. И вдруг среди звёзд встал сияющий образ Береники. Но – это было кончено… Все, что от прекрасной царевны осталось теперь в его жизни, это была тихая, грустная песенка где-то глубоко-глубоко в душе…