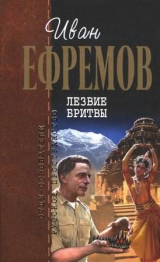
Текст книги "И.Ефремов. Собрание сочинений в 4-х томах. т.3"
Автор книги: Иван Ефремов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 52 страниц)
Три ночи я лежал, простертый в храме Вишванатха в Бенаресе, где большой гонг, звучащий с вечера, нес мне первозданный звук, пробуждающий единство идущего и его цели… – Даярам запнулся. Слово «Вишванатха» пробудило в нем воспоминание о другом храме того же божества. Встреча в том храме стала началом его теперешнего падения.
– Задача твоя нелегка, Даярам, – ответил Витаркананда, – очень нелегка, потому что скульптура – главный стержень искусства Индии на протяжении тысяч лет и тема женщины – тоже главный мотив искусства нашей страны.
Вступать в соревнование с уже достигнутыми вершинами почти невозможно, нельзя повторить пережитого много веков назад – это будет копия. Но если не покорять уже покоренную вершину, а найти другую, там, где еще не ступала нога человека, тогда ты найдешь свое, и не беда, что вершина, тебе доставшаяся, окажется не такой грандиозной, как прежние гиганты.
Жизнь – это беспрестанные перемены, Даярам. Скульптор с древности и до средневековья менял свои имена: садхак, мантрин, йогин, что, переводя с санскрита, означает творец, волшебник и видящий. Первые создатели художественных образов считались, следовательно, полностью творцами. Потом они стали волшебным, недоступным для нехудожников путем превращать обыденное в красоту. Еще позднее люди поняли, что они ничего не творят и не превращают, а просто видят.
– Может быть, я огорчу тебя, но я глубоко убежден, что ничего совершеннее природы в красоте создано быть не может. Она, создавая совершенство, отбирала миллионы лет, а художник, даже взявший труд предшественников, – один миг, в сравнении с историей мира. Однако, будучи микрокосмом, отражающим в себе вселенную, он может выбрать из Шакти – Бесконечности Форм – любые, ему нужные. Искажать же их, фокусничая наподобие западных глупцов, – плутовство или безумие. Вспомни место из Махабхараты, где говорится о появлении «мужеством добытой Урваши» – в нем, как в зеркале, отражено представление о цели и смысле живописи в древности.
– Я не помню.
– Следовало бы знать. Вкратце перескажу: «Нарайян (Высшее существо) был занят размышлением, когда небесные танцовщицы апсары в своей неуемной веселости и задоре пытались совратить его кокетством и лестью. Бог придумал способ излечить девушек от суетности. Взяв сок древа манго и используя его как краску, написал портрет воображаемой нимфы, нежной и большеглазой, высокогрудой и широкобедрой, с телом, исполненным таким изяществом, что ни богиня, ни женщина не могли сравниться с ней во всех трех мирах. Апсары, увидев Урваши, были пристыжены и тихо удалились, а картина, в которую, божественное искусство влило золотое дыхание жизни, стала живым идеалом женской красоты». Это относится ко времени, когда люди еще не осознали собственную красоту и не научились ее видеть. Так и теперь некоторые народности, стоящие на низкой ступени развития культуры, как в Африке или Южной Америке, и привыкшие ходить почти обнаженными, портят свои прекрасные тела нелепейшей татуировкой, навешивают чудовищные ожерелья, а иногда и просто уродуют лицо, подпиливая зубы, вытягивая губы и уши.
– Даже у нас в Индии прокалывают себе ноздрю и искажают нежные черты грубой розеткой или серьгой, болтающейся до губы.
– Видишь, даже у нас! Хотя я склонен думать, что этот обычай – более поздний, а не пережиток древности. Там, где индийская культура сохранилась в чистом виде, этого нет. Взять хотя бы далекие острова Индонезии. Там, на Бали, культура наша, а не мусульманская. Там до сих пор еще в деревнях люди ходят полуобнаженными, добавляя к чистой красоте своих тел лишь серьги. А наша Индия вся закуталась после мусульманского завоевания, принесшего нам и Сати, и затворничество женщин, и уничтожение изображений, лишившего нас тысяч храмов, почти всей живописи прежних времен.
– Но разве Сати – это мусульманский обычай? Никогда не подозревал!
– Не обычай, а последствие мусульманского завоевания. Но мы уклоняемся от цели нашей беседы и теряем путь… Если древние мастера, воображая идеал, творили то, что не видели, а люди средних веков, не находя идеала, усовершенствовали то, что видели, то более поздние художники видели, но не могли создать.
– Почему, гуро?
– Творцы древних образов старались создать обобщенный образ, возводя красоту в принцип, мечтая о воплощении всего прекрасного в мире. Так, фрески Аджанты, подобно Урваши, стали надолго идеалом. Неужели модели, служившие буддийским художникам, были совершенно идеальны? Чувственные и нежные, избалованные и надменные придворные женщины могуществом мантринов того времени были превращены в богинь, но не как отдельные индивидуальности. В эпоху общего снижения мастерства, после многочисленных войн, наши скульпторы повернули назад. Не в силах создать произведений могучей красоты, соответствовавших духу времени, они копировали прошлое, – а недостаток творческой мощи заменяли украшениями. Под покровом прихотливо вырезанных диадем, ожерелий, поясов, подвесок и причудливых причесок исчезает строгая и чистая красота тела, доведенная в изваяниях к шестому веку до высокого совершенства. В общем, тогда скульптор поступал подобно дикарю, украшающему свое тело блестящей проволокой.
– А теперь?
– Теперь мы страдаем от последствий английского владычества. Оно принесло нам западную науку и технику; но вместе с тем отравило и западным отношением к жизни и искусству, – я считаю его ядом. Уметь видеть, но не пытаться сложить из виденного целое, превратить в реальность, заставить поверить в него силой труда и таланта. Наоборот, они стараются рассыпать целое на крохи. Разбить вазу, чтобы любоваться причудливой формой черепка. Выбрать из живой игры светотени изображения две-три черты, пару красочных пятен и назвать это именем целого, заменяя мудрость собирателя красоты умением анатома. Это неизбежная расплата за разрыв с природой, с ее изменчивой игрой форм. Я не хочу никого бранить – какое я имею право, но в этом старании обязательно разбить, разломать, разобрать целое мне чудится обезьянья черта наивного исследования, свойственная всем нам в раннем детстве!
– Теперь я понимаю, почему нет жизни в нашей современной скульптуре, которая идет следом за западной.
Наши скульпторы, подражая Западу, стараются изобразить не всеобщую сущность красоты, а соригинальничать так, чтобы их произведения обязательно отличались бы от всего созданного ранее!
– Именно так! – одобрил гуру. – Подвиг великого творчества под силу лишь гигантам искусства, а новые наши мастера уродуют тело человека, в попытке утрировкой, диспропорцией и абсурдным искажением достигнуть выражения хотя бы одного-единственного чувства в форме. Одного – там, где должны быть сотни, да еще в тысячах оттенков и переходов! Разве не очевидно, что путь выражения отдельных индивидуальных, случайных черт должен был с неизбежностью привести к тому чудовищному искажению реальности, какой выражен в абстрактной скульптуре Запада и наших его последователей! Невыносимая ностальгия от разобщения с природой толкает людей на украшение окружающих их стен. Стеновая орнаменталистика и породила абстрактную живопись. Жизнь среди машин заставила скульпторов отказаться от неисчерпаемых черт прекрасного в природе и перейти к конструированию скульптур из металлических частей, превращая образ живого в некое подобие машины. Они забыли или не знали, что машина создана для работы, только работающая, она может отвечать нашему эстетическому чувству. Мертвая конструкция в самой основе скелетна и безобразна.
Гуру умолк. Они подошли к высоким воротам монастыря. От ручья доносились звонки маленьких молитвенных мельниц. Оборот колеса, отмечаемый звонком, означал, что написанная на нем молитва прочитана.
Протяжные низкие звуки радонгов – очень длинных труб – послышались из верхнего храма. В том же печальном и замедленном ритме отозвались большие и малые барабаны. Тревожные их удары чередовались с пронизывающими высокими нотами хора духовых инструментов и с редкими звенящими ударами литавр. Даяраму сначала музыка показалась нестройной и грубой. Постепенно ухо привыкало и улавливало главную тему странного оркестра – приветливую и успокаивающую, как бы встающую преградой на пути людских горестей и забот.
Шла ночная служба.
Витаркананда и Даярам поднялись на третий уступ, где были расположены кельи монахов. Здесь жил и художник, а профессор занимал светлый верх небольшой кумирни, еще на одну ступень выше.
Даярам направился к проходу вдоль стены, где выстроились рядами крошечные клетушки. Как ни тесно было в монастыре, завет буддийских вероучителей выполнялся строго – без уединения человеку недоступно никакое совершенствование. Ночлег и раздумья каждого должны свято охраняться в тиши отдельного помещения.
Единственный фонарь качался над террасой. Крупинки сухого снега проносились в слабом свете.
Художник обернулся. Витаркананда ступил на крутую лестницу, огибавшую черное зияние храмового входа, откуда тянуло резким запахом ароматных трав, курений и молитвенного сыра.
– Гуро, так неужели я был слишком самонадеян? По-твоему, я не смогу создать настоящее произведение искусства, Анупамсундарту Парамрати?
– Я этого не сказал, сын мой! Я говорил о великих трудностях, стоящих на пути к задаче, если ты хочешь уловить образ современности на уровне мастеров древности.
– Но и те ведь были люди! И видели даже не так уж много! Нам сейчас доступны сокровища искусства всего мира, не только всей Индии. И так много воскресло из небытия, извлеченное трудами археологов.
– Зато у древних было другое, очень важное в пути искусство – время! Время, Даярам! Вся неимоверная глубина многолетних раздумий, после того как изучены все шестьдесят четыре искусства и приобретено уменье расщепить волосок на тридцать две части, по древней поговорке. И это не пустые слова – ты знаешь, что такое музыка и танец для каждого индийца. В танце одних мудра – движений рук около шестисот… Мы сумели простой ритм барабанных звучаний обогатить сотней оттенков, двойственных, как наши ноты и как все в природе.
В скульптуре и архитектуре разработаны такие тончайшие каноны, будто сотканы узоры из лунных лучей и расчислены все переливы света в пене, качающейся на волнах в полуденный час. Накопленное нами богатство слишком отяготило нас. Мы тонем в словах, особенно в философии, задушены определениями того, что представляет лишь череду непрекращающихся переходов. Тонкость разработки оборачивается слабостью и стоит забором на дороге постижения, особенно в наши дни, с быстрым ходом времени и изменений в индивидуальной жизни. Но прости меня, я увлекся сам. Недостаток времени не даст тебе подняться в раздумьях и воображении до мастеров прошедших времен. Следовательно, ты нуждаешься в помощи. Эту помощь даст тебе модель, если ты найдешь ее! – Рамамурти подбежал к гуру.
– Я нашел ее, учитель! Но я…
– Полюбил ее? Это могло бы быть счастьем, я говорю не о житейской радости, а о совместном искании Анупамсундарты, то есть о счастье художника. Я знаю, что у тебя произошла беда, – простертой рукой Витаркананда остановил Даярама, пытавшегося ему ответить. – Теперь уже поздно, а завтра, я думаю, что тебе следует рассказать мне все. Я подумаю, чем помочь тебе, какой колеснице следовать, применяя терминологию наших добрых хозяев.
– Благодарю тебя, гуро!
Профессор исчез за поворотом лестницы, а Рамамурти ощупью добрался до своей кельи, сохранявшей запах несвежего масла, веками впитывавшийся в каменные стены и земляной пол.
За крохотным оконцем без рамы шумел холодный ветер. Даярам знал, что в левом углу, на низком столике, ему оставлен обычный ужин: горсть муки из поджаренного ячменя – цзамба – и завернутый в тряпье чайник со смесью зеленого чая, молока, масла и соли. Он, находивший вначале это питье отвратительным, теперь так привык, что не представлял, как он раньше обходился без него. Высокогорный ячмень – грим, – отличавшийся от равнинного голыми зернами, был каким-то особенно питательным и вкусным.
Рамамурти не знал, что таково общее, еще не изученное наукой свойство высокогорных ячменей. Например, ячмень, растущий на высотах южноамериканских Анд, применяется теперь специально для питания спортсменов перед труднейшими соревнованиями.
Художник развернул тряпку и увидел, что заботливый старый лама прибавил к ужину горсть сушеных абрикосов – лакомства здесь и самой дешевой пищи в беднейших деревеньках Кашмира. Есть художнику не хотелось. С нервной дрожью он бросился на постель – деревянную раму с натянутыми поперек полосками кожи, – поплотнее закутался в халат. Кромешная тьма кельи дышала холодом, ветер шумел назойливо и равнодушно.
Даярам возвращался мысленно к своей беседе с гуру, перебирая и осмысливая сказанное мудрым стариком.
В бездонной зрительной памяти художника накрепко врезаны каждая черточка, краска, движение, форма. И постепенно воспоминания, все более четкие и связные, поплыли в темноте перед ним. Образы и переживания, более жгучие, чем ядовитый сок молочая, мучительнее, чем жажда в пустыне, яростнее, чем солнце черных плоскогорий Деккана…
Даярам, получив в третий раз стипендию Академии искусств, заканчивал третье путешествие по музеям и храмам Индии, изучая громадное скульптурное наследие прошлого.
В этот раз его интересовала школа Калинга, более тысячи лет назад возникшая в Восточной Индии, в Ориссе, затем распространившая свое влияние по всей стране. Рамамурти посетил храм Сурья – Солнца в Конараке, оставшийся недостроенным с тринадцатого века, величайший монумент зодчества и скульптуры, когда-либо построенный в Индии. Поставленный на высокий постамент с изваяниями двенадцати пар трехметровых колес повозки Солнца, окруженный гигантскими изваяниями слонов и лошадей, храм поднялся в слепящее жаркое небо своей кубической громадой, увенчанной пирамидальной высокой кровлей. Скульптуры явлений природы, человеческие статуи поразительной жизненности и красоты, посвященные теме физической любви, составляют одно целое с его стенами. Они как бы влиты в контур здания, образуя неотъемлемую его часть. В храмах Южной Индии – Мадуре, Танджоре, Мадрасе гигантские надвратные пилоны покрыты тысячами скульптур. Это удивительное соединение колоссального труда с не менее гигантским замыслом, столь же захватывающее, как и пещерные храмы Эллоры. Но скульптуры южноиндийских храмов несравнимы с орисскими – величие конаракского храма, фантазия художников и величайшее мастерство выполнения гармонически слиты в одно целое, хотя храм не был закончен.
И все же Даярам стремился в Виндхья Прадеш, на реку Кен в Кхаджурахо, где орисский стиль на три столетия раньше, чем в Конараке, развился в особенно чистые, изящные, отточенно красивые скульптуры и постройки. Маленькая деревушка Санчи, близ Бхильвы, когда-то столица Восточной Мальвы, сохранила полусферический буддийский храм – ступу двухтысячелетней давности. Храм шестидесяти четырех йогиней в Бхерагхате. Бхархут, Гиараспур, на юго-запад от Кхаджурахо – все это посетил Даярам, прежде чем он пересек мутную речку Кхудар и подъехал на дряхлой машине к широкой, пыльной лесостепной равнине, где расположились тридцать храмов Кхаджурахо, построенных во времена могучих царей Чанделла.
– Необъяснимое волнение охватило художника при виде высоких сикхар – башен над святилищами, собравшихся группами на фоне голубых столообразных гор в запыленном мареве горячего воздуха, плававшего над серой равниной. Храмы разных вер индуизма: шиваистские, вишнуистские, джайнские – стояли на высоких кирпичных платформах, то совсем рядом друг с другом, то разделенные зарослями кустарника и низкими деревьями. Пирамидальный храм Кандарья-Махадева, устремленный в небо ракетой, казался невероятно высоким, хотя поднимал венец своей разрезной башни – сикхары – на высоту всего сорока метров. Глубоко врезанный геометрический узор на сикхаре под слепящим солнцем создавал впечатление движущейся, клубящейся массы черных и белых изломов.
Светло-желтый, солнечный песчаник, слагающий стены храма, остался нетронутым в углублениях и нишах, а все выступы почернели от прошедших десяти веков. Разница цвета камня не портила, а подчеркивала скульптурность здания. Три пояса скульптурных фигур около метра высотой были высечены на вертикальных выступах или столбах – трех широких и двух узких с каждой стороны фасада между балконами. Каждый пояс фигур разделялся горизонтальными выступами, спасавшими камень от непогоды.
Каждая скульптура, высеченная в высоком рельефе, была замечательным произведением искусства – персонажи божественных легенд, воины, мифические существа…
Даярам не спеша обходил храм за храмом, делая заметки, составляя план будущих зарисовок, продолжительных созерцаний и размышлений. Солнце уже садилось на пыльной равнине, когда Даярам направился в самый северо-восточный угол ограды западной группы храмов, пересек старую дорогу из деревни в Лайлуан и подошел к храму Вишванатха, чья высокая, в шесть метров адхистхана – платформа – выходила прямо к автомобильной дороге в Раджанагар. Этому древнему святилищу, построенному в 1002 году великим царем Дхангой, было суждено сыграть такую большую роль в жизни Даярама. Вишванатха отличался особенно тонкой отделкой. Его сикхара, увенчанная сосудом амрита, поднималась, как гласил краткий путеводитель, на высоту тридцати девяти метров. Как бы разрезанная на ребристые продольные полосы, башня стремительно уходила в жаркое голубое небо. Балконы выступали более резко и остро, чем в храмах Махадевы и Кали, на верхушках их толстых колонн виднелись головы и плечи лежачих богатырей – атлантов. Вертикальные столбы между балконами выступали углом. Изваянные на них фигуры стояли, обращенные в две стороны, а не полукругом, как в Кандарья-Махадева.
С первого же взгляда зрителя поражали десять слонов, стоявших на нависающей крыше самой видной части храма. Слоны были совершенно нетронуты временем, будто только вчера поставили их неведомые строители.
Здесь были наиболее прекрасные и выразительные небесные красавицы апсары или сурасундари. Художник особенного дарования, сочетавший удивительную жизненность с божественной красотой, сделал эти статуи, и работал он только в Вишванатхе. Считая с поврежденными временем и, главное, человеческим варварством, в трех поясах насчитывалось 602 статуи, несколько меньших размеров, чем в Кандарье-Махадева.
В противовес угловатой отделке поверхности здания скульптуры Вишванатха изгибались в самых закругленных, тщательно продуманных позах. Художники продолжали классическую линию Индии, трактовавшую женщину как героиню, но не пытавшуюся сравняться с мужчинами в их доблести и их достоинствах, что составляет обычную ошибку трактовки героини на Западе. Нет, эти изваяния представляли собою героических женщин по своей женской линии бытия. Гордое достоинство и снисходительная нежность, пламенная, все отдающая страсть и отважная стойкость – все гармонически сочеталось в статуях, призванных показать народу идеал женщин Индии, помочь им, бывшим и будущим, понять свою прелесть и цели своей жизни.
Десять веков простояли эти солнечные изваяния перед взорами множества поколений, и еще бесконечно долгие годы они будут изумлять тех, которые еще придут, волнуя и возвышая их великолепной красотой человека!
На консолях внутри святилища некогда были восемь статуй апсар, из которых уцелела только одна. Эта сурасундари глубоко потрясла молодого художника. Небесная танцовщица была изваяна на узкой пилястре, разделявшей две ниши, заполненные скульптурами сардул.
Сардулы – мифические животные, похожие на рогатых львов, – считались символом Шакти – активной силы природы. Против них сражались люди, изображенные под лапами зверей, ухватившимися за их хвосты. Другие, меньшие человеческие фигурки ехали на спинах сардул, выражая умение человека покорять силы стихии.
Как утешение в суровой борьбе, как обещание радости, обнаженная сурасундари, украшенная лишь пояском, браслетом и ожерельем, реяла между чудовищами. Склонив голову, апсара оглядывалась через плечо, повторяя позу правого зверя, но в немыслимом извороте по вертикальной оси тела. Скульптура была повреждена, ноги ниже колен совсем отбиты, и, несмотря на это, Даярам не мог оторвать взгляда от изваяния, созданного будто не долотом скульптора, а самой матерью природой.
Дневной свет, и без того скудный в темном святилище, быстро угасал. Рамамурти, наконец, нашел в себе решимость уйти. На прощание он осветил карманным фонариком статую с правой стороны. Солнечная красавица посмотрела на него через плечо, как живая, маняще и уверенно, а свет фонаря в его дрожавшей от волнения руке игрой теней придал странную жизнь ее блестящему телу. Художник стоял, думая о легендарных апсарах с солнечной кровью, которые иногда становились возлюбленными смертных мужчин в знак высшей награды за их доблести. Каменное воплощение такой апсары было перед ним, уже тысячу лет стоявшее в полутьме храма. Искать больше было нечего, самое лучшее, что создало древнее искусство его страны, находилось тут, на расстоянии вытянутой руки.
И душа Даярама наполнилась благоговейным страхом, будто он своими мечтами об Анупамсундарте, поставивший целью создать выдающийся образ женщины его народа, совершил кощунство перед мастерами, сумевшими давным-давно сделать скульптуры столь совершенные, что его мечты кажутся заслуживающими лишь жалости!
Но ощущение стыда и неловкости скоро прошло. Величайшая цель и мечта искусства – отражение природной мощи человека в красоте и силе его тела и души – неизменно двигала стремлениями художников Древней Греции и Древней Индии. Но Индия жива и полна сил, и сейчас, тысячелетия спустя после гибели Греции, кому же, как не ей, нести факел дальше? И как хорошо, что большинство живописцев Индии стоит на верном пути! А скульпторы… что ж, кому-то придется начинать заново. Пусть еще в тени гигантского наследия древнего искусства. Пусть! Чарайвети – вперед, путник!
Рамамурти сложил руки и поклонился статуе апсары, шепча «анади чарута» (вечная красота). Странный звук, подобный глубокому вздоху, послышался из темного прохода между двойными стенами святилища. Художник оглянулся, но темнота уже стала там непроницаемой. Даяраму показалось, будто легкое движение воздуха пронеслось к центральному залу мандапы – вероятно, порыв закатного ветерка. Рамамурти пошел к выходу, спустился по ступеням и зашагал в деревню. Он предпочел остановиться там, чем в гостинице с ее непрестанной сменой беспокойных туристов. Углубленный в свои размышления, художник предпочитал посещать храмы рано утром или поздно вечером, когда не было ни туристов, ни молящихся. Для местного населения количество огромных храмов, предназначенных для столицы когда-то бывшего царства Джахоти, было непомерно велико.
Поэтому всегда пустынны были высокие платформы храмов, их ступени поросли травой, торчавшей из всех щелей жесткими пучками, а жаркое безмолвие обычно сопутствовало художнику в его обходах величественных строений.
Даяраму помогало это безлюдье, лишь изредка нарушавшееся группами туристов, спешивших обежать храмы и поскорее вернуться к прохладе и ледяному питью в гостинице.
А для него, старавшегося понять смысл и язык древних изваяний, молчание храмов делало их отрешенными от всего, безвременными, и он сам как будто погружался в прошлое, проникаясь духом безвестных великих мастеров, принимая всем сердцем созданное ими.
Мельком взглянув на скрытый невысокими деревьями подъезд гостиницы, Даярам увидел несколько автомобилей и еще раз порадовался своему решению остановиться в селении. Он был хорошим ходоком, и ежедневные шесть километров ничего для него не значили.








