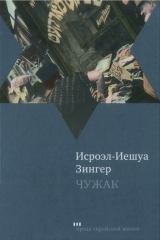
Текст книги "Чужак"
Автор книги: Исроэл-Иешуа Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– Не нужна мне никакая мануфактурная лавка на ямпольском рынке, – сердито буркал он маклерам. – Ступайте себе с миром, люди добрые, туда, откуда пришли.
В первое время он обходил свой большой земельный надел и по-хозяйски беседовал с десятком мужиков и баб, работавших в усадьбе. С блестящей черной бородой, незаметно подстриженной по краю так, чтобы она закруглялась, в белоснежном, выглаженном воротничке и с позолоченной цепочкой от полученных на свадьбу часов, переброшенной из одного кармана бархатного в крапинку жилета в другой, он пробирался среди картофельных гряд и хлебных полей, заливных лугов и глинистых пустошей и на помещичьем польском, грубо рокочущем и повелительном, командовал босоногими мужиками и бабами, чтобы те не ленились. Вскоре он отказался от помещичьего наряда, сперва – от выглаженного воротничка, потом – от бархатной жилетки, и сам стал участвовать в работе.
Следом за Ойзером, помогая ему в работе, смеясь и напевая, ходили обе дочери, Маля и Даля. Деревенский меламед возмущался, почему они не переписывают красивым почерком прописи, которые он для них написал. Мать глаза выплакала оттого, что среди крестьян и крестьянских девок ее дочки станут Бог знает кем. Она хотела научить их всему, что должна знать еврейская девушка из почтенной семьи, и прежде всего рукоделию: вышивать и плести, вязать и штопать. Девушки же не хотели ни переписывать прописи деревенского меламеда, ни вышивать цветы и листья на полотне. В веночках из белых полевых цветов на черных как смоль волосах, босоногие, в подобранных до колен платьях, они бывали повсюду наравне со всеми усадебными девками. Они вынимали яйца из курятника, поили телят около усадебного колодца, доили коров в хлеву и копали картошку в поле.
И даже по вечерам матери с трудом удавалось зазвать их домой. Каждый вечер хромой пастух Болек выгонял лошадей в луга, далеко-далеко, к самой границе поместья. На своей деревянной ноге, подкованной железом, старый Болек ловко управлялся с лошадьми. Спутав им передние ноги, чтобы они не разбрелись, он загонял их в заливные луга, где лошадей почти не было видно среди густой травы. Сам он усаживался на пригорке, вырезал дудочки из веток и играл длинные печальные пастушьи песни.
Маля с Далей привязались к хромому старому Болеку, по вечерам приходили к нему в луга и приносили ему из дома халы, оставшиеся от субботы. Болек несколькими оставшимися во рту зубами жадно откусывал кусок халы и глухим голосом рассказывал истории о былых временах. У Болека было полно историй: о войне, на которой он потерял ногу, о разных помещиках, у которых он служил, об их усадьбах, балах, дочерях, собаках и лошадях, но больше всего он мог рассказать об окрестных полях, лесах и лугах. Болек знал, что светляки, которые, поблескивая, летают над кринивицкими лугами, на самом деле никакие не светящиеся червячки, как люди думают, а блуждающие души, которые много нагрешили при жизни и поэтому не могут попасть в рай, вот и блуждают в воздухе; а в болотах, где квакают лягушки, живут черти, подстерегающие девушек, которые выходят вечером из дома без передника, и лошадей, что пасутся на лугах. Лошадиные черти очень вредные и большие проказники. Они любят заплетать косички в конских гривах. Их можно увидеть, пока они шмыгают возле конских копыт. И даже полевки не просто ночные твари, а тоже бесы, из тех, что любят вцепиться в девичьи волосы и наделать в них колтунов. А еще в гнилом дереве и в торфяниках живут злыдни, потому-то и можно увидеть, как оттуда выходит само собой голубое пламя, хотя никто ничего не поджигал. Эти-то злыдни и поджигают торфяники. От чертей Болек переходил к лесным разбойникам, цыганам, колдунам и ведьмам. Маля и Даля все шире и шире раскрывали глаза, слушая истории старого пастуха. И еще, хоть они уже не раз слышали об этом, им снова хотелось послушать, как это так вышло, что Болек остался один-одинешенек на белом свете.
– Всё из-за ноги, девочки, – ворчал Болек. – Деревенские девки меня и знать не хотели. Деревянная нога, так они меня звали, вот я и остался один-одинешенек… Видать, так Бог судил…
Хане приходилось много раз кричать в тихую деревенскую ночь, десятки раз звать Малю и Далю, прежде чем девушки отрывались от старого Болека и его историй.
Тоскливо было в Кринивицах по субботам, зимой, но тоскливее всего – в дождливые осенние дни.
По субботам Хана, как и прежде, когда был жив свекор, расстилала белую скатерть на большом дубовом обеденном столе, благословляла свечи в серебряных подсвечниках, которых, после всех растаскиваний, все еще было много в доме. Как и прежде, она надевала на себя в честь субботы весь свой жемчуг и крупные серьги. Но в молитве без миньяна не чувствовалось вкуса субботы. Ойзер буднично бродил взад-вперед по комнате и тихо, так что и слова было не разобрать, бормотал «Лехо дойди» [31]31
«Пойдем, друг мой <невесте навстречу>» – гимн, которым традиционно встречают субботу.
[Закрыть]. Деревенский меламед, в субботней шляпе, но в будничной капоте, вторил будничному бормотанию хозяина. Так же тоскливо проходила трапеза. Ойзер сидел на отцовском стуле, но его кидуш был лишен субботнего напева и субботнего аромата. Три четверти мест за столом были пусты. Деревенский меламед часто вздыхал. Иногда, когда какой-нибудь побирушка забредал в усадьбу и оставался на субботу, у Мали и Дали появлялось хоть какое-то развлечение. Хотя девушки и брезговали халой, от которой нищие отрезали ломти своими грязными руками с длинными ногтями, их смешили ужимки и гримасы побирушек.
Изголодавшиеся, в оборванных капотах, подпоясанных по бедрам кожаными ремнями, нередко калеки: горбатые, заики или глухие, заросшие, лохматые, – они чавкали, набивали полный рот, пережевывали пищу, как коровы, вылизывали тарелки, не переставая бормотать себе под нос что-то неразборчивое. Маля и Даля щипали друг друга чуть не до крови, изо всех сил старались сидеть за столом прилично, но, глядя на выходки нищих, разражались смехом. Ойзер переглядывался с женой.
– Девочки дичают в деревне, – вздыхала Хана, – совершенно невоспитанные…
– Маля! Даля! – сердито ворчал Ойзер. – Суббота!..
Двадцать четыре часа субботы были мукой мученической. Делать ничего нельзя, побегать нельзя. К чему ни прикоснись, всё осквернение субботы, грех. Хана раскрывала Тайч-Хумеш и нараспев читала дочерям. Но Маля и Даля уже знали все истории с прошлого года, с позапрошлого года и всеми силами сдерживали себя, чтобы не рассмеяться от старинного слога, который мать благочестиво тянула нараспев. Больше всего смешил их рабейну Бехай. Каждый раз, когда мать произносила «рабейну Бехай говорит», на них нападал дикий смех. Хана краснела от гнева.
– Что это еще за насмешки над праведником? – хотела она знать. – Что смешного в рабейну Бехае?
Девочки сгибались в три погибели.
– Я не знаю, но это очень смешно, – хихикая, отвечала Маля.
– Очень смешно, – как эхо повторяла Даля.
Но еще тоскливее, чем по субботам, было зимой, и особенно в дождливые осенние дни. Глинистая почва размякала и липла к ногам так, что поставишь ногу – не вытащишь. Глина облепляла обувь обитателей усадьбы, босые ноги крестьян и крестьянок, мохнатые ноги скотины. С соломенных крыш капало. Ветер раскачивал деревья, свистел, жаловался. С лугов и торфяников поднимались густые туманы и испарения. Переставшая дымиться труба заброшенного кирпичного завода тянулась в высоту, готовая вот-вот рухнуть. Вороны, которые прятались в ней от дождя, оглушительно каркали. Маля и Даля слонялись под дождем, иссеченные ветром, промокшие до костей. Вместе с ними бегали две дворовые собаки, Бурек и Бритон, мать и сын, которые жили как сука с кобелем. Промокшие до того, что аж пар поднимался от их лохматых шкур, они не переставали обнюхивать друг друга, играть друг с другом, кусать друг друга, кувыркаться и поминутно напрыгивать своими перепачканными глиной передними лапами на мокрые платья Мали и Дали. Так же как собаки, обе сестры, промокшие, в пару, толкали друг друга, гонялись друг за другом по глинистой земле, таскали друг друга за волосы, хватали друг друга за руки, целовались и смеялись. Голодные, как волки, они вваливались в перепачканной глиной обуви в дом:
– Мама, есть!
Хана всплескивала руками, видя промокших и перемазанных глиной дочерей.
– Не иначе как девки свихнулись, – вздыхала она.
Маля и Даля отрывали куски от ломтей хлеба с маслом и смеялись.
По вечерам они уходили к Ошеру-гончару.
Под маленькой керосиновой лампой, которая отбрасывала больше тени, чем света, сидел Ошер-гончар в закатанных до колен штанах, погрузив босые ноги в глину, и, быстро вращая куски глины на гончарном круге, вытягивал из них руками всевозможные горшки, миски и кувшины. Фройче-молчун, его сын, черноволосый и черноглазый юноша, похожий на цыгана, сидел рядом в засученных оборванных штанах, поверх которых болтались цицес, и помогал отцу в работе.
– Меси, меси, двигай ногами, Фройче, – подбадривал сына Ошер, умело вытягивая глину вокруг круглого столбика.
У большой печи, которая занимала половину комнаты, стояла Ошерова Баша в украшенном красными полосками чепце на стриженой голове и с закатанными рукавами. Она ставила для обжига горшки в печь. Супруги беседовали: говорили о том, что горшки дешевеют, а то, что в них варят, – дорожает; о неблизком пути, которым приходится таскать горшки в корзинах с сеном из Кринивицев в Ямполье; о том, что гончаров, не сглазить бы, на базаре столько, что горшков больше, чем покупателей.
– Что же может быть хорошего, – кричала Баша от печи, – если каждый крестьянин сам делает горшки?
Фройче сидел сумрачный, с пучками смоляных волос, которые выбивались во все стороны из-под маленькой суконной шапочки, и не говорил ни слова. Мале и Дале хотелось с ним поговорить, развязать ему язык, но им не удавалось вытянуть из него ни слова.
– Невежа, ты почему не отвечаешь, с тобой же дочери реб Ойзера говорят? – стыдил его отец. – Ты что, онемел?
Фройче молчал и лишь быстрей месил ногами глину. На Малю неизвестно отчего нападал смех.
– Фройче, хочешь меня в невесты? – спрашивала она, смеясь.
Даля сгибалась в три погибели.
По маленьким окошкам, заткнутым в отбитых углах тряпками, хлестал косой осенний дождь, и капли бежали слезами по тускло освещенному стеклу. Снаружи у крыльца лаяли собаки, просили, чтобы им открыли дверь.
4
Поскольку Маля и Даля так вымахали, что мать едва доставала им до плеча, Хана начала осторожно обхаживать мужа, выжидая подходящую минуту, когда Ойзер будет в добром расположении духа, чтобы поговорить с ним о серьезном деле.
Дочери теперь все время стояли у Ханы перед глазами, выросшие и по-женски созревшие. Особенно удались руки и ноги, длинные и стройные. Когда они расхаживали в своих коротких, ими самими сшитых ситцевых платьицах, из которых торчали голые руки и ноги, казалось, будто их стройные и гибкие тела состоят из одних только рук и ног. Вот эти-то длинные руки и ноги и стояли все время у Ханы перед глазами.
– Маля, Даля, – стыдила она дочерей, – прикройтесь, перед гоями совестно.
Но Маля, как обычно, смеялась, а Даля вторила ей.
Еще больше, чем взрослость дочерей, Хану терзала мысль о приступах головной боли, которые внезапно случались с девушками и держались по целым часам и даже дням. Сперва сильные головные боли начались у Мали. Она обвязывала лоб белым платком, над которым черные как смоль волосы выглядели еще чернее и жарче. Казалось, они пылают своей чернотой. За Малей, как тень, начала ходить Даля, тоже с белым платком, обвязанным вокруг головы. Их глаза, обычно широко раскрытые и удивленные, словно они только что услышали невероятную новость, начинали смотреть по-другому. Вдруг эти радостные и озорные глаза, которые, казалось, воспламеняют вокруг себя воздух, болезненно заволакивались обморочной тоской, то же самое происходило с настроением сестер: только что они баловались и проказничали и вдруг становились болезненно печальны. Белые платки вокруг девичьих голов и эти дикие перемены настроения ужасали Хану. Хотя она твердо знала, что разговоры с Ойзером никогда не доставляли ей никакого удовольствия, она вертелась вокруг него, заглядывала ему в глаза, ожидая, когда он будет расположен поговорить о домашних делах.
– Ойзер, – тихо сказала Хана, опустив голову, словно уже провинилась тем, что решилась заговорить, – Ойзер, Мале уже двадцать лет, до ста двадцати ей.
– Ну? – сухо спросил Ойзер.
Хана погладила своего единственного сына, которого все время прижимала к фартуку, как напоминание о том, что она после дочерей родила кадиш своему мужу.
– Даля тоже, не сглазить бы, очень выросла. Девочки растут как на дрожжах.
– И что из этого следует? – пробормотал Ойзер, хотя знал, к чему клонит Хана.
После свадьбы, с тех пор как отец женил его на Хане, хотя он втайне был влюблен в троюродную сестру, он никогда сам не заговаривал со своей женой, лишь отвечал ей коротко и сердито, сверху вниз. Хана каждый раз, слыша угрюмые ответы мужа и его насмешливый тон, чувствовала себя глупо.
– Кринивицы не место для взрослых дочерей, – пролепетала Хана.
Ойзер вскипел.
– И что, может быть, я должен из-за них переехать в Ямполье, на рыночную площадь? – спросил он.
Хотя Хана не видела в таком переезде ничего зазорного, она не решалась прямо сказать об этом мужу.
– Кто говорит о Ямполье? – отозвалась она. – Я только имею в виду, что следует подумать… Ты же отец…
Ойзер расчесал подстриженную бороду, которую он холил, что твой помещик, и, как обычно, презрительно отмахнулся от Ханы.
– Не горит, женщина, – сердито сказал он. – Чтобы я столько же мог уделять времени своим делам, сколько я забочусь о дочерях… Ступай, ступай…
Хотя он и понимал про себя, что, по существу, Хана говорит о важном деле, он не мог вынести того, что жена перекладывает женские заботы на его плечи. Ойзер терпеть не мог забот, терпеть не мог думать о важных делах. Его красивая черная голова была приспособлена не для размышлений, а для раздражения и мечтаний: его раздражал весь свет, который не дает ему, Ойзеру Шафиру, всего того, чего он хочет, и он мечтал о тех золотых временах, которые в конце концов неожиданно нагрянут в Кринивицы и одарят его всевозможными благами. Лежа после обеда на плюшевом канапе, подложив под голову думку, на которой Хана еще невестой вышила готическими буквами Morgenstunde hat Gold im Munde [32]32
Немецкая пословица, аналогичная русской «Кто рано встает, тому Бог подает», букв. «У утреннего часа золото во рту» ( нем.).
[Закрыть], Ойзер не переставал думать о кринивицкой усадьбе, которая вскоре начнет процветать, и о той помещичьей жизни на широкую ногу, которую он еще будет вести.
Это была не только вера в лотерейные билеты, которые он постоянно приобретал, или в то, что помещики, задолжавшие отцу, вдруг начнут возвращать долги, или в затяжные процессы, которые адвокаты со временем выиграют у казны. Это была вера в железную дорогу, которую, как поговаривали, вскоре проведут по кринивицкой земле, и тогда ему, Ойзеру, заплатят кучу золота за позволение проложить пути по его владениям. Об этом толковали уже долгие годы, но, несмотря на то что ничего так и не происходило, Ойзер горячо верил в железную дорогу. Сколько бы раз ему ни приходилось бывать в Ямполье, он не забывал сходить к русобородому начальнику, чтобы расспросить его о железной дороге. Толстый начальник с сальными глазками, взяточник, обжора, пьяница, из тех любителей жизни, что и сами живут, и другим жить дают, каждый раз снова уверял Ойзера, что в Петербурге над этим думают, очень серьезно думают, и все будет, нужно только спокойно ждать. Ойзер всякий раз возвращался домой возбужденный и неделями напролет размышлял об этих словах, лежа на мягком плюшевом канапе.
Но с Ханой он редко говорил о железной дороге. Во-первых, он все еще злился на нее за то, что она помешала его тихой юношеской любви к троюродной сестре. Во-вторых, Хана не поддерживала Ойзера в его мечтаниях. По-женски практичная, она качала головой в ответ на его фантазии, словно жалела ребенка, который говорит глупости. Ойзера возмущала эта бабья узколобость. Зато перед дочерьми он мог не сдерживаться. Молчун по природе, он становился очень разговорчивым, едва дело доходило до рассказов о том, как будут выглядеть Кринивицы, когда в добрый час проведут железную дорогу. Маля и Даля, которые не унаследовали отцовской мрачности, но при этом перещеголяли его в способности строить воздушные замки, охотно подсаживались к его канапе всякий раз, когда он их подзывал, чтобы выговориться перед ними.
Усевшись рядом с ним в головах и в ногах, гладя его и прихорашивая его бороду, две уже взрослые девушки, сплошь руки да ноги, раскрыв рты, слушали сладкие речи отца.
– Не о чем тужить, девочки, – произносил Ойзер, сверкая черными глазами, – вы еще увидите, какой усадьбой станут Кринивицы.
Вечный ворчун, человек, который больше бормочет, чем говорит с людьми, Ойзер становился источником сладкоречия, описывая дочерям кринивицкое царство, которое, в добрый час, процветет. Железная дорога заплатит владельцам за торфяники и луга, которые она у них приобретет, чтобы проложить пути. Деньги пойдут на покупку новых лошадей и машин. Благодаря путям каждый аршин усадебной земли будет на вес золота. Кирпичный завод, который стоит заброшенным, потому что трудно вывозить кирпич по песчаным дорогам в большие города, снова начнет работать и будет каждый день производить вагоны кирпичей. Разрушенная водяная мельница снова начнет молоть муку. Деньги польются рекой. Тогда можно будет все перестроить в усадьбе, привезти из города новую красивую мебель. Можно будет поселить в усадьбе портных, чтобы они шили для всех красивые платья. Можно будет и карету купить, и новую упряжь для лошадей. Стоит пожелать, кучер запряжет лошадей и – галопом в местечко. Все Ямполье станет ломать шапки, когда кринивицкие будут проезжать мимо в карете. Затем можно будет справить свадьбы для обеих: сперва для Мали, а после для Дали – самые богатые и красивые юноши захотят породниться с Кринивицами.
Фантазерки, размечтавшиеся от отцовских речей, Маля и Даля так широко раскрывали глаза, полные удивления и счастья, что отец сам восхищался красотой своих дочерей.
– Будь я проклят, если у графа Потоцкого во дворце есть такие дочери, как у меня в Кринивицах, – говорил он с гордостью.
Маля и Даля переглядывались, как будто видели друг друга впервые, и разражались смехом, звенящим, бьющим, как родник, смехом. Переполненные счастьем, которое было слишком трудно вынести, обе девушки брали длинные ноги в руки и пускались бегом в луга, чтобы там хохотать и целоваться. Хана сердито качала головой: отец сводит дочерей с ума своими фантазиями, сбивает их с пути истинного.
Сколько бы она ни пыталась заговорить с дочерьми о том, что они уже не дети, что им следует вести себя прилично, потому что нужно думать о будущем, тем более что приданого у них нет, девушки всякий раз смеялись над ней. Точно так же они смеялись над шадхенами, которые иногда захаживали в усадьбу из Ямполья, и над возможными женихами, которые приглянулись Хане.
Хана взяла дело в свои руки. Видя, что с Ойзером говорить не о чем, что он ее не слушает и не думает о будущем, забивая себе голову глупыми мечтами, она сама начала заботиться о будущем своих подросших дочерей. Среди уважаемых гостей, которые все еще забредали в Кринивицы, чтобы встретить сам субботу, среди лесных подрядчиков и бракёров из окрестных лесов, которые иногда заезжали в усадьбу, часто попадались люди с понятием, из тех, которые знают всех и которых все знают. Хана легкими женскими намеками пробовала прощупать почву насчет достойной партии для старшей, Мали, насчет какого-нибудь славного парня, который не столько гонится за деньгами, сколько ищет красивую, хорошую девушку из благородного, почтенного дома. Уважаемые люди записывали ее слова в записную книжку, а потом интересовались: можно ли взглянуть на девушку на выданье, чтобы знать, о ком идет речь.
Хана очень хотела, чтобы Маля по-людски ставила на стол угощение и вела себя, как подобает девушке на выданье. Но Маля вела себя совсем не так, как хотелось матери. Одетая в короткое ситцевое платьице домашнего покроя, из которого торчали голые руки и босые ноги, непричесанная, с распущенными черными волосами, она с озорным видом пробегала через комнаты, напевая крестьянские песни и посвистывая. Уважаемые люди разочарованно смотрели ей вслед.
– Итак, – говорили они, ухватив себя за остроконечную бороду, – это она и есть, ваша девушка на выданье, внучка реб Ури-Лейви? Ну, ладно, поглядим…
У Ханы по лицу шли красные пятна.
– Маля, что это за поведение? – раздраженно спрашивала она. – Можно подумать, что у тебя нет платьев.
Маля смеялась людям в глаза. Даля ей вторила.
Еще хуже вела себя Маля, когда в усадьбу заезжали молодые лесные подрядчики.
Хана очень хорошо принимала их. Загорелые, рослые еврейские парни в высоких сапогах и с желтыми складными линейками для измерения объема древесины, они накрепко приросли к кринивицкой усадьбе, где воспитывались взрослые девушки. Они были один лучше другого, эти сыновья богатеев-лесоторговцев, которые работали на своих отцов, и шадхены предлагали им множество партий. Хана видела своим материнским глазом, что эти загорелые парни не просто так захаживают в кринивицкую усадьбу, что у них серьезные намерения. Они сохнут по внучкам реб Ури-Лейви. Поэтому она заваривала для них крепкий душистый чай, доставала блюдца с вареньем и звала дочерей к столу, чтобы те показались во всей красе.
– Маля, дочка, – нежно обращалась она к старшей, как обычно обращаются матери к дочерям, когда хотят, чтобы те понравились, – принеси к столу варенье, которое ты сварила.
Это был намек сыновьям лесоторговцев на ее способности по части варки варенья, но Маля портила материнский расчет.
– Ты, наверное, имеешь в виду твое варенье, – поправляла Маля материнскую ложь, – я совсем не умею варить варенье.
Хана краснела от парика до воротничка.
– Внучка реб Ури-Лейви, – говорила она, в шутку грозя пальцем, чтобы загладить неловкость, – всё с выкрутасами, как свекор, светлого ему рая.
Маля ложками ела варенье из блюдца, совсем не так, как подобает девушке на выданье, облизывалась от удовольствия, вся сплошь длинные руки и ноги, и ни за что, хоть мать все время глазами давала ей это понять, не хотела обдернуть платье. Точно так же она не хотела вести благородные речи о литературе, хотя проглатывала польские книжки одну за другой. Вместо того чтобы говорить красивые слова, она смеялась, болтала всякую ерунду и даже подтрунивала над застенчивыми парнями. Парни в ответ глупо улыбались, не зная, куда деваться. Среди девушек на выданье, с которыми им устраивали смотрины, еще не было таких, как кринивицкие сестры. Поэтому-то парни и не знали, о чем говорить и как себя вести в чужом доме. Постоянно благодаря хозяйку за все новые тарелки с угощением, к которому они из приличия не прикасались, они чувствовали себя лишними и глупыми рядом с двумя все время смеющимися девушками, причем невозможно было понять, над чем же эти девушки так смеются. Испытывая одновременно отторжение и влечение, еврейские парни быстро откланивались, чтобы наконец отдышаться за воротами усадьбы.
– Было очень приятно, – говорили они, тыча руки и дотрагиваясь до козырьков своих картузов, не зная толком, следует их снимать или нет.
Хана разражалась плачем, как только оставалась наедине с дочерьми.
– Смейтесь, смейтесь, – кричала она, – хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Хотя Хана и боялась бранить Ойзера, она все-таки не могла сдержаться и бежала к нему, чтобы выдать ему по заслугам за его дорогих доченек, которых он сводит с ума своими бреднями.
– Дочери засидятся в девках до седых волос, – предупреждала она, – дай Бог, чтобы я ошибалась…
Маля и Даля убегали в поля и, дико смеясь, защипывали друг друга до полусмерти.
Передразнивая смущенных парней, чрезмерную учтивость, с которой они пробовали варенье, их заикающуюся речь, Маля сгибалась до земли от душившего ее смеха.
– Они были ужасно смешными, Даля, – хихикала она.
Даля утирала слезы, выступавшие на глазах от смеха.
– Нужно было видеть маму, – вспоминала она, изображая, как мать трясет подбородком.
Хана, опустошенная, чуждая мужу и дочерям, прижималась к своему единственному сыну, покрывая горячими поцелуями его пухлые щечки.
Маленький Эля, мягкий и милый, был очень похож на свою маму, не то что его старшие сестры.
Он был очень привязан к матери, а от отца, боясь его, старался держаться подальше. Хана находила свое единственное утешение в единственном сыне. Хотя он был еще маленьким мальчиком, она уже далеко заносилась в мечтах о его будущем. Сына она не будет держать в деревне, решила про себя Хана, пусть Ойзер упирается, сколько ему влезет. Она пошлет его к хорошим меламедам, к дорогим учителям. В городе он вырастет человеком, станет ей утешением за все невзгоды. И она вкладывала всю свою материнскую душу в сына.
– Ты любишь маму, Элеши? – горячо шептала она. – Ты мамин сын, Эля-золотце, мамино сокровище, мамино утешение…
5
Вскоре, никто и оглянуться не успел, ямпольские шадхены начали поговаривать о том, что от дочерей Ойзера из Кринивицев толка не дождешься, так что грех тратить на них силы и слова.
– Из этакого зерна муки не намелешь! – говорили люди между собой. – Сами не знают, чего хотят.
– Оборванки и гордячки, – повторяли женщины на базаре.
К такому же выводу приходили парни из окрестных местечек. Они перестали заглядывать в усадьбу.
Ойзер ничего не предпринял по этому поводу. Надежды на железную дорогу, которую должны вот-вот провести через его Кринивицы, переполняли его красивую голову. Каждый год он снова ждал этого, предвидя счастье, которое неожиданно нагрянет. Маля и Даля смеялись. Всякий раз, стоило появиться шадхену, заехать матери неженатого парня, пожелавшей взглянуть на девушек, или самому парню, которому предстояло краснеть, отведывая варенье, как у сестер снова надолго было полно поводов для смеха, для взаимных щипков, передразнивания и гримасничанья. Единственным человеком, предвидевшим несчастье, была Хана. Но она молчала. Хана давно уже поняла, что, имея дело с мужем и дочерями, она всегда будет оставаться в дураках, и решила ничего не говорить. Она молча смотрела на происходящее и, обладая женской практичностью, отчетливо видела, что дочери сами себя губят.
Все шло своим чередом, так, как это всегда бывает с девицами, которые вбили себе в голову, что лучше их нет никого на свете. Хана такое уже видала. Сперва, когда сыновья богатых лесоторговцев наведывались в усадьбу, добиваясь внимания сестер, Маля и Даля держались высокомерно и смеялись над ними; потом эти парни женились и, гордые своими женами, стали нарочно заезжать в кринивицкую усадьбу. Малю раздражало это мальчишеское хвастовство. Хоть Маля и раньше смеялась над этими парнями, которые когда-то сидели за их столом такие смущенные, и теперь думать о них не думала, она чувствовала, что они слишком быстро отвернулись от Кринивицев и поторопились связать свою жизнь с другими девушками. Это женское поражение вызывало, вместе с негодованием против мужчин, уважение к ним. Весь комизм их бывших женихов улетучивался, когда они вальяжно и уверенно заезжали со своими избранницами во двор усадьбы.
– Знаешь, Даля, они не такие уж и глупые, – серьезно, без тени смеха, шептала Маля сестре.
– Совсем не глупые, Маля, – отзывалась Даля, как обычно, когда старшая что-то говорила.
Потом стали наведываться другие парни, но сортом похуже, чем первые, которые заезжали несколько лет тому назад. Хана тоже приглашала их к столу и просила Малю принести побольше угощений. Маля, в своем унижении, вовсе не хотела разговаривать с этими второсортными парнями.
– Мама, – говорила она уже сердито, – я не хочу, чтобы всякое ничтожество приезжало глазеть на меня. Отошли их туда, откуда явились.
Чтобы подчеркнуть свое падение, она начинала вышучивать этих новых персонажей перед Далей и смеяться, как в старые времена, переходя от слез к хохоту. Даля вторила сестре.
С каждым годом заезжие еврейские парни становились все хуже. Так как ничего не выходило, шадхены и женихи вообще плюнули на Кринивицы и оставили их в покое. Однажды, правда, заехал приличный парень, человек почтенный и из хорошей семьи, но он больше смотрел на Далю, младшую, чем на ее старшую сестру Малю. Даля была этим так оскорблена, так обижена за свою старшую обожаемую сестру, что она насупилась и даже двумя словами не захотела перемолвиться с этим парнем. Маля отчитала младшую.
– Ты глупая девчонка, Даля, – сказала она ей, – парень тебя ел глазами. И он к тому же хорош собой.
– Какой идиот! – Даля не могла простить, что кто-то посмел пренебречь Малей, ее Малей, самой красивой, самой замечательной, самой умной на свете.
Как всегда, все кончилось передразниванием, обоюдными поцелуями и смехом, смехом без конца.
Потом пошли годы, пустые и тихие, похожие один на другой, как две капли воды. Ойзер вырывал перед зеркалом белые волосы из черной бороды, но вместо каждого вырванного вырастала дюжина новых седых волосков. Он оставил их расти как растут и больше их не трогал. Хана была поглощена своим единственным сыном, Элей. Меламеда в Кринивицах уже не было. Он не требовался, да и платить ему было бы нечем. Эля занимался с учителем в губернском городе, и Хана все время посылала ему посылки из дома: печенье, масло, сыр, баночки меда и даже связки сушеных грибов, которые она заготавливала каждое лето. В посылки она вкладывала письма, длинные письма, исписанные со всех сторон, полные просьб, чтобы он, ради всего святого, прилежно учился, кушал вовремя, не надрывался, не приведи Господи, и, главное, дружил с детьми из порядочных семей, таких же, как его собственная, и не водился с плохими ребятами; потому что он один – мамино утешение, зеница ока и единственная надежда в ее горькой жизни.
Маля и Даля работали, читали книги, сами шили себе платья: переделывали старые, перекраивали, удлиняли, укорачивали и смеялись.
Хана не переносила этого смеха.
– Сколько можно смеяться? – не понимала она. – Вам что, так хорошо?
Маля грубила матери, отвечала сердито:
– Да, именно, что хорошо, и не охай над нами.
Лицо Ханы шло красными пятнами.
– Ойзеровы дочки, – бормотала она. – Подумаешь, корону на голове ей задели.
Маля заступалась за оскорбленного отца.
– Да, да, Ойзеровы дочки, – гневно произносила она. – Потому и смеемся над Ямпольем со всеми его недоделанными женихами… Поняла?!
Задрав голову, обе сестры уходили в поле и набрасывались на работу.
У них было много работы, у Мали и Дали. Каждый год еще один крестьянин покидал усадьбу и переходил к какому-нибудь другому помещику в округе. Ойзеру нечем было платить. Денег не было. Надворные постройки обветшали, а починить их было не на что. Коровы состарились и больше не доились. Оставшиеся крестьяне и крестьянки обленились и работали плохо. Ойзер стал старше, слабей, но все еще не отказался от привычки мечтать лежа на плюшевом канапе, из которого лезли пружины и конский волос. Прежней крепости в нем уже не было. Он не мог, как прежде, по-помещичьи повелительно, заставить мужиков работать. Так что вся усадьба осталась на руках у Мали и Дали. Они доили коров, взбивали масло в маслобойках, присматривали за курами, гусями, утками и индюшками, даже помогали вязать снопы в поле во время жатвы и пропалывать картофельные поля от сорной травы. Крестьяне и крестьянки работали веселей, когда видели, что хозяйские дочки заняты в поле с рассвета до заката.








