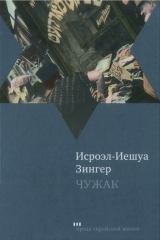
Текст книги "Чужак"
Автор книги: Исроэл-Иешуа Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Кроме того, сестры прибирали в доме, оттирая нищету, которая так и липла к изношенной мебели, гладили воротнички и манжеты для отца. В полном своем упадке он все еще сохранял прежние помещичьи привычки: расчесывал бороду, чистил до блеска обувь и носил в деревне глаженые воротнички и манжеты. Девушки вкладывали всю свою любовь к отцу в глаженье его рубашек. Насколько они не позволяли матери повышать на них голос и ссорились с ней из-за всякого пустяка, настолько же они уважали отца, сохранив это уважение с тех пор, когда они были еще маленькими девочками.
И хотя они больше не верили его мечтам о каретах, которые он купит для них, они не говорили ему об этом. Сидя в ногах канапе, они заслушивались его сказками о железной дороге и о том, как он тогда заживет на широкую ногу.
– Не беспокойтесь, девочки, – говорил он, – это дело решенное. Я даю вам слово, я – Ойзер Шафир.
– Мы верим тебе, папа, – вторили они ему.
Они любили его за его гордость, за его нежелание перебираться в Ямполье и больше всего за то, что он не говорил с ними о будущих женихах, как мать.
И вот как-то летом, в пору жатвы, когда солнце поджаривало снопы на скудных кринивицких нивах и пасущаяся скотина с удовольствием щипала колючее свежее жнивье, бричка, запряженная парой вороных в русской упряжи со множеством гужей, обновила узкую, песчаную, заброшенную дорогу и остановилась у кринивицких торфяников. Мужчины с кокардами на фуражках смотрели в бинокль, записывали что-то на бумаге и делали замеры.
Мужики воткнули серпы в землю и сняли широкополые дырявые соломенные шляпы. Бабы надвинули красные платки на лоб и приложили руку козырьком к светлым глазам, чтобы лучше видеть. Полуголые крестьянские дети тотчас побежали в господский дом сообщить новость хозяину. Ойзер накинул альпаковую капоту в рубчик, лишний раз расчесал бороду пальцами и поспешил в поля. Маля и Даля опустили подоткнутые подолы платьев и поправили волосы. Даже Хана, которая никогда не верила в то, что кто-нибудь когда-нибудь прибудет прокладывать железную дорогу на заброшенных кринивицких землях, в чем ее всегда убеждал Ойзер, беспокойно и удивленно выслушав известие о мужчинах, которые измеряют поля, отправилась к торфянику.
– Тихо, глупые шавки! – успокоила она собак, которые ожесточенно гавкали, унюхав чужих в деревне.
Маля и Даля молча смотрели большими глазами, которые теперь выражали одно сплошное удивление, и посмеивались. Возбужденный Ойзер стоял и ждал, что его позовут. Хотя ему ужасно не терпелось подойти поближе и услышать о том, чего он ждал всю жизнь, он все-таки стоял на своем месте, глядел и то убирал руки в карманы своей альпаковой капоты в рубчик, то вновь вынимал их. Он только издали следил за каждым жестом чужаков, каждым их движением. Даже далекие витые дымки их папирос он напряженно провожал глазами. Помещик все еще крепко сидел в нем, и он не хотел показывать своего беспокойства.
После довольно беглого осмотра, зарисовок и замеров мужчины сели в бричку и исчезли так же быстро, как явились.
Через несколько дней пришли, поднимая столбы пыли своими тяжелыми сапогами, полчища солдат в гимнастерках цвета хаки и со скатками через плечо. Они потоптали те хлеба, которые были еще не сжаты, и вырыли в земле ямы. Затем они забрали бревна, лежавшие в усадьбе, сделали из них столбы и вбили их в землю. Между столбами они натянули колючую проволоку.
В Кринивицы пришла война.
6
В течение нескольких лет солдаты во всевозможных мундирах сражались друг с другом и убивали друг друга на песчаной, глинистой и болотистой кринивицкой земле.
Сперва пришли серошинельные русские в широконосых сапогах. Затем пошли в наступление голубомундирные австрияки с кокардами на круглых фуражках и в обмотках на ногах. После снова на некоторое время набежали серошинельные, а за ними – снова голубомундирные. Потом на крестьянских телегах приехали зеленомундирные поляки в остроугольных фуражках, похожих на гоменташи. После снова стали наступать серошинельные, но вместо погон они теперь носили красные банты. В конце концов опять пришли зеленомундирные с гоменташами на головах.
Каждый раз вооруженные люди снова рыли кринивицкую землю, рубили деревья, сводили лошадей из конюшен, забирали коров с пастбищ, домашнюю птицу из птичников, выгребали зерно и сено из амбаров, давая за это квитанции, реквизиционные квитанции с русскими орлами, австрийскими орлами, польскими орлами. Каждый раз, как только ружья начинали трещать с таким звуком, будто кто-то ломает изгородь, а пулеметы харкать, будто у них кость застряла в горле, Ойзер хватал жену и детей, паковал перины, субботние подсвечники, одежду и посуду и бежал в Ямполье, чтобы перебедовать напасть в местечке. И каждый раз снова, как только становилось тихо и военные власти перекрашивали дорожные указатели и шлагбаумы в цвета своего флага, Ойзер паковал вещи и возвращался в Кринивицы.
Ямпольские обыватели, дальние родственники, друзья – все неодобрительно качали головам каждый раз, когда Ойзер собирался обратно в свое имение.
– Ойзер, это бесконечная история, – настаивали они. – Останься в Ямполье среди евреев. Как все, так и ты. Гори они огнем, эти Кринивицы.
Хана плакала каждый раз, когда опять начинали паковать перины.
– Ойзер, хватит таскаться как цыгане, – голосила она. – В опасные времена евреи должны быть среди евреев. Бог нас не оставит.
Ойзер и слышать ничего не хотел.
Дни в Ямполье, где ему приходилось пережидать беду, были для него пыткой. Он не выносил тамошнего воздуха, тамошних запахов, тамошних людей, их манеру говорить, жестикулировать. Он буквально не выходил за дверь, даже избегал ходить в бесмедреш и молился дома. Хотя ямпольские обыватели здоровались с Ойзером и, бывало, заискивали перед ним, они, несмотря на это, прятали в бородах усмешку – так смеются над опустившимся отщепенцем. Те, кто понаглее, даже отпускали шуточки в его адрес. У Ойзера от этого кровь начинала стучать в ушах, и поэтому он избегал людей. Целыми днями он лежал на канапе и ждал добрых вестей из Кринивицев. Который уже раз он заново пересчитывал реквизиционные квитанции с орлами, которые он хранил в своем большом бумажнике. Ямполье не высоко ценило эти расписки с орлами.
– Вот вам понюшка табаку за эти сортирные бумажки, – заявляли местечковые обыватели.
Ойзер берег эти бумажки как зеницу ока. Как когда-то он верил в железную дорогу, так теперь он верил в бумажки, выпущенные разными государствами, запечатанные печатями и украшенные орлами. Пусть только установится власть, и он вернет все, что у него отобрали.
Точно так же Маля и Даля сидели дома, укрывшись за занавесками, которые они повесили на окна, и цветочными горшками, которыми они тесно уставили все подоконники. Они никогда не забывали взять с собой горшки с цветами, когда приходилось бежать из усадьбы.
Ямполью очень хотелось увидеть кринивицких дочерей, о которых говорили, что они решили остаться старыми девами. Хана, которая в деревне уже было отчаялась когда-нибудь дожить до родительских радостей от своих упрямых дочерей, в Ямполье, среди евреев, снова обрела упование на милость Всевышнего. Она начала искать подходящих людей. Шадхены стали приходить к ней в дом.
– Госпожа Шафир, – набивали они себе цену, рассказывая о безнадежных свадьбах, которые им удалось устроить, о вдовах и разводках, – не забывайте, что сейчас военное время. Каждый мужчина на вес золота. А ваши дочери, не сочтите за обиду, уже совсем не девочки… Хватайте зятя, а то поздно будет.
Хана очень хотела показаться перед людьми вместе со своими дочерьми, которые все еще затмевали красотой и статью всех обывательских дочек в Ямполье. Но Маля и Даля прятались дома, как и их отец, поджидая добрых вестей из деревни.
И как только власть устанавливалась, они быстро паковали перины, не забывали забрать горшки с цветами с подоконников и ехали обратно домой.
Полной грудью они вдыхали деревенский воздух, запахи трав, воды и гниющих корней, доносившиеся из лесов, с рек и полей. И с обновленными силами, накопившимися за дни безделья, они набрасывались на брошенный без присмотра дом и на землю.
Много работы было в запустевшем имении. На полях валялись камни, стреляные гильзы, жестянки из-под консервов, тряпки, сломанные ружья и фляжки. Вырытые окопы были полны мусора и нечистот. Колючая проволока перерезала землю, валялась повсюду под ногами. Низкие навесы кирпичной фабрики, под которыми раньше сушили кирпич, были наполовину сожжены. Лишь высокая растрескавшаяся труба торчала, как прежде. На торфянике осталось маленькое солдатское кладбище, обнесенное проволокой и усеянное маленькими крестиками, сколоченными из кривых сосновых веток. Комнаты были полны грязи, бумаг, рваных бинтов; стекла выбиты; стены покрыты непристойными рисунками и бранными словами на всевозможных языках.
Маля и Даля в подоткнутых платьях возились с утра до позднего вечера: наводили чистоту. Ойзер с несколькими вернувшимися крестьянами работал в поле. Соседи, которые в суматохе прибрали к рукам кое-что из усадьбы: теленка, курицу или упряжь, – возвращали то, что взяли. Ошер-гончар тоже вернулся со своей женой и водворился в своем домике на краю усадьбы. Не было только Фройче, его сына, который когда-то помогал месить ногами глину для горшков. Он ушел с серыми русскими шинелями и не подавал о себе вестей. Крестьяне очистили землю, вскопали ее и засеяли. Ойзер достал из тайника немного серебра, которое осталось от отца: подсвечники, бокалы, вилки и ложки; свадебные подарки Ханы: жемчуг, булавки, брошки, колечки и серьги, – и вместе со своими золотыми часами, полученными на свадьбу, завернул все это в платок и повез в губернский город на продажу. На вырученные деньги он выторговал на ямпольской ярмарке лошадь, несколько коров, домашнюю птицу. Крестьяне оттерли заржавевшие лемехи и серпы керосином. Кринивицы стали выглядеть, как раньше.
Тихая, обособленная и заброшенная лежала снова кринивицкая земля, на которой сражались друг с другом и убивали друг друга солдаты во всевозможных мундирах. Лягушки в болотах, вороны над растрескавшейся трубой, совы на деревьях тянули свою вечную монотонную песню. Маля и Даля по вечерам выбирались на торфяник и со страхом и любопытством разглядывали маленькие кресты на кладбище, под которыми лежали мужчины со всего света.
Погибшие молодые мужчины печально обжили безлюдное захолустье. Всякий раз заново перечитывали сестры незнакомые имена погибших, которые кривыми, неряшливыми буквами были начертаны на крестах. Посреди смеха слезы вдруг начинали течь из больших девичьих глаз, слезы, проливаемые над участью молодых мужчин, погибших на заброшенной земле, и над своей погибающей жизнью.
Светляки, о которых Болек-пастух говорил, что это блуждающие души, светились в темноте. Гниль мерцала голубым фосфорическим огнем на черном бархате ночей.
С тех пор как польские солдаты в фуражках-гоменташах прогнали из округи последние чужеземные мундиры и, раскрасив все столбы красными и белыми полосами, увенчали их белыми орлами, Ойзер больше не двигался из деревни. Покой вновь вернулся на землю. Вооруженные мужчины скинули с себя оружие. Вместе со всеми соседскими юношами, которые возвратились домой в свои деревни, возвратился и единственный сын Ойзера, Эля. Обожженный солнцем, огрубевший, с руками, окрепшими за несколько месяцев войны от рытья окопов и от винтовки, в один прекрасный день он пришел в коротком, маловатом ему мундире и рваных желтых солдатских ботинках в Кринивицы.
Хана, Ойзер, Маля и Даля, дворовые собаки – все бросились к нему, целовали, ощупывали и не узнавали. Оторванный всего на несколько месяцев от учебы в городе, он показался им чужим и из-за того, что внезапно вырос, и из-за своего огрубевшего голоса, и из-за запахов кожи, пыли и дыма, которые исходили от него. Хана прижала его к своей груди, как ребенка.
– Элеши, Эля, золотце мое, деточка моя, – бормотала она, как мать над малым дитем, обращаясь к юноше в солдатской форме, – пусть мне будет за каждый твой ноготок.
Эля, отец, сестры – все смеялись над ее материнскими щебечущими словами, которые она шептала огрубевшему солдату.
После нескольких недель отдыха Эля сбросил с себя все солдатское и снова погрузился в учебники, от которых его оторвали на несколько месяцев, упаковав в мундир. Волосы отросли, ссадины на руках зажили, и он теперь целыми днями решал в тетради задачи по математике. Он был мамин сын, этот Эля. Он терпеть не мог деревню и не находил там себе места. Его тянуло в город, к школе и книгам. Хана испекла для него целую кучу печенья, надавала ему бутылки с вишневым соком, мед, сыр, сложила вареные яйца и яблоки в его дорожную сумку и снабдила его таким множеством провизии, что ему должно было хватить на несколько недель.
– Сокровище мое, гордость моя, утешение мое, – бормотала она, целуя его бессчетно в пухлые щеки, – ты один, деточка, воздаянье мое за все мои мучения.
Теперь Ойзер прочно обосновался в Кринивицах.
Он больше не надеялся на неожиданное счастье, на которое надеялся когда-то: ни на железную дорогу, ни на хорошее возмещение по реквизиционным квитанциям, которые ему надавали. Теперь он уже видел, что придется в поте лица своего добывать пропитание из неплодородной кринивицкой земли. Но он ощущал блага покоя после всех скитаний и мытарств. И он затыкал уши каждый раз, когда Хана пыталась снова заикнуться насчет Ямполья.
– Здесь я родился, здесь и умру, – твердо отвечал он.
Он готовился к трудной, но тихой жизни, вдалеке от людей и суеты, к жизни своих дедов и прадедов, на земле и в покое.
Но в тихих, опустевших Кринивицах не было больше покоя с тех пор, как местные крестьянские сыновья в своих остроугольных польских фуражках и желтых французских ботинках вернулись с полей сражений.
Они, в отличие от Эли, сына Ойзера, не сбросили с себя солдатскую форму, они носили ее не снимая. Точно так же они не расстались со своей солдатской бесшабашностью, праздностью, тягой к грабежу и насилию; их теперь удивляли их покорные, работящие родители.
Сперва они принялись за своего соседа Залмена-смолокура, который теперь держал лавочку в деревне Домбрувка, которая лежала на полпути из Кринивицев в Ямполье. Там, где торчит старый, покосившийся, украшенный бумажными цветами крест, на котором висит голый Иисус, на самом распутье дорог, у Залмена, кринивицкого смолокура, который когда-то, еще при реб Ури-Лейви, жил в усадьбе, стоял ветхий домик, без плетня и ограды, беззащитный перед всеми ветрами и опасностями. С обгоревшей в годы войны от шальных пуль в годы войны крышей, с просмоленными стропилами вокруг тонкой торчащей трубы, открытый бурям и дождям, этот еврейский домик стоял, украшенный маленькой вывеской, на которой был кое-как намалеван бочонок керосина.
В маленькой комнатке, где находились две кровати и шаткий столик со сломанными скамьями, а на полке лежали сыр, талес и тфилн, стояли субботние медные подсвечники и сидели сонные куры, хозяин домика держал бочку керосина, мешок соли, несколько кусков зеленого мыла, ящик гвоздей и слегка засиженную мухами коробку с табаком и папиросами. Залатанная дверь была сплошь исписана мелом – суммами, которые задолжали окрестные крестьяне, бравшие товары в кредит.
Вот на этого-то Залмена-смолокура, который постоянно носил расстегнутый, подбитый козьим мехом халат, пропахший керосином, селедкой, мылом и дегтем, и насели демобилизованные деревенские парни в солдатской форме. Они не только не платили за папиросы, которые брали у Залмена, но еще писали и рисовали мелом на стенах лавки непристойности, чертили на ней кресты. Некоторые из них бросали камни в окна лавки и разбивали их. Каждый раз Залмену приходилось снова ездить в Ямполье и привозить стекольщика с ящиком стекол, чтобы тот заново застеклил окна. И каждый раз снова демобилизованные парни разбивали их. Кроме этой они доставляли ему другие неприятности: ночью бросали камни в ставни, оставляли кучу нечистот на пороге перед дверью, мазали ручку двери смолой. Залмен-смолокур снимал засаленный картуз и беззлобно и тихо спрашивал у давно знакомых ему крестьянских парней, что они имеют против него.
– Ничего, еврейчик, – отвечали парни, – только ты не должен жить здесь в деревне, мы тебя не хотим.
– Куда же мне идти? – униженно спрашивал Залмен.
– В Палестину, – отвечали деревенские парни, которые во время войны узнали умные вещи о новых землях, – или в Ямполье, к другим евреям…
Залмен остался. Сколько бы неприятностей ему ни причиняли, он молчал. Он только снимал засаленный картуз перед демобилизованными парнями, как перед помещиками. Но когда однажды ночью парни открыли дверь его лавочки, вытащили затычку из бочки с керосином и залили керосином соль вместе с мылом, табаком и мукой, Залмен-смолокур сложил оставшиеся у него бедняцкие пожитки, нанял крестьянскую телегу и уехал в Ямполье, бросив свой домик на произвол судьбы.
Один из демобилизованных парней отремонтировал этот домик, замазал краской имя Залмена на вывеске и написал на ней: «Христианская лавка». После этого он привез из местечка мешок соли, бочонок керосину, колбасу и свиное сало. На стене он повесил святой образ, портреты нескольких генералов, бумажный красно-белый флажок и принялся торговать. Другие парни день и ночь торчали в новой лавке: пили, курили, играли на гармошке, танцевали с девками и вели разговоры о том, что они слышали от уличных ораторов в больших городах, через которые им случалось проходить.
После истории с лавкой демобилизованные парни стали частенько заявляться в кринивицкую усадьбу. Сперва они молча крутились вокруг, что-то высматривали, просили дать воды напиться и, не поблагодарив, уходили. Но чем дальше, тем вольготнее – как в своей хате – начали они чувствовать себя в еврейской усадьбе. Вскоре они потащили оттуда все, что плохо лежит: сперва – кирпич, который еще валялся кучами вокруг растрескавшейся трубы; потом – гонт, доски и что под руку подвернется. У Ойзера кровь застучала в ушах.
– Эй, положь на место, откуда взял! – приказывал он.
Парни только смеялись над ним. Они показывали кринивицкому помещику свиное ухо, скрученное из полы солдатской гимнастерки, и делали похабные жесты.
– М-э-э, – мекали они по-козлиному, намекая на еврейскую бороду.
Так как это сошло им с рук, они принялись за дела посерьезнее. Они потравили кринивицкие луга своей скотиной, картофельные поля – свиньями, а овес и даже в рожь – лошадьми. Маля и Даля боялись по вечерам выходить в луга, потому что деревенские парни кричали им вслед гадкие слова и гонялись за ними. Вдруг однажды вечером в окна полетели камни, как это случилось раньше с Залменом-смолокуром.
Хана – бледная, в лице ни кровинки – с места не сдвинулась, когда первый камень разбил окно в столовой. Ее остановившиеся глаза были похожи на осколки стекла, брызнувшего на пол.
– Ойзер, – пробормотала она, – давай переедем в местечко. Я боюсь.
Ойзер вскипел. Схватив палку в одну руку и фонарь в другую, он выскочил за дверь
– Башку проломлю, если поймаю кого-нибудь из вас! – закричал он.
Но он никого не поймал. Этот камень как будто из-под земли прилетел. Даже собаки ничего не учуяли.
Наутро Ойзер пошел к соседям жаловаться на обиду. Крестьяне выслушивали его, но самое большое, что они могли сделать, это покачать головами.
– Бога они не боятся, Ойзер, – ворчали крестьяне. – С тех пор как вернулись из казарм, родитель для них, что собака.
После окон парни принялись за стены Ойзерова дома. Не мелом, а смолой, чтобы нельзя было смыть, демобилизованные парни измазали дом Ойзера, его амбары и стойла. Они нарисовали на стенах стыдные рисунки, написали позорные слова про девушек, начертили кресты и налепили угрозы: дескать, убирались бы вы, евреи, чем быстрей, тем лучше, а не то усадьба сгорит дотла.
Хана ходила по дому перепуганная, руки у нее все время дрожали. Каждый раз, услышав ночью шорох, она будила мужа.
– Ойзер! – звала она, стуча зубами. – Я слышу шаги… Маля, Даля, вставайте…
Ойзер спускал собак с цепи, ставил одного из своих крестьян сторожить, но Хана не могла уснуть. Она постоянно будила его. Она плакала по ночам:
– Ойзер, мы жизнью заплатим за твое упрямство… Давай уедем из деревни…
Ойзер отворачивался к стене.
– Спи, женщина, и не причитай надо мной, – сердился он. – Пусть весь мир встанет на голову, я не уеду из Кринивицев. Здесь я родился, здесь я и умру.
Он съездил в Ямполье, написал жалобу в полицию и тайком купил себе револьвер, который стал держать под подушкой.
– Пусть они только придут, – грозился Ойзер, размахивая револьвером перед сном, – я бы этого хотел!
Они пришли.
Однажды ночью усадебные собаки начали лаять разом, как никогда громко. Хана вскочила и с перепугу стала будить мужа и дочерей. Из-за неистовости собачьего воя Ойзер понял, что на этот раз что-то случилось на самом деле. Вместе с лаем странное зарево прорывалось сквозь щели ставней, хотя до рассвета было еще далеко и петухи еще не кричали. Ойзер в одной рубахе вышел на крыльцо. Стоявший напротив амбар был в дыму. Языки пламени рвались к крыше, готовые перекинуться на солому. Разбуженные петухи вдруг начали кукарекать. В стойлах от страха замычала скотина.
Разбуженные крестьяне, Ойзер, Маля и Даля, черпая ведрами воду из колодца и одно за другим выливая ее на огонь, успели вовремя потушить пожар.
Но когда после пожара Хана села в своем свадебном жакете на пороге дома и поклялась своими умершими родителями, что она так и будет сидеть, пока Ойзер не уедет из Кринивицев, Ойзер утратил свое былое упрямство и только молча смотрел на дочерей. Они тоже молчали. Маля и Даля ни словом не возразили матери, только страх был в их больших удивленных глазах. Ойзер увидел, что даже в дочерях он больше не находит поддержки, и сдался.
Вместе с ямпольской полицией, которая приехала на крестьянской подводе в усадьбу, чтобы провести расследование и составить протокол, в усадьбу явились окрестные крестьяне, заинтересованные в покупке нескольких акров земли по дешевке. Маклеры-гои, которые вместе с профессией со временем переняли у маклеров-евреев все их ужимки, бесцельно бродили по усадьбе. Они копались носком сапога в земле, ковыряли ногтем стены построек и занижали стоимость еврейского имения.
– Прогнившее дерево, – ворчали они, – только за очень небольшие деньги удастся найти желающих.
Ойзер чувствовал, как кровь стучит у него в ушах, когда чужие люди, пусть временно, хозяйничали в его усадьбе.
– Мы договоримся, – отвечал он зло.
7
В большом четырехугольном варшавском дворе, где единственное больное, горбатое дерево стоит, сдавленное со всех сторон камнем и бетоном, и женщины развешивают белье на его кривых ветвях, уже давно живет кринивицкий помещик Ойзер Шафир.
Среди остальных запыленных окон двора сияют начисто вымытые окна Ойзеровой квартиры, заставленные цветочными горшками с деревянными подпорками, чтобы стебли держались ровно. Листья луковичных перевязаны красными ленточками, чтобы не слишком раздавались вширь.
Точно так же, как чистые окна и цветочные горшки, тихий и обособленный образ жизни отделяет приехавших из Кринивицев от обитателей большого густонаселенного двора. Двор постоянно шумит… Старьевщики, торговки, бродячие артисты и нищие кричат и зазывают с утра до вечера. В открытых окнах без занавесок, на глазах у всех, стучат швейные машинки, ссорятся супруги, поют девушки, плачут дети, орут граммофоны. Здесь все знакомы друг с другом, все знают, что у кого варится на обед, какие у кого горести и радости. Из всех квартир глядят люди на чистые окна, заставленные цветочными горшками, чтобы понять, кто эти чужаки, которые держатся так обособленно. Но понять ничего не могут. Ничего не видно сквозь чистые стекла, кроме цветов и растений, подпертых деревянными палочками и перехваченных красными ленточками. Точно так же дверь этой особенной квартиры отличается от всех соседских дверей – вымытая, начищенная и постоянно запертая изнутри. Хотя к дверному косяку прибита мезуза, нищие, приходящие за милостыней, избегают стучаться в эту дверь, как будто за ней живут неевреи.
Они стали отчаянными домоседами, эти люди из Кринивицев, с тех самых пор, как переехали в большой город.
Ойзер редко выходит на улицу. Несмотря на то что он уже давно живет в городе, он почти никого не знает, никуда не ходит. Даже в синагогу он не ходит молиться. Он, как раньше в деревне, молится у себя дома и в будни, и даже в субботу. Лишь поутру он идет гулять в Саксонский сад, чтобы увидеть немного травы в городе из камня и бетона. В полупомещичьей, полуеврейской шляпе, в потертой альпаковой капоте, достающей ему до колен, как пальто, с неизменно отглаженными манжетами и воротничком, которые кажутся еще белее на фоне его смуглого загорелого лица, с тростью, украшенной костяным набалдашником, проходит он по двору таким размеренным шагом, что жильцы не решаются остановить его и заговорить с ним. Дворник, который с тех пор, как он служит в еврейском доме, привык снимать шапку перед жильцами-евреями, завидев Ойзера, прикасается пальцами к козырьку своей засаленной фуражки, сам не зная, должен ли он снимать ее перед странным жильцом или нет…
Еще реже, чем отец, во дворе появляются Маля и Даля. Целый день они заняты наведением порядка в доме, уборкой, шитьем, вязанием и чтением книжек. Хотя в доме нет никого, кто мог бы нарушить чистоту, девушки все время что-то расставляют по местам и разглаживают.
– Уже достаточно чисто, – не выдерживает Хана.
Девушки не слушают ее, как никогда не слушали прежде, и продолжают выколачивать, подметать и протирать. Больше всего они заботятся о цветочных горшках на окнах. Они поливают землю, обрывают высохшие листья, заваривают махорку и опрыскивают ею растения, чтобы на них не завелись гусеницы. Это единственное, что напоминает им о деревне, о Кринивицах. Только под вечер наряжаются они в городские платья, надевают шляпки, берут зонтики и идут под ручку по красивым улицам, рассматривая в больших витринах новые платья, шляпы и дамское белье. Хотя они одеты не особенно нарядно, соседи высовываются из окон, чтобы взглянуть на двух приезжих девушек, что торопливо проходят по двору. На их лицах все еще лежит отпечаток деревенской свежести и здоровья. К тому же они высокие, очень стройные и шагают уверенной походкой – ничего общего с болезненными разодетыми городскими девушками – работницами и продавщицами, которые едва держатся на высоких тонких каблуках своих узких туфелек. Еще больше людей выглядывает из окон, когда они возвращаются, так же под ручку, как ушли.
Никогда они не возвращаются в сопровождении молодых людей, как большинство девушек из этого двора. И это выводит двор из терпения. Никто не может понять, что это за люди.
Единственный мужчина, который приходит в странную квартиру, это Эля. На его маленькой студенческой фуражке, которая сидит на макушке, вышит магендовид, окруженный золотыми листиками, которые ярко поблескивают всякий раз, когда он проходит по двору. Зато его дешевый желтоватый дождевик, который он носит и летом и зимой, совсем не в блестящем состоянии. Понятное дело, едва молодой человек в маленькой студенческой фуражке появился во дворе, женщины сразу его заметили. Они были уверены, что это жених, и хотели знать – которой из сестер. Однако дворник рассказал им, что это брат, и женское любопытство угасло. Но острый интерес к этим особенным людям все еще сохраняется.
Говорят о них разное. Одни считают, что это богачи, живущие на всем готовом, другие утверждают, что у чужаков есть богатые родственники в Америке, которые присылают им всякое добро, недаром, дескать, почтальон приносит им то и дело пачки писем. Третьи же и вовсе настаивают на том, что это люди подозрительные, безнадежные должники или поджигатели, которые прячутся от людских глаз.
Так же, как их соседи по двору, жильцы этой квартиры и сами не знают, что выйдет из их сидения здесь, в чужом городе, чем кончится эта их жизнь.
Денег, которые Ойзер получил за свои Кринивицы, становится все меньше и меньше в обитом кожей кованом сундуке, в котором старый реб Ури-Лейви когда-то держал ямпольские приданые и сбережения. Каждый день, когда приходится доставать деньги на расходы, Хана вздыхает так громко, что сердце разрывается на куски.
– Ойзер, чем это кончится? – спрашивает она мужа, который целыми днями лежит на канапе, погруженный в чтение газет.
Ойзер не отвечает. Ему нечего ответить. В первое время, когда Ойзер только что приехал в чужой город, он позволил Хане водить себя по разным лавкам, выставленным по дешевке на продажу. Но это всегда были продуктовые лавки, где перепачканные мукой хозяева в халатах озабоченно слонялись без дела, высматривая покупателя, или керосинные и мыльные лавки, в которых от запаха дух захватывало. Ойзер чуть не терял сознание от этих запахов. Ему вспоминался Залмен-смолокур, от которого всегда несло керосином, селедкой и мылом. Окаменев, стоял он и слушал горячие речи лавочников, убеждавших его, что это выгодная цена, что он покупает, так сказать, хлеб с ножом в придачу…
– Ну, что скажешь, Ойзер? – хотела знать Хана.
– Посмотрим, – отвечал Ойзер для того только, чтобы побыстрее избавиться от дурных запахов и горячих речей лавочников, – я зайду еще раз.
Но никогда больше не заходил.
Позднее он уже не хотел даже смотреть на эти дешевые лавки. Он только лежал целыми днями на канапе, впившись большими черными глазами в газеты и не пропуская ни строчки. На все Ханины разговоры о будущем он отмалчивался. Точно так же он отмалчивался на все вопросы своего единственного сына Эли.
Как и его мать, Эля тоже хотел знать, что с ним будет.
За много лет напряженной учебы в высшей школе, зубрежки, сидения над книгами и чертежами он изучил уже все области инженерного дела: электротехнику, машиностроение, даже архитектуру. Но его ничего не ждало в стране, где сотни таких же, как он, слонялись без дела или таскались из лавки в лавку, продавая электрические лампочки. Упрямый Эля с въедливым упорством очень аккуратно ходил на занятия в Политехнический институт. Терпя обиды от студентов-гоев, получая затрещины, иногда оказываясь вышвырнутым с занятий, он тем не менее не пропустил ни одной лекции, не потерял ни одного дня. С тем же упорством он, сидя дома, чертил, учился, зубрил наизусть. Но при этом он очень хорошо понимал, что и учеба, и унижения, и деньги, которые родители вкладывают в его учебу и книги, – всё напрасно. Это ничего не даст человеку по имени Эля Шафир, человеку Моисеева вероисповедания. И среди черчения линий на синьке на него вдруг накатывало такое отчаяние, что он в гневе отшвыривал циркули и карандаши и отрывал отца от его газет.








