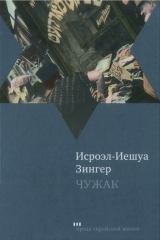
Текст книги "Чужак"
Автор книги: Исроэл-Иешуа Зингер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Я не позволю, чтобы моему ребенку отрубили голову во цвете лет, – заявляет она, как будто ее зять только и мечтает о том, как бы отрубить голову своей жене там, на ферме. – А если он подаст на развод, я плакать не буду. Найдутся и получше, чем этот Шолем Мельник. Она совсем еще не подгнившее яблочко.
Все дочери согласны с mother [161]161
Матерью ( англ.).
[Закрыть]. С аппетитом поедая материнский домашний пирог, какой не достать даже на самом Eastern parkway [162]162
Восточный бульвар ( англ.) – фешенебельный бульвар в Бруклине.
[Закрыть], где они живут, дочери кивают, соглашаясь с каждым словом, которое произносит мать, и от души жалеют свою младшую сестру, которая, бедняжка, так влипла.
– Poor baby [163]163
Бедное дитя ( англ.).
[Закрыть], – называют они Бетти, гладя ее и целуя.
Бетти черпает в своем мученичестве новые душевные силы и очень жалеет себя. Положив голову на большую, колышущуюся материнскую грудь, которая выкормила стольких детей, она хнычет, как в детстве.
– О, мама, почему Бетти так несчастна? – вопрошает она в третьем лице от жалости к самой себе. – Почему, мамочка?
Мистер Феферминц больше не может спокойно сидеть над своей «зачерствевшей» за неделю газетой и снова вставляет слово, хотя он было зарекся вмешиваться.
– Что она расселась и причитает над собой, как над покойницей? – кричит он жене и дочерям. – В чем же тут несчастье, если она будет жить с мужем в деревне?
Геня уставилась на него и ощеривается, как невинная кошечка, которую теснит злая собака.
– Это ж ты без ножа ребенка зарезал, – шипит она в гневе, – это ты привел гринхорна [164]164
От англ. «greenhorn» – новоприбывший эмигрант, неопытный, «зеленый».
[Закрыть]в дом. Ты, ты, ты…
Несмотря на то что она сама родилась не в Америке, а приехала из Польши, Геня держит себя, как настоящая американка, на правах матери дочерей, родившихся в Вильямсбурге, и в еще большей степени на правах тещи их мужей, американских джентльменов, все как один. И более сильного оскорбления, чем «гринхорн», для тех, кого она презирает, у нее нет. Именно так она называет своего неудачного зятя Шолема Мельника. И так же она называет своего собственного мужа, когда злится на него. Пусть он и отец ее дочерей-американок, и тесть их мужей, Геня все равно считает своего мужа «гринхорном»из-за его старомодных манер, из-за его нищенского ремесла, которое он никак не бросит, из-за того, что он по уши погружен в дела своей маленькой синагоги, из-за его одежды и внешности и даже из-за его старосветского имени – Ноех Феферминц. Она, эта Геня, уверена, что если ее дочери, без цента приданого, вышли за хороших людей, бизнеслайт, то в этом лишь ее заслуга. Это все потому, что она по-людски вела дом, хорошо воспитывала детей и старалась вытолкнуть их на ступеньку повыше, чем ее собственная. Точно так же она уверена: муж, которого все время тянет к прошлому, полностью виноват в том, что Бетти покатилась вниз и потеряла голову от «гринхорна»Шолема Мельника.
– Гринхорн гринхорнавидит издалека, – говорит Геня мужу, который стоит на стороне своего зятя против родной дочери, – если бы не ты, не было бы несчастья.
Все дочери, радуясь, что избежали Беттиной судьбы, кивают в ответ на слова своей mother.
– Мама права, – утверждают они, – разве он подходит Бетти, этот гринхорн?
Хотя после Беттиной свадьбы прошло уже семнадцать лет, семья никак не может простить себе, что Бетти вышла замуж за Шолема Мельника, гринхорнаи маляра. Больше всех этого не может простить себе Беттина мать, Геня.
Дело в том, что самой любимой дочерью Гени всегда была Бетти, ее бейби. Она считала Бетти самой красивой, самой удачной, самой везучей и поэтому возлагала на нее большие материнские надежды и ожидала от нее всяческих родительских радостей.
Смуглая, черноглазая, сочная, полная того притягательного очарования, какое бывает лишь у красавиц-брюнеток, Бетти с юных лет нравилась людям. Еще когда она ходила в паблик-скул [165]165
От англ. «public school» – начальная школа.
[Закрыть]и в свободное время каталась на роликах по многолюдным вильямсбургским улицам, взрослые в умилении щипали ее за щечку, а сверстницы так и льнули к ней. Стоило ей немного подрасти, и мальчики уже посылали ей любовные записочки, а стены дома, в котором жили Феферминцы, исписывали бесконечными сердечками и именами. Те, что посмелее, приглашали ее в дрог-сторАльберта на углу улицы на айс-крим соду [166]166
От англ. «ice-cream soda» – смесь содовой воды с сиропом и мороженым.
[Закрыть]или даже в соседнее муви [167]167
От англ. «movie» – кинотеатр.
[Закрыть], где пробовали взять ее за руку в темноте. К пятнадцати годам Бетти уже по-настоящему признавались в любви восемнадцатилетние студенты, которые даже предлагали ей сбежать с ними и пожениться. Когда ей исполнилось семнадцать и она окончила хай-скул, не кто иной, как сам Альберт-аптекарь, у которого она частенько сиживала на высоком табурете и потягивала содучерез соломинку, стал ухаживать за ней с серьезными намерениями.
Геня, которой дочь поверяла все свои девичьи тайны, сияла от удовольствия, когда Бетти вечером забиралась к ней в постель и пересказывала слова любви, которые произносил Альберт-аптекарь во время их встреч. Во-первых, этот Альберт считался на их улице важной шишкой. У него не только заказывали лекарства, но и спрашивали медицинских советов по поводу легких заболеваний, и Альберт всегда знал, как следует поступить. Во-вторых, к нему обращались с делами, которые не имели никакого отношения к его профессии. Его просили прочитать письмо, оценить, сколько марок нужно наклеить на запечатанный конверт, посоветовать, как вести себя с этой свиньей, лендлордом [168]168
От англ. «landlord» – домовладелец.
[Закрыть], который не дает житья, и в какой банк лучше положить пару долларов. Расторопный, со всюду заглядывающим, все видящими и все замечающими глазами за толстыми стеклами тяжелых очков, доброжелательный, терпеливый и улыбчивый молодой человек, Альберт был любимцем всей улицы. Матери дочерей не могли на него наглядеться и заранее завидовали той, кому он достанется в зятья. Кроме того, на улице знали, что хотя дрог-сторпринадлежит не ему, а его больному онклу [169]169
От англ. «uncle» – дядя.
[Закрыть], который больше не может работать, тем не менее Альберт полностью распоряжается этим хорошим бизнесоми со временем унаследует дело.
– Беселе, не позволяй ему заходить слишком далеко, потому что мужчины – свиньи, – учила Геня свою неопытную в отношениях между мужчинами и женщинами дочь, – но будь с ним подобрее, и, если Бог даст, ты еще станешь хозяйкой дрог-стор…
Именно там, в этой дрог-cmop,Геня хотела видеть свое удачное бейби. Геня с детства помнила аптеку в своем родном местечке. Евреям там приходилось снимать шапку, и нельзя было даже думать о том, чтобы поторговаться с барыней-аптекаршей, от которой веяло лекарствами, гордостью и высокомерием. И мысль о том, что ее дочь станет аптекаршей, скоро стала наполнять Геню гордостью. Вдруг, когда дело уже почти что выгорело, ее муж, этот переплетчик, принес в дом несчастье. Однажды вечером, вернувшись из своей маленькой синагоги после вечерней молитвы, он привел с собой высокого парня в перепачканном оверолсемаляра и показал ему лишнюю комнатку, которая пустовала и для которой искали съемщика, чтобы тот помогал платить за квартиру.
Геня даже не сочла нужным приглядеться к высокому юноше в оверолсе, который заплатил несколько замусоленных долларов за месяц вперед. А ее муж как раз наоборот расточал похвалы парню, который ежевечерне приходит в его синагогу говорить кадиш. Мистер Феферминц не мог на него, на этого Шолема Мельника, нахвалиться: что за честный парень, тихий, трудолюбивый и к тому же свой парень, не так давно с той стороны Атлантики.
Этого одного было достаточно для Гени, чтобы она стала смотреть на чужака с презрением, как на всех «зеленых». Она ни о чем не спрашивала его, когда он уходил рано утром на работу, и не заговаривала с ним, когда вечером он, измазанный краской, возвращался с работы. Также она не прислушивалась к рассказам мужа о парне, то есть к рассказам о Старом Свете и тому подобных «зеленых» делах – пустом вздоре, на который жаль тратить время и переводить допоздна электричество. Лучше она пораньше ляжет спать, чтобы еще посекретничать со своей бейбио ее отношениях с аптекарем Альбертом. Но как же велико было ее удивление, когда, вместо того чтобы в очередной раз поговорить об аптекаре Альберте, Бетти вдруг повела речь о мистере Мельнике, маляре.
– Знаешь, мама, у него удивительные зеленые глаза, у этого мистера Мельника, – шептала ей Бетти. – Зеленые глаза, обрамленные угольно-черными густыми бровями. Как тебе это нравится, мама?
Геня и слышать не хотела дочкину болтовню. Во-первых, она что-то не слышала, что зеленые глаза – это достоинство, особенно у мужчин. Во-вторых, ей совершенно не хотелось говорить о других мужчинах, кроме аптекаря Альберта.
– Глаза у него зеленые, должно быть, от краски, – отшутилась она, – да и вообще он весь «зеленый», не на что посмотреть, дочка.
Однако Бетти начала засматриваться на «зеленого» паренька, чем дальше, тем больше. Кроме того, она стала прибираться в его комнатке, повесила там занавески, украсила его кровать самым лучшим в доме покрывалом и даже положила на нее куклу, большую тряпичную куклу, которую одела в пестрые шелк и бархат, как цыганку. Каждый вечер, когда Бетти залезала в постель к матери, она перечисляла Гене новые достоинства, которые обнаружила в мистере Мельнике. Кроме его зеленых глаз она разглядела, что он строен, хорошо сложен, что морщинки на его лице выразительны, особенно те, что идут от носа ко рту, что голос у него мужественный и низкий и в нем слышен металл.
– Металл? – оторопело переспросила Геня, чувствуя своим материнским чутьем, что в дом пришла беда. – Лучше не говори всякие глупости, ты уже не ребенок, а юная леди. Постыдилась бы столько вертеться вокруг перемазанного юнца.
Однако Бетти не стыдилась и еще больше вертелась вокруг высокого молчаливого парня, заводила с ним разговоры, которые он был не мастер поддерживать и оттого, что был застенчив, и оттого, что плохо знал английский.
То ли дело было в зеленых глазах, которые загадочно смотрели из-под густых черных бровей, как будто видели что-то не видимое никому; то ли – в его уравновешенности, которая не поддавалась Беттиным чарам и кокетству, так легко покорявшим других молодых людей; то ли – в высокой, тогда еще не сутулой, костлявой, но сильной фигуре, проступавшей из-под забрызганного краской слишком широкого оверолса, – Бетти сама точно не знала, что особенно привлекало ее в нем, но она знала, что он лишил ее покоя с тех пор, как она впервые увидела его у них в квартире, лишил покоя, заставил почувствовать себя растерянной, такой, какой она никогда прежде себя не чувствовала. Стоя перед ним на цыпочках, как обычно стоят маленькие влюбленные девочки, когда смотрят снизу вверх на своих рослых возлюбленных, Бетти сквозь пятна краски и скипидара видела в нем принца. Когда он в пятницу вечером отмывал себя от краски и скипидара, гладко брил свое узкое лицо, опрыскивал себя одеколоном и одевался во все новое с головы до пят, она просто теряла голову и ни на шаг от него не отходила. Она перестала бегать по улице со своими знакомыми мальчиками и девочками, пить содув дрог-сторАльберта и даже ходить с матерью с визитами к своим замужним сестрам, лишь бы иметь возможность остаться наедине с чужим парнем, лишь бы часами просиживать с ним в его комнатушке. Чем более сдержанным был он, чем больше он смотрел на нее, как взрослый смотрит на ребенка, который вытворяет глупости, тем больше она воспламенялась.
– Знаешь, мама, – шептала Бетти, лежа в кровати, – он принц.
– Принц? – переспрашивала, не веря своим ушам, Геня.
Сначала ей был смешон этот вздор. Но вскоре Гене стало не до смеха. Крепче всего в голове у нее засело нелепое слово «принц», означавшее, что беда не за горами и что аптека, которая уже была у нее в руках, уплывает, как скользкая рыбка, если схватить ее в воде.
– Ноех, – бросалась она спешно будить мужа так, словно в доме начался пожар, – Ноех, я не хочу видеть этого гринхорна, которого ты привел ко мне в дом, скажи ему, чтоб съезжал. Немедленно! Немедленно!
Но тут Бетти принималась покрывать поцелуями руки и щеки своей матери.
– Мама, я его люблю, – горячо твердила она, – ты не понимаешь, мама, как я его люблю.
При всей своей любви к бейби, Геня не могла вынести ни ее неистовых поцелуев, ни ее горячечных речей. Слишком дикой казалась ей мысль о том, что Бетти, зеница ее ока, ее бейби, о которой мечтает сам Альберт-аптекарь, будет молить ее о Шолеме Мельнике, гринхорне, маляре, старом холостяке, который по крайней мере на десять лет старше Бетти. Это было больше, чем она могла вынести. Она выходила из себя, когда муж, не вылезая из своей постели, начинал высказываться в защиту того, кого он привел в дом.
– Чем он тебе не подходит, мисес Джейкоб Шифф? [170]170
Джейкоб Шифф (1847–1920) – крупнейший американский банкир, общественный деятель и благотворитель. Принимал активное участие в строительстве еврейских общинных институтов в США. Его имя стало нарицательным для обозначения богача среди американских евреев в начале XX века.
[Закрыть]– спрашивал мистер Феферминц. – Мистер Мельник славный парень, чтоб я так жил, да и к тому же он нам ровня…
Геня была готова в гневе выгнать из дома своего мужа вместе с «несчастьем». Но тут Бетти закатывала истерику и начинала колотить себя кулаками в девичью грудь.
– Мама, я не могу жить без него, – вздрагивала она, рыдая, – я брошусь под эл [171]171
От англ. «el», сокр. от «electric train» – трамвай.
[Закрыть]. Вот прямо сейчас возьму и брошусь.
Она показывала рукой в окно, в котором был виден проходивший трамвай.
Геня больше ничего не говорила, а только заламывала руки от горя, которое обрушилось на нее, как гром среди ясного неба.
В неполные восемнадцать лет Бетти стояла под хупой с Шолемом Мельником, которому она едва доставала до плеча, хоть и надела туфли на самом высоком каблуке. Свадьба была тихой, лишь в присутствии местного раввина из маленькой синагоги, в которую ходил мистер Феферминц. Геня не захотела позориться в большом свадебном зале, в котором она обычно выдавала замуж своих дочерей. Мистер Феферминц, напротив, был весел и даже слегка захмелел, приняв стаканчик, но Геня будто холодной водой его окатила.
– Чему ты радуешься, болван? – лезла она ему в печенки. – Дитя себя без ножа зарезало… Скоро она локти себе будет кусать от раскаянья. Попомни мои слова.
И Генины слова сбылись.
Даже раньше, чем ожидала мать, Бетти охватило раскаяние, глубокое раскаяние, которое, как правило, приходит вслед за чрезмерными ожиданиями. Началось с того, что она, не успев опомниться, забеременела. Как все у пылкой Бетти, ее беременность была бурной и стремительной. На первых месяцах она часто теряла сознание, страдала от сильных головных болей, чувствовала себя разбитой и подавленной. Когда пришло время, ее маленькое женское тело стало быстро округляться, у нее остро выпятился животик, так что все ее короткие платьица стали задираться спереди; на улице женщины и даже мужчины с удивлением смотрели ей вслед, потому что она выглядела моложе своих лет и казалась ребенком. Бетти стеснялась своего положения и чувствовала враждебность по отношению к своему мужу за то, что он, будучи старше ее на целых десять лет, не защитил ее, юную и неопытную, от раннего бремени и страданий. Шолем Мельник в простоте своей не понимал, почему его отвергают, и пытался ласкать волосатыми руками свою маленькую женушку. Но Бетти больше не хотелось его ласк. Теперь он был для нее не принцем, а просто мужем, мужем, который не уберег ее и пригнул под ярмо. К тому же запах его рук, пропитанных краской и скипидаром, бил ей в нос и приоткрытый ротик. Ее тошнило. Этот запах краски и скипидара, который нравился Бетти до свадьбы, теперь преследовал ее с утра до вечера. Ей казалось, что он исходит от одежды, от мебели, от еды и даже от новой двуспальной кровати.
– Нет, – бормотала она, выворачиваясь из крепких рук мужа каждый раз, когда он начинал ласкать ее в темноте, – отпусти меня, ты пахнешь скипидаром.
Еще большей обузой, чем муж, стал для Бетти ее ребенок, которого она в муках, первых в ее жизни, родила через девять месяцев после свадьбы.
Случилось это не из-за того, что ребенок вышел неудачным. Нет, ее мальчик появился на свет крупным, зеленоглазым, со смуглой кожей и даже с готовым пучком черных волос на темени – вылитый папа. Дело было в том, что Бетти не знала, как управиться со своим первенцем, не выносила детского плача и настойчивых криков по ночам, именно тогда, когда ей спалось особенно сладко.
– На, держи, – в гневе будила она крепко спящего мужа и бросала ему плачущего ребенка, – я не знаю, как его угомонить.
Шолем тихо и спокойно укачивал младенца до тех пор, пока тот не засыпал. Спокойствие Шолема, вместо того чтобы утихомирить Бетти, заставляло ее еще больше кипятиться. Она не могла простить ему того ярма, в которое он ее впряг, когда она сама еще была ребенком. Но настоящую ненависть к мужу она почувствовала тогда, когда, не успев еще как следует поставить на ноги первенца, к своему великому ужасу вдруг обнаружила, что снова беременна. Поначалу она зарывалась головой в подушки и ни за что не хотела вставать с кровати. Мать и сестры, приходившие к ней, только помогали разжечь ненависть к гринхорну, который ничему не научился в новом большом мире. Через несколько дней ожесточения и слез Бетти хорошенько вымыла припухшее лицо, завила черные локоны, надела свое самое короткое платьице, едва прикрывавшее колени, и оставила ребенка в полном распоряжении мужа.
– Бетти, ты куда? – спросил Шолем у принарядившейся жены.
– О, выпить айс-крим содув дрог-сторАльберта, – равнодушно ответила Бетти, не как мать первого ребенка, которая через несколько месяцев должна родить второго, а как школьница, отправляющаяся полакомиться и пофлиртовать.
Знакомые девушки и юноши, которые, смеясь, шумя и перебрасываясь шутками, сидели на высоких стульях и потягивали содучерез соломинки, радостно встретили Бетти и усадили ее в середину. Сам Альберт-аптекарь перешел от лекарств к стойке с содовой и приготовил для Бетти свою лучшую смесь. Бетти смеялась, шутила, веселилась и флиртовала направо и налево, как в старое доброе время, и даже еще азартней. После года супружеского и материнского ярма девичья свобода показалась ей необыкновенно сладкой и полновесной. Бетти начала часто ходить в мувинапротив дрог-сторАльберта, слоняться с девушками и юношами, смеяться, проказничать и наслаждаться жизнью. Она хотела взять от жизни побольше, пока есть время, пока на ее маленькой, ловко сложенной фигурке незаметны признаки несчастья, таящегося в ее теле. Ребенка она оставляла соседке, жившей через дорогу, пожилой женщине, которая была рада обновить ощущение материнства на склоне лет, но чаще всего – своему мужу. Не только по субботам и в праздники оставляла ему Бетти ребенка в коляске, но и по вечерам, когда он приходил с работы, и в те дни, когда у него не было работы. Шолем с удовольствием катил ребенка в коляске до берега Ист-Ривер, где любил сидеть и смотреть на корабли и баржи, плывущие по реке. Смуглое личико младенца румянилось от солнца и вдыхаемого влажного воздуха. Шолем не мог нарадоваться, глядя на ребенка, который буквально рос у него на глазах, и чувствовал отцовскую гордость, когда проходившие мимо женщины восхищались его бейбии причмокивали губами. С удовольствием принимал он женские похвалы своим заботам, похвалы, которые женщины постарше охотно расточают преданным отцам и мужьям, в которых они видят жизненно важную опору всему своему полу.
Он мог так часами сидеть на берегу реки, глядя, как солнце играет на воде, следя за проплывающей деревяшкой, плеснувшей рыбой, полетом чайки, ростками травы, которые пробиваются сквозь камни мостовой. После тесных вильямсбургских улиц, после покраски темных кирпичных стен простор, солнце, река и ветер особенно ласкали его зоркие зеленые глаза под густыми угольно-черными ресницами. И хотя громадные красные склады на берегу и грохот дрожащих мостов ничем не напоминали его родное местечко Грабице, откуда он недавно приехал, ему всегда казалось, что он вернулся на родину, по которой не переставал тосковать.
Так же, как в его родном местечке, на берегу реки молча и неподвижно стояли рыбаки, часами сутулясь над своими удочками. Небо тут было таким же привычным и уютным, с разбросанными по нему голубовато-белыми облачками. Такие же птички, танцуя и попискивая, прыгали вокруг. Белье, которое жена рыбака развесила на корабле для просушки, напоминало домашние рубахи и фуфайки, которые его мать обычно развешивала утром в пятницу на плетне, чтобы они высохли к субботе.
Когда Бетти родила ему второго ребенка, девочку, Шолем просто разделил коляску на две части и возил обоих детей на прогулку, как только у него появлялась несколько свободных часов.
После второго ребенка Бетти успокоилась. Она увидела, что вернуться к девичьей жизни невозможно, что она должна платить за свою глупость, от которой ее так предостерегала мать, и поэтому больше не бросалась, рыдая, на постель, как раньше, и не пыталась выцарапать мужу глаза. Она просто предохранялась надлежащим образом, чтобы не загубить окончательно молодость, залетев в третий раз. Кроме того, она старалась по-людски вести хозяйство на те замусоленные доллары, которые муж отдавал ей каждую неделю – все до единого. Как прежде во флирт, так теперь она с головой окунулась в домашние шмотки и цацки. Ей не надоедало покупать всевозможные шкафчики, столики, лампы с цветастыми абажурами, стеклянные вазочки, фарфоровые статуэтки, шелковые подушечки и набивать всем этим свою маленькую квартирку в Вильямсбурге. Также она постоянно шила для своих детей всякие рубашечки, фуфаечки и чепчики, особенно для девочки, которая удалась в маму и больше напоминала куклу, чем живого ребенка. Но особой гармонии между мужем и женой уже не было. Хотя именно Бетти в юности бегала за Шолемом, а не он за ней, она чувствовала себя обиженной, как будто муж обещал ей королевство, а потом обманул.
Каждый раз, проходя мимо дрог-сторАльберта и видя, как его молодая жена (Альберт надавно женился) сидит за кассовым аппаратом и с веселым звоном бросает в него деньги, Бетти снова чувствовала несправедливость, жестокую несправедливость, приключившуюся с ней. То же самое она чувствовала, когда ходила в гости к своим старшим сестрам, которые жили в больших красивых квартирах, имели полные шкафы платьев и туфель и даже машины.
Шолем не хотел сопровождать ее к сестрам и старался уйти из дома, когда его свояченицы и свояки отдавали визиты. Свояченицы слишком уж громко восхищались Беттиными дешевыми приобретениями, сделанными на распродажах, так взрослые потешаются над ничего не стоящей игрушкой, которой хвастается ребенок. Свояки еще более открыто выражали свое презрение к его квартире и к нему самому, Шолему Мельнику. Сбросив пиджаки и наполнив квартиру сигарным дымом, они не переставая говорили о своем бизнесе, о своем успехе, о том, как они «делают деньги», о своих машинах, которые они покупали или продавали. Им никогда не надоедало говорить о машинах, бензине, быстрой езде и столкновениях. Шолему Мельнику не о чем было говорить: разве что о стенах, которые он красил. И даже если бы ему было о чем поговорить, он бы все равно не смог, потому что не ладил с английским языком, на котором все вокруг говорили так бегло и гладко. В нескольких произнесенных с ошибками еврейских словах, которые семья вставляла в разговор ради него, «зеленого», чувствовались насмешка и презрение. С огромным облегчением, как мальчик, выбегающий из комнаты, в которой он чувствует себя неловко, Шолем при первой же возможности вырывался из дома, брал коляску с детьми и уходил на берег реки, в свое убежище. Так же он поступал, когда Бетти была не в духе и начинала есть его поедом, грызть, жилы из него тянуть: почему он не такой, как все нормальные мужья? В нормальных семьях мужья со временем начинают преуспевать, даже «зеленые» постепенно становятся из поденных рабочих хозяевами своего дела или членами юнион [172]172
От англ. «labor union» – профсоюз.
[Закрыть]и чего-то добиваются. А он, ее муж, всю жизнь держится за ведро и кисть, едва наскребает несколько долларов, работая на других. А сколько раз у него вообще не было работы! В нормальных семьях мужья обеспечивают хорошую жизнь своим женам, покупают им меха, украшения и дорогие платья, отправляют их в летние и зимние санатории и даже покупают им машины, а она, Бетти, ничего не может себе позволить: ходит без платьев, голая и босая. Шолем Мельник старался поскорее сбежать из дома не столько из-за того, что не мог выносить женины попреки, сколько из-за того, что боялся выйти из себя и натворить бед. Больше всего его бесили Беттины заявления насчет того, что она ходит голая и босая, в то время как несколько шкафов в доме ломилось от ее платьев, пальто, обуви и шляпок. Шолем знал, что все эти платья и туфли добыты множеством его тяжелых сверхурочных и ночных работ.
Единственный из всей семьи, с кем Шолем Мельник мог переброситься словом, был его тесть, переплетчик, который иногда заглядывал к ним по субботам. Читая газету, оставшуюся еще с прошлой недели, мистер Феферминц бросал ее посередине и принимался обсуждать со своим зятем его домашние дела. Каждый раз разговор доходил до семейных отношений, от которых мистер Феферминц сам страдал всю жизнь и не без оснований предполагал, что у зятя дела обстоят не лучше.
– Знаешь что, – быстро говорил он, счищая ногтями клей с пальцев, – такие уж они, эти бабы… Моя такая же, однако мы с ней жизнь прожили… Лучше им не отвечать…
Шолем Мельник так себя и вел: жить – жил, отвечать – не отвечал. Жизнь эта была довольно пресной – ни то ни се, не то чтобы мир, не то чтобы ссора, и так тянулись день за днем, год за годом. Немного счастья, необходимого всякому человеку, Шолем находил в детях, которые росли как на дрожжах. Бетти находила свое счастье в мувинапротив их дома, в которое она ходила при первой возможности. Как в юности, у нее были свои любимцы среди старс [173]173
От англ. «stars» – кинозвезды.
[Закрыть]. Как в юности, она сопереживала героям и героиням на экране. Глядя на красоту, богатство и вечный праздник, царившие в кинокартинах, она забывала свою серую обыденную жизнь. Тем временем, живя то в большем, то в меньшем согласии, оба они, муж и жена, свыклись со своей жизнью, которая стала для них чем-то естественным. Все было естественно: разрывы и воссоединения, размолвки и примирения, и даже то, что они спали в двуспальной кровати, потому что спальня была слишком мала для двух отдельных кроватей, и даже супружеские отношения по ночам, когда они не были в ссоре.
Целых шестнадцать лет продолжалась эта жизнь и так бы, конечно, и тянулась до конца, если бы кровь Шолема Мельника не начала вдруг бунтовать против свинцового яда, который она впитывала в себя годами. Доктора велели больному отложить ведро и кисть, если он не хочет умереть молодым.
После шестнадцати лет однообразного быта, вечной мерзлоты недовольства, разбитых надежд что-то теперь внутри Бетти и Шолема пробудилось, расцвели новые надежды, новые желания.
Бетти, которая всегда презирала работу мужа и тянулась к бизнесу, причем к веселому бизнесу, тут же стала думать о том, чтобы открыть ланчонетили на худой конец – стейшонори [174]174
От англ. «stationary» – лавочка.
[Закрыть]с сигарами, канцелярскими принадлежностями и напитками. Тяга к оживленному бизнесусо множеством пестрых товаров, множеством электрических лампочек, множеством веселых покупателей и блестящим кассовым аппаратом, который весело звенит, глотая деньги, всегда была крепка у Бетти, еще с юных лет, когда она засиживалась с ватагой сверстников в дрог-сторАльберта. Правда, теперь такие вещи стали для нее недостижимы, потому что по своей непростительной глупости она сама проиграла свою жизнь и удачу. Другая сидела на ее месте за кассой в заведении Альберта. Но о бизнесепоменьше Бетти все еще не переставала мечтать. И теперь, когда муж наконец должен был снять с себя свой перемазанный оверолс, она увидела, что мечта ее может сбыться. С огромной энергией, даже не спросив мужа, она сама принялась повсюду искать пустующие заведения, читать деловые объявления в газетах и даже беседовать с местными брокерамио том, как приобрести хороший бизнесза небольшие деньги. Ловкий маклер водил Бетти из улицы в улицу, заранее уверив ее в том, что такая красивая женщина, как она, словно нарочно создана для такого бизнесаи что вся окрестная молодежь будет слетаться в ее ланчонет, как мухи – на варенье. Бетти крохотным карандашиком записывала крохотными буковками в своей крохотной записной книжечке адреса заведений, которые ей сватали.
С той же энергией она стала наносить визиты своим замужним обеспеченным сестрам и внушать им и их мужьям, что они должны помочь ей деньгами, которые она с лихвой вернет, как только наладит бизнеси получит первую прибыль.
– Сейчас есть возможность, мои дорогие, – горячо говорила она своим зятьям, пуская в ход все свое женское очарование, какое только было в ее глазках, зубках и локонах.
Зятья мялись, рассказывали, как слоу [175]175
От англ. «slow» – медленно.
[Закрыть]иногда идут дела в бизнесе,но соглашались поддержать свояченицу.
Бетти так воодушевлялась, что целовала зятьев своими густо накрашенными губками к тайной досаде старших сестер. Еще горячее она покрывала поцелуями свою четырнадцатилетнюю Люси, которая была похожа на Бетти как две капли воды. Бетти очень рассчитывала на маленькую Люси, потому что, несмотря на свой юный возраст, она была такой же подвижной, смешливой и обходительной с мужчинами, как ее мать, а это так важно для привлечения в ланчонетмолодых людей. Бетти не ждала многого от своего угрюмого мужа и от повзрослевшего сына, который был так же молчалив и замкнут, как его папаша, но рассчитывала на дочь, которая всегда держала ее сторону. Бетти даже обдумала, как разделить обязанности. Муж и сын будут заняты простой работой, во время которой им не придется сталкиваться с покупателями; она и Люси будут заниматься людьми, обслуживать посетителей и получать деньги. Когда дело наладится, можно будет нанять работников, и она, Бетти, будет просто сидеть за кассой. В своих надеждах Бетти сразу заносилась очень высоко.
Но и Шолем Мельник был не меньше увлечен своими планами новой жизни, с которой он вдруг столкнулся лицом к лицу.
Располагая теперь свободными днями, долгими, свободными днями, с которыми он не знал, что ему делать, Шолем уходил из дома не только на берег реки, как все эти годы, но и значительно дальше – куда глаза глядят. Не вынося города, к которому он не мог привыкнуть даже после стольких лет, прожитых в нем, испытывая отвращение к каменным зданиям, к элам, проходившим по их улице, к толчее, давке, сутолоке, уличному движению, спешке, но больше всего – к стенам, серым стенам, которые он долгие годы красил, отравляя этим свою кровь, он выбирался на пустоши, на берег океана, в парки, в Бэттери [176]176
Парк на южной оконечности Манхеттена, у океана.
[Закрыть], туда, где идут, сопровождаемые чайками, корабли. Вдали возвышалась гигантская железная дама с факелом в поднятой руке. Гудели пароходы, сообщая о том, в какие дальние страны они идут. На берегу суетились голуби, ворковали, слетались к ногам Шолема, даже садились ему на плечи. Свежий ветерок, мягкие удары волн о берег, воркование голубей, крики чаек убаюкивали его, погружали в сон. Шолем растягивался на траве, чего не делал уже много лет, с тех пор как покинул свое местечко, и засыпал в сладостной истоме. Едва его глаза слипались, он сразу оказывался у себя в Грабице. Он видел их домик, который хоть и крыт гонтом, как большинство еврейских домов в местечке, но стоит на отшибе, ближе к деревне, чем к местечку. Полдома, где держат коров, и вовсе крыты соломой, как все крестьянские хаты. За домом растут высокие мальвы. По шестам вьется фасоль, завитая, как раввинские пейсы. Ровные грядки картофеля, капусты, моркови, лука, петрушки и других овощей тянутся одна за другой. Головки мака клонятся на тонких стеблях. Над грядками стоят его сестры в подоткнутых платьицах, пропалывая сорняки и вскапывая землю. На каждом столбе их плетня сохнут развешанные матерью глиняные горшки или выстиранные рубахи. Он, Шолем, колет дрова. Вечером он выходит навстречу отцу. Отец гонит домой корову, которую купил в деревне у крестьянина. Отец отдает Шолему веревку, привязанную к рогам коровы. У двери дома уже сидит на низенькой скамеечке мать и доит коров. В вечерней тишине струйки молока мягко и мирно звенят в подойнике. Летом он нанимается сторожить поповский сад. Как только начинают краснеть первые вишни, Шолем перебирается в сад и живет там в шалаше. Вечером он обходит сад с палкой в руке, стережет его и громко свистит, чтобы отбить у воров желание перелезать через плетень. Сердце начинает ныть у Шолема Мельника, когда он пробуждается от этих снов и понимает, что должен вернуться в Вильямсбург.








