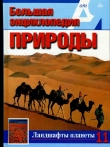Текст книги "Я вернусь через тысячу лет. "
Автор книги: Исай Давыдов
Жанры:
Космическая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
9. Где искать жизнь в Галактике?
– Трудно мне судить, насколько глубоки твои астрономические знания, – так начал Нур-Нур пятую коэму. – Не вижу смысла говорить об астрономии вообще. Это необъятно! Рискну лишь дать несколько практических советов, которые могут сберечь немало времени будущим исследователям космоса с твоей планеты. Когда-нибудь выйдете же вы в космос! Это неизбежно! А у нашей космонавтики уже есть небольшой опыт…
Надеюсь, ты понимаешь, что время – это самая крупная материальная ценность, выданная человеку, да и всему человечеству, вперёд, авансам. Растратить его зря, на пустяки и глупости, на поиски того, что найти в принципе невозможно – значит, зря растратить жизнь. Сэкономить его хоть где-то, хоть на чём-то – значит, продлить жизнь. А она у каждого одна. И у всего человечества тоже лишь один срок.
Практических целей для выхода в космос я вижу три. Первая – защититься от возможного инопланетного нападения. Защита может быть удивительна проста. Вот тебе картинка лишь одного варианта из многих – выстрелы облаками металлических иголок. Это парализует почти любое космическое оружие.
Нур-Нур представил себе такую защиту, и я увидел её. Впечатление было сильное. Иголки рассеивали любые лучи, отражая их частично и на сам агрессивный корабль. Иголки меняли траектории боевых ракет. Одна из них вернулась к пославшему её кораблю и разорвала ему бок.
– Вторая задача, – продолжал Нур-Нур, – найти родственные цивилизации и обменяться с ними информацией и опытом. Это сбережёт время. Третья задача – найти планету или планеты, пригодные для жизни, для переселения в будущем, когда твоя звезда Капи – или как ты её назовёшь! – отживёт свой век и станет реальной угрозой для твоей цивилизации.
Первую космическую задачу быстро решат военные на первом же этапе выхода в космос. Знание дальнего космоса для этого не понадобится. Разве что использование звёзд в качестве ориентиров…
Вторая и третья задачи решаются вместе – дальним поиском. На основе научных данных. Их добывают различные обсерватории в горах и пустынях, на орбитальных спутниках и соседних планетах. Некоторые из них я видел своими глазами и воспроизвожу по памяти. Некоторые – по чужим съёмкам. Смотри и сравнивай!
Я смотрел и сравнивал. Сам я видел всего три земные обсерватории – Уральскую над Чусовой, чилийскую на Огненной Земле и Зеленчукскую на Северном Кавказе. Обсерватории родины Нур-Нура были крупнее, разнообразнее и эффектнее того, что видел я на Земле.
Но ведь и на Земле самых знаменитых обсерваторий я не видал! Так что судьёй тут быть не мне…
– В космическом поиске, – продолжал Нур-Нур, – экономить время – значит не искать там, где ничего нужного не найдёшь. То есть, необходим метод исключения. Как предшественник любого успешного поиска.
Возможно, ты уже знаешь, что такое двойные звёзды. Их невероятно много – почти половина всех звёзд нашей громадной звёздной системы. Они очень красивы, разнообразны и динамичны. Перед твоими глазами – несколько образцов… Двойные звёзды дают самые неожиданные эффекты при изучении в различных диапазонах спектра – видимых и невидимых. По двойным звёздам можно определять космические расстояния и изучать законы звёздообразования. Но всё это можно делать, не выходя за пределы зоны тяготения своей планеты. Для этого достаточно наземных и орбитальных обсерваторий. Бойся безумцев, которые скажут, что к двойным звёздам надо посылать корабли! Свяжи руки этим безумцам! Ведь никакая жизнь возле таких звёзд невозможна. Даже если и возникнут случайно рядом с ними планеты, они будут разорваны быстро меняющимся тяготением двух светил. Жизнь на этих планетах возникнуть просто не успеет. Атмосфере там не бывать. И поселиться там способен лишь сумасшедший.
Теперь ещё немного о шаровых скоплениях, в которых наши учёные и фантасты когда-то предлагали искать древние цивилизации.
Большинство шаровых скоплений расположено не в плоскости нашей звёздной системы, а в её шаровой составляющей…
Тут мыслеприёмник мой выдал лаконичный термин земной астрономии: гало. Именно так обозначает она эту шаровую составляющую, в которую, собственно, и вписан спиральный диск нашей Галактики.
– По сути, – продолжал Нур-Нур, – и сама наша звёздная система возникла прежде всего как шар, начинённый шаровыми скоплениями. И лишь потом этот шар прорезала сначала газовая, а затем и звёздная плоскость, закрутившаяся спиралью. Она пронзила шар посередине и вышла далеко за его пределы.
Будто в планетарии моего родного уральского города представилась мне на чёрном фоне мерцающая общая схема нашей Галактики с её диском и проникающей сквозь него шаровой системой шаровых скоплений, которые словно очертили первоначальные контуры Галактики.
Нур-Нур помолчал минутку, пока я любовался картинкой, и заговорил вновь:
– Понятно, что часть шаровых скоплений оказалась в звёздной плоскости. Хотя генетически к ней и не принадлежит. Просто пронизывает её. Шаровые скопления старше, плоскость – моложе. Да и вообще, нынешние несколько сотен шаровых скоплений – жалкие остатки того, что было когда-то, на первом этапе жизни нашей звёздной системы.
По высоте подъёма над звёздной плоскостью можно определить относительный возраст и звёздных скоплений и отдельных звёзд. Чем дальше от плоскости – тем старше, тем меньше там различных элементов. И, значит, меньше шансов найти в очень старых скоплениях и возле очень старых звёзд первого поколения какие-то условия для жизни. Значит, и поиск в районе таких объектов – пустая трата времени.
Именно в шаровой составляющей («В гало!» – уточнил мыслеприёмник) больше всего невидимых и ни в каких лучах не ощутимых мёртвых звёзд и ненасытных пожирателей вещества. («Чёрных дыр!» – вставил мыслеприёмник). Это ещё один довод против того, чтобы искать тут жизнь или подходящие для неё условия. Достаточно астрономически определить подлинную массу звёздных скоплений и сопоставить с их видимой массой. Чем больше обнаружится невидимой массы, тем меньше шансов на жизнь. Невидимая масса нашего звёздного мира всегда мертва и обещает смерть всему живому, что к ней приблизится. Неумолимость этого космического закона мы поняли давно. Исключений он не знает.
То же самое и в центрах шаровых скоплений. Даже самых молодых, второго поколения, которые обнаруживают наличие тяжёлых элементов. Нет в этих центрах никаких цивилизаций и никакой жизни! Там можно найти либо ненасытный пожиратель вещества, разрушающий звёзды на дальних подступах, либо нейтронную звезду, убивающую всё вокруг жёстким излучением.
Да и звёзд там слишком много, они близки друг к другу и сталкиваются чаще, чем в иных местах. При этом уничтожаются планеты, если они где и возникли. И не допускается зарождения даже микроскопической жизни. Нечего там искать, незачем туда летать! Вполне достаточно наблюдений этих объектов со своей планеты.
Лишь на самых дальних окраинах самых молодых шаровых скоплений есть небольшие шансы найти что-то биологически интересное. Но уж никак не цивилизации! А за неведомыми микробами стоит ли далеко летать? Что, кроме новых болезней, могут обещать они?
Другое дело – скопления рассеянные. Они настолько молоды и разнообразны, настолько насыщены тяжёлыми элементами, что подходящие условия для жизни можно найти во многих. Особенно в тех, что расположены в зоне совместного вращения звёзд и межзвёздного газа.
– Смотри, – предупредил Нур-Нур, – сейчас ты видишь диск нашей звёздной системы не сбоку, как обычно, а сверху. Или снизу. В космосе эти понятия равнозначны… Обрати внимание, как вращается диск. Центральная часть – быстро, стремительно, средняя часть – медленнее, окраины – ещё медленнее. За ними тянутся рукава.
Почти по самой окраине диска межзвёздный газ вращается с такой же скоростью, как и сами звёзды. Только здесь! Поэтому и не образуется здесь сплошная ударная волна, порождающая новые звёзды в большом количестве. А именно ударные волны и можно назвать спусковым крючком звёздообразования. Они дают толчок – и дальше работает гравитация. Она сгущает постепенно гигантские облака молекулярного водорода в звёздные коконы – будущие звёзды. Чем меньше ударных волн, тем меньше новых звёзд. Увы, новые, самые молодые звёзды своим сверхжёстким излучением и убивают жизнь на больших расстояниях вокруг себя. Как раз из таких звёзд – горячих голубых гигантов и сверхгигантов – состоят почти сплошь дальние «рукава» нашей звёздной системы. Своим излучением они быстро убили бы вокруг всё живое, если бы оно там было. Но его там нет и быть не может. Изучать «рукава» лучше издали. Появляться там опасно. После этого долго не проживёшь…
– Узкую зону спокойного совместного вращения звёзд и межзвёздного газа, – уточнил Нур-Нур, – мы называем «поясом жизни». И мы в нём живём, и ты! И немало рассеянных звёздных скоплений плывёт по этому поясу, как по спокойной реке. Вне этой зоны, вне этой спокойной звёздной реки, очень мало шансов найти разумную жизнь. По крайней мере, мы вне этой зоны ничего и не ищем. И скопление «Феномен», о котором я уже говорил, находится почти в этой зоне. Чуть-чуть приподнято над нею. Что и говорит о его возрасте: моложе всех шаровых и старше всех рассеянных.
В этой зоне совместного вращения примерно семьдесят миллионов спокойных жёлтых звёзд – таких, как твоя Капи и наша Зера. Почти половина из них имеет подходящие по размеру планеты – такие же, как твоя, где гравитация не раздавит человека. Вполне достаточно для поисков! Ни одна цивилизация за всю свою историю не сможет столько обследовать. Да и зачем ходить далеко, если всё нужное можно найти близко?
– Конечно, – Нур-Нур вздохнул, – и твоя цивилизация и моя крутятся на крохотном участке этого необозримого «пояса жизни». Дальние его зоны находятся позади бушующего центра нашей громадной звёздной системы – никогда нам не посетить его, и даже в телескопы не увидеть. Яркий центр, где звёзды сталкиваются, дробятся, уничтожаются и рождаются, всё заслоняет и забивает. Но отрадно сознавать, что эти дальние зоны жизни всё-таки существуют, что там наверняка найдутся такие же люди, как мы с тобой, что во Вселенной мы не одиноки. Хоть и не можем обменяться с теми людьми ни мыслями, ни сигналами. Но люди там есть! В это я верю. И тебе советую…
– К сожалению, – продолжал Нур-Нур, – никто не может предсказать, что ждёт «пояс жизни» через четыре с лишним миллиарда лет, когда к нашей звёздной системе приблизится другая, в несколько раз большая. Вот эта красавица, погляди!
…В моём мозгу возникла знакомая с детства лихо закрученная в наклонном положении спираль туманности Андромеды. Знал я, что Нур-Нур может воспроизвести всего лишь фотографию, и то по памяти, но казалось, будто крохотные звёзды её подмигивают холодно и предупреждающе, словно живые. Будто и не фотография это, а прямое наблюдение в сильный телескоп.
– Начнётся взаимопроникновение звёздных систем. – Нур-Нур опять грустно вздохнул. – А по сути, пожирание меньшей системы. То есть нашей. Почти все звёздные системы разбегаются. Но эти две, на нашу беду, сближаются. И наша система растворится в своей громадной соседке. Всё перемешается! Река «пояса жизни» разобьётся для начала на мелкие «озёра». Сольются ли они когда-нибудь в новую реку? Какой она станет? Где пройдёт? У чьих богов искать на это ответ?.. Но пока мы живы, и дом наш пока цел…
Общая картина Галактики вновь возникла в моём мозгу так ясно, так отчётливо, будто видел я её воочию в уральском планетарии. Громадный и вроде бы туманный диск из ста миллиардов звёзд. Ажурные купола мерцающего гало и над диском и под ним. Ослепительно яркий шар галактического центра – балдж, как говорят астрономы, а где-то в сердце его – невидимая ненасытная чудовищная «чёрная дыра», дробящая звёзды и лихо закручивающая весь галактический мир.
Две яркие точки быстро замигали недалеко друг от друга почти на самой окраине «пояса жизни».
– Это мигают наши звезды, – пояснил Нур-Нур. – Твоя Капи и моя Зера. В масштабах всей системы они близкие соседки. И ни от твоей звезды, ни от моей не видно, что там, за сияющим центром… Пока мы знаем много картин того, КАК организованы звёзды, но не знаем, ПОЧЕМУ они организованы так, а не иначе. Можно списать всё на богов – им, конечно, виднее… Но чем старше цивилизация, тем меньше списывает на богов. Ищет ответы сама! Мой совет прост: объяснение всех звёздных особенностей ищи в возрасте звёзд и звёздных скоплений. Почти всё в их жизни – функции возраста. Звёзды и скопления живут как люди и племена: рождаются, растут, стареют, распадаются и умирают. Наша жизнь очень коротка. Мы видим звёзды в разных состояниях, и эти состояния кажутся нам вечными, потому что длятся миллионы и миллиарды лет. Но мнение об их вечности – ошибочно. Мы видим лишь разные фазы типичного развития: сгущающийся комок в облаке молекулярного водорода, тёмный непроглядный «кокон» звёздной личинки, ослепительный, убивающий вокруг всё живое голубой шар новорождённой звезды, равномерное подмигивание юной, «легкомысленной» переменной, долгое благотворное спокойствие зрелого жёлтого светила, угасающий жар красного гиганта и жуткий его взрыв напоследок. Он разбрасывает тяжёлые элементы в пространство и обеспечивает рождение новых звёзд ударной волной. После этого остаются звёздные трупы: либо остывающий белый карлик, либо пульсирующий нейтронный, либо невидимый и ненасытный пожиратель вещества.
Стремиться к ним не стоит. Любого исследователя возле мёртвых звёзд ждёт неизбежная смерть. Причём даже ценой жизни он не сможет передать никакой информации из той зоны. Всё добытое им погибнет с ним вместе.
– В беге на длинные дистанции, – подытожил Нур-Нур, – побеждает не тот, кто бежит быстрее, а тот, кто выбирает вернейший и кратчайший путь. Кто не бежит лишнего! То есть работает не только ногами, но и головой. Поверь мне, в молодости я неплохо бегал… Поиск в космосе – тот же бег на очень длинные дистанции. Кто выберет не лучший путь, может не найти ничего и никогда!
…Нур-Нур умолк, может, всего на миг, но я воспользовался этим и выключил коэму. Терпеть боль под шестым пальцем было невозможно. Но и оторваться от коэмы тоже я не мог. «Дополнения и замечания» оказались куда увлекательнее «сюжета».
Подумалось сразу о тех, кто в двадцать первом веке отправлял в дальний космос корабль «Урал» – единственный земной звездолёт, который нашёл планету, пригодную для жизни землян. Что знаем мы о тех дальновидных стратегах? Практически ничего. Вся слава досталась вернувшимся в двадцать третий век космонавтам. Но ведь кто-то подсказал им, где искать!.. Наверняка не методом «тыка» определялся их путь!
Возможно, те стратеги были не менее осведомлены, чем Нур-Нур и его космонавтика. Хотя за их спинами и не было успешных дальних полётов… Но то были великие умы, блестящие анализаторы! Земная история, к сожалению, не донесла до меня их имена. Она вообще редко сохраняет имена пророков и мудрецов. Гораздо чаще – имена завоевателей и разрушителей.
Разумеется, кое-что из «дополнений» Нур-Нура знал я и раньше. Изучали же мы астрономию и в школе, и в «Малахите». Но в тех курсах было больше математики и навигации, чем поиска жизни во Вселенной. Те курсы вели нас к исполнению приказов. А информация Нур-Нура – к их разработке, к их составлению. Там была тактика. Тут – основы стратегии. Совсем другой ракурс! Жаль, что не дали нам в «Малахите» такого специального курса: «Поиск разумной жизни во Вселенной». Или хотя бы в Галактике… Возможно, это был бы самый увлекательный курс…
Впрочем, нас и готовили в «Малахите» не для космического поиска, а всего лишь для транспортного рейса. А вот Нур-Нура явно готовили как исследователя. Может, так же учили когда-то, ещё до нашего рождения, в подмосковном Звёздном городке и будущих командиров наших кораблей? Никогда прежде не задумывался я об объёме их знаний. Понимал, конечно, что знают они больше меня. Но насколько?..
Может, теперь, при обсуждении Нур-Нуровых коэм это для меня прояснится?
Но ещё со школьных лет предельно ясно мне: если бы звездолёт «Урал» обнаружил не биологически братское человечество, а, предположим, мыслящих насекомых или моллюсков, птиц или пресмыкающихся, никакого желания лететь на планету Рита у меня не возникло бы. Может, и полетели бы сюда немногие земные биологи – холодно понаблюдать. Но толпы юных добровольцев не рвались бы в «Малахит». Да и самого «Малахита» наверняка не существовало бы. И вряд ли стал бы кто-нибудь рисковать собой ради процветания недоразвитых букашек или медуз. Понаблюдали бы их и оставили в покое.
Как, впрочем, и они нас… Если бы вдруг куда-то полетели и нас обнаружили… Космический союз не братских в биологическом отношении цивилизаций с детства казался мне невозможным, несуразным, бессмысленным. И я не верил той фантастике, в которой про такие союзы читал. Она воспринималась как чистая несбыточная сказка. Вроде сказок про говорящих зайцев, волков и лисиц…
А вот ради людей с других планет казались оправданными и риск, и лишения, и даже жертвы.
Правда, не думалось тогда, что жертвы так близко коснутся меня…
Нур-Нур в своих коэмах не углублялся в эту тему. Закон оптимального развития мыслящей материи избавлял его от этих переживаний и, похоже, был для него с детства такой же непреложной истиной, как для нас – закон всемирного тяготения. Если на другой планете цивилизация не братская в биологическом отношении, – значит, и условия там непригодны для жизни людей. И наоборот: непригодные условия создадут не братскую цивилизацию. Всё просто, однозначно, и думать не о чем.
До тебя всё продумано и сформулировано.
Мне бы с детства такой готовенький закон! Сколько времени сберёг бы!..
…Сегодня предстояло установить печь возле птичника. Площадка готова, яма под основанье вырыта, и сама печь лежит возле ямы. Её надо поставить на штыри, выровнять, засыпать штыри быстросхватывающимся цементом, залить водичкой да перемешать прямо в ямке. И пусть себе твердеет! Была бы энергия – для вибратора это пять минут. Вручную помешаю полчасика.
Однако прежде хотелось узнать, чем завершилась очередная эпопея с племенем ра на Центральном материке. Поэтому я включил радио. Как раз подходило время утренних новостей.
Были они лаконичны, как и положено новостям. С малоприятным мешком из племени ра Фёдор Красный улетел в стоянку племени гезов, отыскал там жену Марата Даю и показал ей отрубленные головы. Дая с ужасом узнала тех, у кого урумту угнали жён. Ра, выходит, были честны перед нами… «Но убивали Марата не только они, – сказала Дая. – Их было много. От двоих Марат наверняка защитился бы».
Дая ждала ребёнка, и оставаться в доме родителей после визита Фёдора опасалась. В селении гезов ра хозяйничали как у себя дома. Поэтому Фёдор увёз её в Город. Посланцам племени ра было обещано прежнее снабжение, но только «до первой стрелы». Полетит в нашу сторону хоть одна стрела – снабжение прекратится сразу. И навсегда.
В это «навсегда», разумеется, я не верил. Но не требовать же от дикого племени массовых репрессий в своей среде!..
Устанавливая печь, я обдумывал эти события и печально констатировал, что начинаю постепенно привыкать к отрубленным и проломленным головам, к похищению женщин, к дикому насилию и диким расправам. Не в моих силах и не в силах моих товарищей остановить этот поток жутких событий то на одном материке, то на другом. Разумеется, убийц Марата просили выдать не затем, чтобы уничтожить. Идёт борьба за каждого ра, которого можно как-то воспитать, обучить, и в составе большой сильной группы вернуть в племя. Чтобы изменить его судьбу. Чем быстрее сложится такая группа, чем многочисленнее и образованнее она будет, тем легче станет потом. Получилось же совсем не то, что ожидалось. Как и с пленниками-урумту… Всё-то мы ждём от них в любом конфликте не той реакции, на которую они способны. Ожидаемая реакция получается только когда их гладят по шёрстке.
Но ведь не всегда это возможно!
Вечером меня вызвал диспетчер Армен Оганисян.
– Ты, говорят, готов к приёму вертолёта, – сказал он. – Посылать?
– Посылай.
– Ставь пеленгатор. На том же месте?
– Там же. Когда ставить?
– Через час нажмём кнопку. Всё собрано. Осталось загрузить.
– Придёт уже в темноте.
– Впервой ли? – Армен хмыкнул. – Спи спокойно! Прибытие сообщишь утром. Никуда не денется.
Армен отключился, и тут же радиофон зазуммерил вновь. Я было подумал, что Армен забыл о чём-то предупредить. Однако вызывал на этот раз Омар.
– Тут по тебе одна дама скучает, – сообщил он, – Просила хотя бы показать тебя. Если уж невозможно пощупать…
– Телепередатчик у меня в вертолёте. Добежать?
– Далеко?
– Минут пять-шесть. А что за дама?
– Дая. Марат, оказывается, ей много о тебе рассказывал. Она надеялась увидеть тебя сразу, как прилетит в Город. И очень огорчилась, узнав, что ты за морем.
– Ладно. Бегу. Переводчиком ты будешь?
– Придётся. Беги!
Я прихватил пеленгатор, чтобы потом срезать путь к пойме Кривого ручья и не заходить за ним в палатку. Хорошо бы, конечно, представиться незнакомой женщине побритым… Но на бритьё времени не оставалось.
…Дая была симпатична, даже по европейским понятиям. Нежный овал лица, гладко причёсанные волосы, большие печальные тёмные глаза, полуоткрытые пухлые губы, растерянная, слегка испуганная улыбка.
Она была в мыслеприёмнике, говорила медленно, на своём языке, и Омар, тоже в мыслеприёмнике, переводил:
– Марат сказал мне, что, если будет плохо, я должна прийти к тебе. Вы братья, и ты обо мне позаботишься. Но я вижу, что ты не похож на него.
– Мы действительно братья, – поспешил подтвердить я. И вспомнил: Марат ведь сразу объявил в племени ра, что в Городе осталась его родня. Вот и попал я в эту «родню»… – Мы не похожи, но у нас так бывает. У нас ещё есть старшая сестра. Её зовут Света. Она тоже не похожа на нас обоих. Марат не говорил о ней?
– Он говорил про сестру. – Дая улыбнулась чуть пошире. Видимо, сообщение о сестре обрадовало её. – Но не назвал имя.
– Сейчас я ей сообщу, и она к тебе придёт, – пообещал я. – Она близко от тебя. А я – за морем. Ты знаешь море?
– Знаю! – Дая улыбнулась ещё шире. – По морю я плавала. Я рыбачка.
– Скоро я прилечу, и мы увидимся. А потом ты прилетишь ко мне. Хорошо?
– Хорошо, – согласилась Дая.
– Никуда не уходи! – повторил я. – За тобой придёт Света.
Дая простилась со мной улыбкой, я тут же вызвал маму и объяснил неожиданную ситуацию.
Мама обрадовалась предстоящему увеличению родни. Но поинтересовалась и своей ролью:
– Кем же я должна быть?
– Может, для начала тётей? Вряд ли Марат говорил о маме…
– Вряд ли… – Мама вздохнула. – Ладно, сейчас поищу Свету. Не беспокойся, всё сделаем. Её и так без внимания не оставили бы…
– Ну, одно дело чужие, другое – родня… Родне всегда доверяют больше.
– Откуда это в тебе? – удивилась мама.
– Вникаю в психологию купов. Когда я стал родственником, кое-кто ко мне сильно потеплел.
Мы простились, я натянул на лоб фонарь, выскочил из вертолёта и двинул в пойму Кривого ручья. Быстро темнело. Ручей я переходил в темноте, босиком, и пришлось вновь обуться. Потому что в темноте выползали из нор змеи. В селение они заползали редко: боялись костров и камней. Купы убивали змей сразу, как только замечали, бросая все дела. Град камней обрушивался на любого неосторожного змеёныша. Уйти ему не давали. Да и я потихоньку учил купов вырезать ножом длинные рогатки и прижимать ими змей к земле. Чтобы безопаснее и вернее уничтожить. Рогатки постепенно появлялись возле многих хижин. Поэтому в селении вечером и ночью было почти безопасно. Но в тёмном лесу и на открытом тёмном пространстве змеи были непуганые.
Перейдя ручей и влезая мокрыми ногами в сухие ботинки, я подумал, что пора соорудить тут хоть примитивный мостик из трёх-четырёх обрушенных с обрыва стволов. Рассчитать только надо точно, чтоб упали вершинами на другой берег. Как в селении ту-пу… Неужто не сумею я, при своём-то образовании, соорудить такой же мостик, какой соорудили эти замечательные строители каменного века?
Впрочем, если и сумею, в первый же разлив его снесёт. А если не снесёт, то начнёт гнить. И придётся сооружать новый…
Поставив пеленгатор в знакомой точке, я включил его и потопал в селение – через ручей, через лес, к своей палатке. Путь был знакомый, уже и тропинка обозначилась, и свет я вырубил – почти автоматически, не задумываясь. Берёг батарейки. Тут не заблудишься.
Не скажу, чтобы шёл я очень тихо. Но и не шумел. Впереди уже мигали между деревьями костры купов. И вдруг сбоку в кустах раздался отчётливый чих. Кто-то чихнул почти по-человечески.
Сейчас же правой рукой я включил свет, а под левую попался на поясе карлар. В луче света обозначились между кустов три мужские фигуры – высокие, безо всякой одежды, с густой шерстью на груди и ногах, со свирепыми физиономиями и вывернутыми губами. Это, разумеется, были не купы, не ту-пу и даже не урумту. В руках, точнее, лапах, они держали суковатые дубины. И ничего больше.
С ужасом, застыв на месте, эти люди – люди? – смотрели на меня. Вернее, на мой фонарь. Затем один из них взмахнул дубиной.
Пришлось полоснуть по ней лучом карлара, и дубина переломилась. Но, похоже, луч задел руку.
Человек – человек? – взвыл по-звериному. И все трое мгновенно исчезли за деревьями. Будто их не было!
И только тут обругал я себя за то, что забыл о слипе. Как и обычно, он торчал на поясе под правой рукой. Надо было усыпить хоть одного. Иначе как узнаешь, кто он и откуда?
Уснуть в этот вечер я долго не мог: перебирал срочные завтрашние дела. Предстояло расспросить об этих людях Тора, проверить приход вертолёта, сообщить Совету о ночной встрече, договориться о транспорте для «курсантов» Вука. Три дня оставалось до встречи у старых пещер. Пора договариваться о деталях.
И ещё о Дае не забыть бы! Что там с моей названной сестричкой?