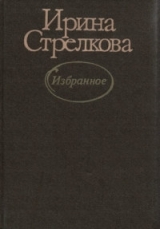
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
4
Прошло еще пять лет. Однажды Александра Ивановича вызвали в горком и сказали, что он включен в комиссию по проверке воспитательной работы в средней школе. Как преподаватель техникума, он должен был обследовать старшие классы, но Александра Ивановича наладили к беспокойным шестиклассникам, и он, будучи шляпой, не смог отвертеться, хотя и уверял председателя комиссии, что не разбирается в проблемах воспитания ребят двенадцати лет.
В одном из шестых классов – шестом «Б» – Александр Иванович услышал, как вызвали по фамилии: «Молчанова». Встала рослая некрасивая девочка. Потом он увидел ее издали в длинном школьном коридоре, она шагала, широко размахивая руками, очень напористо, словно против жестокого ветра. По болтающимся рукам, по упрямой походке он вдруг узнал настойчивую малышку, которая когда-то, очень давно вскарабкалась к нему на колени. Александр Иванович справился по классному журналу шестого «Б». Молчанову звали Ольгой. В графе, где сообщаются сведения о родителях, было написано: «Живет в детском доме». Конечно, это был уже другой детский дом, не дошкольный. Значит, Олю так никто и не удочерил, фамилию ей дала свою Анна Михайловна, это часто делается, но, возможно, властная красавица питала особые чувства к болезненному ребенку.
Перелистав классный журнал, Александр Иванович выяснил, что Молчанова Оля не блистает успехами, по всем предметам у нее выстроились тройки, невозможно понять, какой предмет у Оли любимый.
– Я сразу подумал, что, если бы мы ее взяли, она бы училась куда лучше, – рассказывал он дома Елене Петровне.
Все, чем они перемучились десять лет назад, сызнова вошло в семью Козловых.
– Знаешь, не только она тянется на тройки, почти все детдомовские, – оживленно выкладывал Александр Иванович. – Кормят детей и одевают в детском доме не хуже, чем домашних, у Оли я даже заметил страсть к нарядам, всякие там ленточки и шарфики, но ее школьные дела не могут не тревожить, в учительской все говорят в один голос, что воспитатели детского дома не следят за тем, как ребята готовят домашние задания.
– Надо узнать, что она читает…
Елена Петровна попросила перевести ее в детский зал библиотеки, изучила формуляр Оли Молчановой. Сказки, книжки про разведчиков. Читательница появлялась в библиотеке не часто и книжки задерживала подолгу. За ней числились «Русские сказки», и Елена Петровна попросила детдомовских ребят напомнить Молчановой, что книгу давно пора вернуть. Оля пришла и произвела на Елену Петровну самое хорошее впечатление.
– С ней прежде всего надо заняться чтением, – говорила она Александру Ивановичу. – Оля плохо запоминает прочитанное, не умеет пересказать. Это общая беда всех нынешних школьников, в свободное время их тянет не к книге, а к телевизору.
Александр Иванович, проверяя свои шестые классы, обнаружил, что многие ребята из детского дома проводят воскресные и праздничные дни в городе. У родственников, у товарищей по классу. А Оля Молчанова, оказывается, ни к кому не ходит, остается в детском доме. Родственников у нее в городе нет, ни с кем из одноклассниц она не дружит.
– Молчанову больше интересуют мальчики, – заметила в разговоре с Александром Ивановичем классная руководительница шестого «Б», старая дева, тусклая и язвительная. Александра Ивановича покоробила откровенная ненависть учительницы к своей ученице. К сироте! Воспитаннице детского дома!
– Оля одинока, – рассказывал он Елене Петровне, – ее почему-то никто не любит, она для всех чужая.
– Это вполне объяснимо. Вряд ли кому-нибудь в школе известно, что ее мать не здешняя, но люди инстинктивно чувствуют чужого в своей среде, особенно дети.
У Козловых считалось решенным, что Александр Иванович при первом удобном случае пригласит Олю на воскресенье к себе домой. Козловы много раз принимались обсуждать подробности прихода в дом Оли Молчановой. Александр Иванович позовет ее как бы невзначай, ненавязчиво. Когда она придет, ей не будут надоедать поучениями, расспросами о школьных делах. Никаких советов, как вести себя за столом, никаких рекомендаций по части чтения. Максимум деликатности. Пускай девочка осмотрится у них в доме, привыкнет, а там увидим. Александр Иванович убедился, что девочка совершенно не замечает его повышенного внимания к ней, она не узнает доброго дяденьку, к которому так настойчиво пробивалась верхом на расписном стульчике. Козловы не собирались травмировать Олю воспоминаниями о том, как они мечтали ее удочерить, но, поразмыслив, отказались.
Александр Иванович не был обязан присутствовать на вечере десятых и девятых классов, он проверял шестые, но на него нажали, и он, по обыкновению, уступил.
Вечер как вечер. Концерт самодеятельности, очень короткий, чисто условный, затем из зала с невероятной скоростью исчезают стулья и скамейки, начинается главное, ради чего все пришли, – танцы. Тогда еще не было в каждой школе своего ВИА, прыгали и дергались под радиолу. Александр Иванович взирал на все со спокойствием мудреца. Он был достаточно корректным проверяющим, чтобы не совать носа в неофициальную часть веселья, где и бутылка, обнаруженная в школьной раздевалке, и драка в запертом изнутри классе, и все такое прочее. Там шуровал комсомольский актив и дежурные учителя во главе с завучем Раисой Романовной, которая носилась по школе, как брандмейстер по горящему дому. Александр Иванович только отметил про себя, что в толчее танцующих появились студенты техникума, проникли каким-то образом сквозь все рогатки. Школьные верзилы на них косятся, сегодня после вечера не миновать выяснения отношений, но Александра Ивановича как проверяющего это не касалось.
Возле него остановились две старшеклассницы, запыхавшиеся от танцев.
– Смотри, – одна из них ткнула пальцем куда-то в зал, – Моргуша здесь. Пролезла! А нарядилась-то как! Смех…
– Она везде пролезет! – другая пренебрежительно фыркнула. – Я знаю, у кого она кофту выпросила. У Мары Борисовны.
– Ну? У музыки?
– А у кого еще найдешь такую страшную. Ты только погляди! Музыка ее носит с длинной черной юбкой. И с черными бусами!
Александру Ивановичу вспомнилась музыкальная руководительница дошкольного детского дома. Кому она дала свою кофту? Он проследил, куда тычут пальцами подружки, и увидел напротив у стенки Олю. На ней была розовая глянцевая кофта навыпуск, короткая юбчонка, белые босоножки на высоких каблуках. Волосы причудливо взбиты, на шее самодельные бусы из ягод рябины. «Неужели в детском доме некому поучить девочку одеваться, кроме той странной женщины, которая аккомпанировала детишкам в длинном концертном платье и с розой в высокой прическе! Впрочем, в этом зале вполне сойдет, другие тоже не блистают вкусом, ей простительней, она самая младшая…» Александр Иванович обвел взглядом зал. Кроме Оли тут не отыскалось никого из младших классов. Младших на танцы не звали, кордон у школьных дверей не пускал в школу даже восьмиклассников. А Оля все-таки пробралась! «Она действительно настойчива и упряма. Одиночество развило в ней эту черту, заложенную от рождения».
Александр Иванович незаметно наблюдал за стоящей у стенки девочкой. Какое ожидание на лице, во всей нескладной фигуре, преувеличенно голенастой из-за высоких каблуков. Но вот к Оле приблизился лениво какой-то юнец. Она вся просияла, потянулась к нему. Старшеклассник рывком выдернул ее в скачущую толпу, Александр Иванович потерял Олю из виду, потом обнаружил неподалеку от себя. Она старательно трясла плечами и вращала бедрами, сделалось очень заметно, что все формы у нее вполне женские.
– Моргуша-то! Во дает! – услышал он рядом мальчишечий возглас и смешок.
«Почему они зовут ее Моргушей?» – недоумевал Александр Иванович.
Оля танцевала уже с другим юнцом. Видно было, что она на вершине счастья. Как же! Ее приглашают старшеклассники! Александр Иванович не мог не порадоваться ее наивной радости, но тут новый партнер Оли крутанул ее вокруг себя, и Александр Иванович увидел скверную ухмылку на лоснящейся самодовольной морде. Танцуя с Олей, старшеклассник глумливо указывал глазами на свою партнершу и пересмеивался с приятелями. Он нарочно пригласил нескладную шестиклассницу, чтобы над ней посмеяться. Но Оля ничего не замечала, ни кивков, ни ухмылок, она старательно скакала и вихлялась. Партнер опять крутанул ее вокруг себя, и Александр Иванович увидел Олино счастливое лицо. Еще поворот – опять перед ним лоснящаяся глумливая рожа. Потом снова счастливая Оля, снова рожа пошляка, опять Оля, опять он… Другие танцоры останавливались, смотрели на эту пару, потешались. Что мог тут поделать истинный друг девочки? Александр Иванович отыскал Раису Романовну и накляузничал ей, что в зал пробралась какая-то шестиклассница.
– А-а… Опять Молчанова! – Раиса Романовна ринулась наводить порядок.
Олю вывели, она шла под конвоем дежурных, высоко подняв голову. От Раисы Романовны Александр Иванович узнал, за что Олю Молчанову прозвали Моргушей.
В третьем или четвертом классе у нее стали замечать что-то вроде тика. Дальше – больше. Временами она моргала беспрестанно, до дурноты, потом тик сам по себе проходил, Оля выглядела вполне здоровой, и вдруг опять обострение, она не может ни читать, ни писать. В городской больнице глазник и невропатолог лечили Олю и так и сяк – не помогало. Детский дом и школа стали хлопотать, устроили Олю в областную больницу. Она пробыла там все летние каникулы, вернулась и всю первую четверть не моргала. Потом началось опять. Возили и в Москву – не помогло, Оля по-прежнему мучается от тика. То обострение, то улучшение. Ребята дразнят – она злится. В школе и в детском доме человеку покоя не дадут.
– А диагноз? – спросил Александр Иванович.
Раиса Романовна досадливо отмахнулась:
– Диагнозов ставили много… Да что толку!
Свой разговор с завучем Александр Иванович передал дома со всеми подробностями. Елена Петровна была совершенно убита.
– Бедная девочка. Наследственность… Все-таки сказалась.
– Я тоже об этом подумал.
Они долго и печально молчали.
Когда в горкоме обсуждали итоги обследования, Александр Иванович поставил вопрос о слабой успеваемости воспитанников детского дома.
– Школа должна уделять им больше внимания, – он впервые выступал в таком важном месте и сильно разволновался. – Они сироты, как же можно допускать, чтобы они вышли в жизнь не подготовленными… Надо записать в постановлении…
Раиса Романовна выступила следом за ним и разгромила его в пух и прах.
– Да если бы в наш детский дом прислали авторитетную комиссию! Она бы половину ребят распорядилась перевести в школу для умственно отсталых. Но нет у нас в районе такой школы! Приходится нам учить! Учим, как можем, тянем до восьмого класса, но требовать с нас еще и пятерки!…
Председательствующий постучал ручкой по столу:
– Товарищи, побережем время. С этим вопросом все ясно.
Александр Иванович по несчастной своей мягкотелости спорить не стал.
5
Прошло еще пять лет… Козловы теперь каждый день могут видеть Олю Молчанову, она работает в парикмахерской напротив их дома.
Школа выпустила Олю со свидетельством об окончании восьми классов, дотянула-таки на троечках. В детском доме прекрасно знали, что Оля не сможет дальше учиться – ни в техникуме, ни в ПТУ. Стали искать для нее работу. Из всех городских предприятий только маслозавод располагал общежитием для девушек, Олю устроили на маслозавод. Она проработала с полгода и подала заявление об уходе. Олю уговаривали в завкоме, вызывали на подмогу воспитателей детского дома и школьных учителей. Все правильные слова отскакивали от Оли, как от стенки горох. Она проявила свою колоссальную настойчивость и с завода уволилась, после чего сразу же нашла место уборщицы в парикмахерской и угол у одинокой пенсионерки, бывшей учительницы музыки. Олина квартирная хозяйка по-прежнему питает склонность к театральным нарядам, сама мастерит себе бархатные и шелковые шляпы с перышками от райских птиц среднерусской полосы, не выходит из дому без перчаток даже летом.
Козловых по утрам неодолимая сила тянет к окнам. Они подсматривают сквозь тюлевые занавеси, как Оля убирает парикмахерскую и отплясывает со шваброй в руках. Зимой лучше видно, что творится в парикмахерской, – на улице темно, а там горит яркий свет, Оля, приходя, зажигает полную иллюминацию. Летом, когда в парикмахерской открыты окна, всей улице слышно, как Оля распевает во все горло то голосом Аллы Пугачевой, то голосом Муслима Магомаева. Ни для кого не тайна, что в парикмахерской работает уборщицей ненормальная, или, как говорится, «с приветом». Мастера жалуются на ее лень, хотя Оля охотно бегает по их поручениям в магазин и на городской рынок, где кавказские мужчины торгуют фруктами, а тетки из Молдавии калеными семечками. На рынке Оля азартно торгуется, кокетничает с черноусыми красавцами, перебранивается с горластыми тетками из Молдавии, проявляет всю свою настырность и всегда покупает удачно. К дамским мастерам она каждый день пристает с просьбой сделать ей новую прическу. Оля зудит и зудит, пока кому-нибудь не надоест и ее не усадят в кресло. Волосы у Оли реденькие, но нет такой модной прически, которую бы она не испробовала на себе. Мастера помогают ей доставать модные тряпки и пилят за то, что все время сосет конфеты. Оля не очень-то слушается мастеров и толстеет от сладкого. Тик у нее прекратился сам собой, взамен появились припадки. Она вдруг начинает кидаться на мастеров и на клиентов, кричит, рвется кого-нибудь ударить. Не дай бог, если в эту минуту ей попадет в руки что-то острое или тяжелое. Привыкшие к ее припадкам мастера всем скопом окружают Олю, хватают за руки. Она постепенно слабеет, замирает, лицо белое как стенка, губы синие. Наконец Оля вся обмякла, ее отводят на кухню, сажают на табурет. Оля долго сидит одна, полуспит, потом кто-нибудь из мастеров или постоянных клиентов отводит Олю на квартиру. На другое утро она появляется в парикмахерской как ни в чем не бывало, поет и танцует, бежит на рынок. Говорят, при ее болезни человек не помнит, что с ним был припадок, у него отшибает память. Во всяком случае, Оля совершенно не угнетена своей болезнью, она довольна работой, парикмахерская представляется ей центром жизни, она участвует в разговорах о прическах и нарядах, вдыхает аромат одеколонов и шампуней, видит себя в блеске зеркал, одетую по моде и причесанную как на картинке.
Елена Петровна рада бы не ходить в эту парикмахерскую, но других в городе нет. Сидя в кресле, она каждый раз испытывает сердцебиение, когда Оля со шваброй или с кувшином горячей воды идет на нее из всех зеркал. У самой Оли нет никакого интереса к пожилой клиентке, делающей всю жизнь одну и ту же стандартную прическу, одевающейся скучно и серо.
Александр Иванович, благодаря тому что он шляпа и размазня, часто дежурит на вечерах в техникуме. И не было еще такого вечера с танцами, на который не пробралась бы Оля с прической из последнего фильма и в сногсшибательном наряде. Александр Иванович ставил у двери самых надежных ребят, самолично запирал все окна на первом и втором этажах – Оля все равно появлялась на танцах, она по-прежнему настойчива и хитра. Студенты знают, что она «с приветом», однако Оле никогда не приходится подпирать стенку. Среди парней Оля слывет хорошей партнершей, она «клево» пляшет и с ней можно здорово «побалдеть». Александр Иванович от вечера к вечеру с беспокойством следит за Олиным успехом, ему известно, какие ухари есть среди студентов, им все «ништяк», заговорят, обманут… А что тогда?
Вернувшись домой, он делится своими тревогами с Еленой Петровной. Начинается их обычный печальный разговор. Очень жалко Олю, но что сталось бы с ними самими, если бы она жила в их доме как близкий человек, приемная дочь? Нет, нет, они правильно сделали, что отказались. Иначе бы давно уже сами сошли с ума.
Но как бы Козловы ни убеждали друг друга, обоих неотступно преследует мысль, что, если бы они тогда, когда Оля была совсем маленькая, взяли ее к себе, окружили лаской, она бы выросла здоровой, нормальной.
Где– то живет себе беспечно родная мать, не знающая даже, что ее дочь нарекли Олей, а Козловы, без вины виноватые, не находят покоя.
Они постарели, повыцвели, но по-прежнему живут в полном согласии. Сладкого совсем не едят, очевидно, их организмы получили свое и больше не требуют. Тайну своих планов относительно Оли – своего рока, как говорилось в старых романах, – Козловы хранят про себя, никогда и ни с кем в городе не делились. Александр Иванович однажды не выдержал и рассказал все, от самого начала, но человеку стороннему, случайно оказавшемуся в городе и не намеревавшемуся еще когда-либо побывать в той стороне.
Плот, пять бревнышек…
В Дедове против каждой избы стоят по речке небольшие легкие плоты – шага четыре в длину, три в ширину. С них черпают ведрами воду, с них полощут белье, а если есть такая срочность, на плоту переправляются через реку, потому что мост на всю деревню один, а река течет мимо каждой избы. Или, вернее сказать, все Дедово приладилось вдоль своей извилистой реки, которая когда-то впадала в Шексну, а теперь вливается в Рыбинское море. Или, еще вернее сказать, море влилось в неширокую полевую реку и почти совсем остановило ее течение.
Танькин плот не такой, как у всех, – на других плотах бревна подобраны одинаковые, сбиты и связаны вровень, а у Таньки посередке плота самое длинное бревно, и с краю – короткие. Из пяти бревен от старой бани получился плот ходкий, как фелюга, с острым носом и закругленной кормой. Он сколочен наискосок одной доской, но держится крепко. Есть у Таньки и крепкий багор из молодой прямоствольной березки – им она отталкивается о дно, им и подгребает на глубоких местах. Другие девчонки боятся плавать через речку на плоту, а Танька не боится, хотя иной раз ее и сносит помаленьку вниз – так что потом приходится на веревке, по берегу подтягивать свой корабль на место, как раз напротив нового, красноватого от свежести сруба бани, так и недостроенной Танькиным отцом.
Когда– нибудь потом многое детское забудется, затеряется, а плот останется -будет посвечивать радостной искоркой в глубине памяти.
Детские радости, как часовые, стерегут потом всю нашу жизнь от разных напастей – несведущие и бесстрашные.
В то лето, когда у Таньки появился свой плот, им с матерью пришлось убежать из своего дома на другой край деревни, к бабушке – и отец, пьяный, каждый вечер грозился под окнами и ломился в дверь. От бабушки их взяла тетя Паня, и у нее они жили тихо. Мать с утра пораньше уходила на ферму, а Таньке запрещала уходить из дому.
Нет ничего хуже, как просыпаться поутру в чужом доме. Вылезешь из нагретой постели и не хочется ни до чего дотрагиваться. Хоть обратно полезай, чтобы снова обняться со своим собственным теплом, а оно уже улетучилось, постель стала чужая, и во всем доме только и есть своего, что кофта на гвозде возле двери и резиновые сапожки за высоким порогом.
Танька надела кофту, влезла босыми ногами в сапожки и села на лавку возле давно не беленной печи. Мать, уходя на ферму, строго наказала ей носа не высовывать на улицу. А к вечеру, уже затемно, придет и будет шепотом корить Таньку:
– Прибралась бы, не маленькая. Отблагодарила бы тетю Паню…
Но нет у Таньки никакой благодарности к тете Пане. И чужой дом ей прибирать неохота. Свой есть – там полы крашеные играют на солнце, потолок голубой-голубой, как небо, и на окнах тюлевые занавески.
Танька додумывает о своем доме уже на крыльце, запирая дверь на ржавый засов, навешивая тяжелый крендель замка, запихивая скользкий ключ под ступеньку крыльца. Пригибаясь, она бежит через заросший травой двор, приподнимает проволочное кольцо, накинутое на калитку, ведущую в огород, одним духом пролетает меж редких огуречных плетей, меж сухих и пыльных картофельных гряд к низкой подгнившей бане в дальнем углу усадьбы.
Не для того Танька запирала на замок избу тети Пани, чтобы отсюда ворочаться назад. За баней, в сбитом из неровных жердей заборе, раздвинут лаз – взрослому только кулак просунуть, а Танька иголкой пронизывается сквозь забор и на четвереньках, оскользаясь на лопухах, обжигаясь крапивой, спускается вниз к речке, скатывается с глинистого откоса на рыхлый, обваливающийся в воду берег, обмазывает мокрой глиной белые крапивные волдыри на руках и на голых коленях, смывает глину в речке – так что вода натекает в сапожки.
Она бежит над речкой к изгороди, протянувшейся через луговину до самой воды. Этой изгородью из жердей обнесена кругом вся деревня, чтобы на огороды не зашла с выгона скотина и чтобы из лесу не забрели лоси. Танька пролезает под слегой, бежит редким мелким ельником, за которым начинается выгон, полого спускающийся к морю, где берег усыпан плавником, выбеленным на солнце, как кости древних гигантских животных.
Выгон у Дедова нехорош – мал и беден травой. Место тут низкое, болотистое, в кочках и лобастых валунах. Тут и там попадаются обросшие осокой голубые оконца. Танька, хоть и в высоких сапожках, не осмеливается ступить в оконце – она тянется, заглядывает в самую середину и видит, как там, в немыслимой глубине, бегут белые облака и вьются ласточки – оконца и впрямь без дна, в них видно землю насквозь.
Танька идет краем выгона, где невысоко встал корявый березовый лесок, истоптанный и обчесанный коровами. Впереди стадо бродит возле берез. Слышно, как коровы хрупают траву и тяжко отдуваются. Коровы в Дедове одна в одну, ярославской породы, черно-белые, сразу и не разберешь, которая из них Зорька.
– Зорь, Зорь! – зовет Танька.
На нее глядят бессмысленные глаза в черных очках. Зорька охлестывает себя кисточкой хвоста, отяжеленной комком сизых репьев – никакого дела нет корове до Таньки, законной ее хозяйки.
– Зорь, Зорь!
Никакого внимания!
Когда из сельсовета приходили делить между матерью и отцом все нажитое, то раскладывали хозяйство не на две доли, а на три. Всем поровну: отцу, матери, Таньке. По одной овце, по шесть кур, по паре гусок. В Зорьке посчитали две доли и отдали корову Таньке с матерью, а отцу, в его долю, записали боровка.
Танька первый раз видела, как делятся взрослые, добираясь до каждой мелочи. Сама-то она с девчонками делилась и по два раза на дню – только поссорятся, сразу начинают разбирать своих кукол, свои лоскутки и хрустальные пузыречки, а потом опять все сносят вместе, мирят кукол, заставляя их и целоваться, и хлопать по рукам, чтобы снова по-хорошему вести хозяйство…
Танька боялась, что их избу тоже присудят разбирать поровну, на троих. Но избу, как и корову, делить не стали – записали ее на мать и на Таньку, а в отцову долю записали мотоцикл и велели отцу уходить на постоянное жительство в Дятлово, к своей родне. Но отец вернулся на другой же день, стал шуметь, чтобы его пустили в дом, выломал калитку, выворотил ставень из окна и уснул, пьяный, на крыльце. Сонного, его уложили на телегу и отвезли в Дятлово, а он проспался и опять пришел шуметь и грозиться. Мать боялась оставаться в собственном – своем и Танькином – доме. Навесила всюду замки, отдала ключи соседям, чтобы глядели за птицей, за Зорькой, за отцовским боровком…
Танька тянется хозяйски похлопать Зорьку по круглым, как бочонок, бокам, и застывает вдруг, словно птенец перед змеей. Прямо на нее уставился бык Тюльпан – как только она его проглядела! Тюльпан приземист, ниже Зорьки, и шея у него короткая, на лбу белая лысина, один рог обломан еще с прошлого года, когда Тюльпан, рассказывали, гонялся за зоотехником и врезался рогом в стену конюшни.
От страха Танька холодеет – обломанный рог пугает страшнее целого, острого. Но еще больше пугает Таньку, как смотрит на нее Тюльпан, – взгляд тусклый, тяжелый, пьяный. А Зорька – дура сонная! – хоть бы заступилась за свою хозяйку, хоть бы догадалась заслонить ее от Тюльпана, как Танька заслоняла мать, когда отец глядел от порога такими вот тяжелыми, тусклыми глазами.
Танька отступает на шаг, сухая ветка трещит под ногой – бык выгибает к земле короткую налитую шею и, не сводя глаз с девчонки, скоблит землю копытом… Танька с истошным визгом кидается в бег – не бежит, а летит меж корявых берез. И когда пастух Николай Фролыч хватает ее на руки, Танька всем телом еще долго бьется и летит неизвестно куда.
– Оглушила ты меня, – говорит пастух, ссаживая Таньку на землю.
У нее в ушах не сразу проходит звон, не сразу проходит и дрожь в руках и ногах. Танька свертывается ежом, выставив колючие локти.
– Меня-то ты чего боишься? – спрашивает Николай Фролыч. – Думаешь, выспрашивать стану, откуда идешь?
Николай Фролыч часто моргает светлыми глазами в светлых редких ресницах. В деревне многие считают, что пастух еще смолоду тронулся умом, но это может быть и не так. Смолоду Николай Фролыч исправно прошел все медицинские комиссии и воевал не в обозе, а на передовой и вернулся домой не по ранению или контузии, а только после победы. Отец его и трое братьев погибли на войне, мать умерла, и Николай Фролыч стал жить один – не женился. Первые послевоенные годы он работал на должностях, как и каждый вернувшийся здоровым фронтовик, а потом – еще не старый – пошел в пастухи. Однако в деревне никто не называл его просто по имени или полупочтительно дядей Колей – пастух приучил всех, и старых и малых, к имени-отчеству.
– Чего мне выспрашивать, у кого вы с матерью хоронитесь, – говорит он Таньке. – Я и без спроса знаю, да тебе не скажу. – Николай Фролыч смеется: во как пошутил! Но смех у него невеселый. – С бабушкой-то видаешься?… Постарела она у тебя… Шибко постарела… А была не робкого десятка… Ей бы смолоду грамоты побольше, она бы высоко поднялась, в правительстве бы сидела депутатом – не меньше…
Николай Фролыч снимает кепку, достает из нее пачку «Севера», закуривает. Как все деревенские, он и без лишнего любопытства знает во всех подробностях про неудачную семейную жизнь Танькиных родителей. Как все деревенские, он не считает себя вправе быть судьей между мужем и женой: чужой пристанет, век постылым станет. Танькиному отцу Николай Фролыч не раз – вместе с другими мужиками – скручивал руки, но, когда доходило до участкового, пастух, как все деревенские, отвечал, что ничего не видел и не может засвидетельствовать. Впрочем, и сама Танькина мать перед участковым всегда выгораживала своего обидчика.
К Танькиной матери у пастуха нет никакого сочувствия. Жена сильно пьющего, опускающегося на глазах у всей деревни мужика, которого смолоду знали спокойным и работящим парнем, она и сама уже в чем-то замаранная, виноватая…
Если кого и жалеет Николай Фролыч, не отличаясь и в этом от всей деревни, то Танькину бабушку – не повезло ей с зятем – и саму ни в чем не повинную Таньку, которую ни за что ни про что судьба гнет и крутит, как малую былинку. И хочется пастуху утешить девчонку, обнадежить на будущие времена.
– А дед у тебя был чистой души человек. И печник, и плотник, и шорник. На все руки мастер. Характером тихий, но гордость свою имел, Как же без гордости?… Нельзя… Отец твой не хуже мастер, а может и выше достиг, да водка его свела… Других от безделья сводит, а твоего отца от мастерства… Поломка у кого в мотоцикле или там стиральная машина забарахлила – к кому идут? К нему. Помоги да выручи, за нами не станет… Он когда на летучке работал, так до обеда еще держится, а с обеда – хоть за руль не допускай, уже принял благодарствие за помощь… Нет, ежели ты мастер, гордость свою имей… Вот дед твой бывало…
Таньку понемногу отпускает страх, она слушает Николая Фролыча вполуха; ей трудно представить себе бабушку – сгорбленную и суетливую – статной и властной женщиной, какой помнит ее Николай Фролыч. В бабушкиной избе на чистой половине висят увеличенные и подкрашенные фотографии молодой широколицей женщины. Снималась она и одна в полумужском костюме с квадратными плечами и с медалью на широком лацкане. Снималась вдвоем с мужем, Танькиным незнакомым дедом, послушно вытаращившим глаза. Снималась с маленькой некрасивой девочкой, Танькиной матерью… Но эти старые, розово-голубые фотографии Танька никогда не сличала с морщинистой и ласковой своей бабушкой – не вспомнит она про них и сейчас. Ее занимает не обнадеживающий разговор Николая Фролыча, а возня с цапнутым в кулак кузнечиком – она прикладывает кулак к уху и ждет, когда кузнечик застрекочет, а ему, зажатому со всех боков, никак невозможно застрекотать, и он только щекочет горячую взмокшую ладонь, и от этой щекотки Танька тихо посмеивается.
«Ну и пусть забавляется! – думает пастух. – Детскому уму разве под силу без отдыха горевать?»
– Такие дела… – Николай Фролыч затаптывает в траву сгоревший до желтых ногтей окурок. – Ты, значит, Зорьку свою приходила проведать. Корова у тебя смирная, не шкодливая… Жалоб на нее не имею.
Танька убегает с кузнечиком в кулаке, болтаясь тонкими, как, палочки, ногами в широких резиновых голенищах. Она уже не помнит, что направлялась через выгон к бабушкиному дому, который стоит на горке под церковью – белой, в красной ряби кирпича, показывающегося из-под отлетающей штукатурки. Ноги сами несут Таньку на другой край деревни, к ее собственному дому, приметному издалека по трем старым березам.
Она опять выходит к реке, поблескивающей сквозь ивовые кусты и зеленую щетину камыша. Танькин дом на другом берегу. Она опасливо просовывает голову под кустом, и сердце ее тревожно прыгает: где же плот? Забыв про осторожность, Танька ломится через камыши, залезает в тину по край сапожек. Что за напасть такая? Куда девался плот? Колышек – вон он, торчит на том берегу, а плота нет. Мальчишки угнали или река потихоньку увела? Танька бессильно хнычет, растирая еще сухие глаза, – и вдруг, как солнце из-за серых туч, край плота выглядывает из-за камыша у самых Танькиных ног. Целехонек – все пять серых обсохших бревнышек. Веревка закинута петлей за ивовый ствол. Танька прыгает на плот. Меж бревнышками даже от ее птичьего веса показывается вода, подплывают рыбьи кишки – кто-то уже приспособился рыбачить на покинутом Танькой плоту. В деревне это просто делается. То был у вещи хозяин, то вдруг она становится ничьей, и уже все удивляются, если прежний владелец заявляет какие-то особые права.
Высадив кузнечика на крайнее бревно, Танька пригоршнями смывает с плота чужие следы, и с ними – рыбам на корм – уплывает помятый кузнечик. Танька отвязывает плот, вытаскивает из-под доски свой коричневый в белых крапинах багор и, оттолкнувшись от берега, правит плот через реку – на место. Она стоит на корме, на самом кончике срединного бревна, и потому нос плота задрался вверх, пять бревнышек ходко скользят по реке. Срединное заостренное бревно точнехонько нацелено туда, где от красноватого свежего сруба сбегает к реке тропинка, разламывающаяся в овражек с намывами желтого песка и мелких камешков, оставленных весенней торопливой водой.








