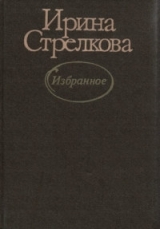
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ирина Стрелкова
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Грачев уже тогда был директором. А кем был он, Харитонов? Он был тощим и носатым учеником слесаря. И вот ученик слесаря вырос до секретаря райкома, а директор так и оставался директором.
…Когда рассвело, когда приехал с аэропорта младший Грачев, Харитонов покинул свой пост, зашел домой, чтобы переодеться, выпить стакан чаю, и поехал в райком. Спать ему не хотелось, он умел не спать по двое и по трое суток.
В райкоме сразу заработала отлично налаженная машина. Звонили на все предприятия, в учреждения – сообщали печальную весть и ставили в известность, что венки надо нести завтра с утра в заводской клуб. Звонили в воинскую часть – насчет духового оркестра. Звонили в милицию – уговаривались о распорядке похоронной процессии.
Сергеев по распоряжению предусмотрительного Белобородова сел писать некролог. В качестве образца перед ним лежали некрологи, вырезанные из разных газет и подшитые в папку запасливым Белобородовым, а также личное дело Грачева, взятое в секторе учета. Начиналось это дело с обычного: «из крестьян», «высшее», «не состоял», «не имею», «не был», а потом шли ордена и выговоры – и того и другого примерно поровну. Из личного дела добросовестный Сергеев так и не смог извлечь никаких слов о личности умершего Грачева, поэтому все чаще и чаще заглядывал в подшивку некрологов, выбирая оттуда подходящие слова: «…был примером настоящего руководителя… чуткий товарищ… пользовался уважением и любовью всего коллектива…».
Написав некролог, Сергеев понес его Белобородову. Тот тоже трудился над какой-то бумагой и тоже заглядывал в какие-то газетные вырезки. Это было более ответственное задание, чем некролог, – Белобородое писал выступление Харитонова на завтрашней гражданской панихиде.
Днем Харитонов поехал на кладбище – проверить, хорошее ли выбрано место. Кладбище находилось в его районе – так что на этот счет возможности были самые великолепные.
С кладбища Харитонов поехал на завод, к Семенычу. На душу ему еще давил густой запах взрытой земли, пронизанной корнями, как кровеносными сосудами. Перед глазами стояла отверстая могила.
В литейке тоже густо и тяжело пахло землей, но эта земля была бесплодна и не требовала жертв. На столе у Семеныча Харитонов увидел запрокинутое лицо Грачева – широкий нос, выпуклые надбровные дуги, шишковатый лоб. Видно, Семеныч только что вынул из формы отлитую им копию гипсовой маски – бронза была еще теплой, как человеческое тело, и когда Харитонов коснулся ее, он невольно отдернул руку.
Харитонов помнил, какая глубокая печаль, какая боль стояла вчера вечером в глазах Семеныча, но сегодня от этой боли как будто не осталось и следа. С явным неодобрением вертел Семеныч бронзовое лицо Грачева, безжалостно находя и глазами и пальцами уйму изъянов.
– Будем переплавлять, – сказал он.
– Тебе видней, – ответил Харитонов.
Самое мудрое дело на свете – если можешь горе свое переплавить в работу. Семенычу к этой мудрости было куда ближе, чем Харитонову, потому что и работа его была конкретней, чем та, которой занимался Харитонов.
– А этот к тебе приходил? – спросил Харитонов.
– Этот? – сразу понял Семеныч. – А как же. Приглядывался…
Когда он вернулся в райком, Белобородов положил перед ним аккуратную папку с грифом «К докладу». Харитонов раскрыл папку и вздрогнул: сверху лежала речь В. И. Харитонова на гражданской панихиде, под нею – И. А. Грачев (некролог). Он было отодвинул папку, но потом решился прочесть. А когда прочитал, у него шевельнулось чувство благодарности к старому службисту Бело-бородову. Ведь сам Харитонов не сумел бы написать про Ивана Акимовича Грачева такой гладкой, прочувственной речи и такого по всем правилам составленного некролога.
Он велел отправить некролог в редакцию. А речь не знал, куда девать. Потом сложил листки вчетверо и спрятал в карман.
И тут в дальнем уголке его памяти снова обнаружился «тот» телефон. Он был как тихий, неназойливый посетитель, что может целый день терпеливо ждать на стуле в приемной: чем терпеливей, чем молчаливей он ждет, тем праведней дело, по которому он пришел.
Но какой теперь прок от незабытого старого номера? По нему никуда не дозвонишься. И пожалуй, трудно сейчас отыскать старые телефонные списки, чтобы установить фамилию, адрес. И уж совсем незачем Харитонову встреча с той, что тогда – два памятных заводских ЧП! – не брала по звонку трубку телефона, зная, что ответить должен только Грачев.
Только Грачев. Только Харитонову доверивший «тот» телефон.
Впрочем, есть еще человек, который не может не знать. И проще простого Харитонову его найти.
Через полчаса к райкомовским дверям подкатила черная «Волга», за рулем сидел Серега Пирогов, теперь уже Сергей Петрович, бессменный шофер Грачева.
Харитонов объяснил Сереге, кого ему нужно сейчас видеть. Серега помолчал насупясь, а потом мягко, неслышно тронул «Волгу» с места.
Машина шла темными, опустевшими улицами, и Серега ни разу не повернул головы к Харитонову, ни разу ни о чем не спросил. Он остановил машину в тихом проулке и потушил фары.
– Вон в том доме. Крайний подъезд.
– Этаж?
– Четвертый.
– Квартиру знаешь?
Серега помотал головой.
– А окно?
– То, где шторы полосатые.
Шторы были задернуты плотно – ни щелочки. И Харитонов вдруг заторопился, чтобы успеть раньше, чем раздвинутся шторы, раньше, чем кто-то оттуда, сверху, увидит на привычном месте грачевскую «Волгу».
Он поднялся на четвертый этаж, уверенно определил, какая квартира ему нужна – дом был типовой, перепутать невозможно. Звонок нажал осторожно – зачем лишний шум? За дверью послышались шаги, Харитонов замер, соображая, как же отозваться, если спросят: «Кто там?», но дверь открылась без всяких предосторожностей, и он услышал: «Войдите».
Самое нелепое оказалось в том, что он давно знал женщину, которая открыла ему дверь. Отлично знал! Встречался с ней по разным деловым поводам, уважал как толкового специалиста, а однажды она с блеском разделала его выступление на сессии горсовета – ох как разделала, тонко, остроумно, беспощадно!
Но, черт возьми, как он ей объяснит теперь, зачем пришел? А что, если Серега все-таки напутал?
Женщина ни о чем не спрашивала, и это могло значить только, что Серега не напутал.
Она провела Харитонова в комнату, там все было, как в тысячах других комнат: диван, низкий столик, книги. Харитонов ревниво искал глазами – где-то должна стоять фотография Грачева, – но фотографии не обнаружил. Не оказалось на виду ничего, хоть чуточку наводящего на мысль, что, кроме хозяйки, здесь бывает еще кто-то, постоянный, со своими любимыми вещами, привычками. И в этом отсутствии каких-либо случайных или обдуманных вещественных напоминаний Харитонов с болью ощутил, почти увидел Грачева входящим в эту комнату, садящимся на диван. И тут он заметил рядом с диваном, на низком столике, телефон – «тот» телефон, по которому он звонил только дважды и только тогда, когда невозможно было обойтись без Грачева. И оба раза Грачев брал трубку не сразу. Хотя телефон был рядом с диваном. Или он спал, или просто слышать не хотел, как дребезжит это чудо двадцатого века, или надоела ему до чертиков телефонная пуповина, всю жизнь соединяющая его с заводом, неразрывная, неотвязная, дотянувшаяся за ним в эту комнату, к этому дивану.
Харитонов не знал, с чего начать, и женщина тоже не знала. Наверное, сегодня, еще утром, кто-нибудь сообщил ей с тем оживлением, с каким сообщают о смерти людей известных:
– Слыхали? Говорят, Грачев-то…
А потом еще кто-нибудь:
– Слыхали?
А потом еще:
– Грачев-то… Кто бы мог подумать. Не знаете ли случайно, что у него было: рак или инфаркт?
Грачев достаточно известный человек, чтобы о нем весь день жужжал в уши этой женщине весь город – на работе, на улице, в троллейбусе:
– Говорят, Грачев… Не знаете ли вы случайно, когда похороны?
…Если бы женщина хоть о чем-нибудь спросила. Но она молчала. Умели – и Грачев и она – прятать то, что у них было. Оба немолодые, оба известные в городе люди. Что их свело?
Все, о чем думал Харитонов, когда ехал сюда, было уже ни к чему. Харитонов вез сюда горсть медяков – несколько слов утешения, обычный вопрос: чем нужно помочь? – стандартное обещание всегда, как только понадобится, принять, выслушать, оказать содействие. И эту горсть звонкой стертой меди он сунул обратно в карман.
Что именно надо сделать, Харитонов понял только здесь, в этой ничего не выдавшей комнате, стоя напротив женщины с замкнутым лицом.
– Я прошу вас поехать сейчас со мной, – сказал Харитонов. – Там никого не будет. Вы проститесь. Если, конечно, считаете нужным.
– Да, – ответила она. Кажется, ей с трудом удавалось шевельнуть застывшими губами. Это было только второе слово, которое она сказала. Первое: «войдите». Второе: «да».
Они спустились вниз по лестнице, прошли к машине. Харитонов усадил женщину на заднее сиденье, сам сел рядом с Серегой. И снова Серега даже головы не повернул – ни к Харитонову, ни к ней.
Серега, Сергей Петрович возил Грачева лет двадцать с лишним. А Грачев любил ночью или на рассвете, после напряженной головоломной работы поехать в степь. Иван Акимович был родом из лесной деревни и лес тоже любил, но часто говорил Харитонову, что лес его успокаивает, усмиряет, а степь подбивает на бунт, на озорство, непокорство. Что касается непокорства, то этого у Грачева всегда хватало, так что вполне можно было поверить в его теории про лес и степь, тем более что Грачев умел поговорить насчет того, как на Руси испокон веков тихие люди бежали в лес, в скиты, а бунтари – на юг, в степи. Или как на американский характер повлияло то, что у них там тоже есть свои степи…
Харитонов полюбил поездки в степь – сначала по шоссе, потом проселком, потом без дороги, по жесткой степной траве. Трава чуть пружинит под колесами, машина идет ровно и вдруг припадет колесом в сусличью нору и снова выровняется, побежит гладко.
От этих воспоминаний Харитонову на минуту почудилось, что в машине еще живет горьковатый вкус степного ветра. А может, и не почудилось, потому что Серега имел привычку мести машину полынными вениками.
Обогнув заводской клуб, Серега остановил машину у служебного входа. Гроб с телом Грачева уже перевезли в клуб и установили в просторном, слабо освещенном вестибюле, на том самом месте, где зимой ставили елку и где Дед Мороз из городской филармонии отрабатывал по договору завкомовские деньги, в точности зная, что Харитонов, самый прижимистый из предзавкомов, следит откуда-нибудь, чтобы шуток и смеха было копейка в копейку.
Елочная суета лезла Харитонову в глаза, в уши, пока он шел через тихий пустой вестибюль туда, где стоял гроб. Скольких трудов, скольких синяков стоил когда-то Грачеву и ему этот клуб – каждая люстра, каждый беломраморный пролет лестницы и особенно мозаичный пол. А выговор за то, что прихватили на клуб кое-что из материалов, отпущенных на новый цех! Все снесли. И до сих пор нет во всем городе клуба, равного этому.
У гроба на свинченных в единый ряд мягких театральных креслах сидели несколько заводских стариков. Родных Грачева здесь не было, жену и сына уговорили провести эту ночь дома и приехать к гробу только утром. Все складывалось, как нужно Харитонову.
– Товарищи, пройдем минут на десять в кабинет директора, – сказал он старикам. – Надо кое-что решить.
Он и сам не знал, почему назвал им десять минут, когда только что, выходя из машины, сказал, что четверть часа вестибюль будет совершенно пуст – ровно четверть часа. Столько лет двое встречались тайком – так они и простятся. Харитонов сделал это не для женщины, пожалуй, о ней он больше не думал – он сделал это для Грачева.
Прошло немногим больше четверти часа. С улицы донесся короткий автомобильный сигнал – Серега давал знать, что она уже вышла, что она уже в машине. Они не уславливались, как быть дальше, когда она выйдет, но тут Серега, видно, разобрался сам – не дожидаясь Харитонова, черная «Волга» тронулась со двора.
Старики побрели обратно в вестибюль – сидеть рядком в мягких креслах, неторопливо вспоминать разную старину, и добрую и недобрую, тешить этими воспоминаниями и себя и усопшего, а также исподволь приучаться к необходимости жизненного конца.
Харитонов посидел с ними, поговорил. Он и раньше знал, что у людей этого возраста существует сложившаяся в результате самых тонких и скрупулезных подсчетов невидимая, но вполне живая очередь на уход в иной мир, очередь, в которой каждый точно помнит свое место. Из разговора стариков Харитонов понял, что Грачев как будто чуточку поспешил, но вообще-то время его уже подходило. Не по годам, а по многим другим причинам. Стариков вроде бы даже успокаивало, что и в этом ими самими не управляемом деле все же хранится достойный порядок и демократия.
Харитонов всегда дружил с заводскими стариками, но в своем ночном неторопливом разговоре они все время держали его от себя на дальней дистанции как человека, которому еще рано занимать место в их живой очереди. А он все сидел, не уезжал, хотя знал, что Серега уже вернулся за ним и ждет – на этот раз у главных, парадных дверей клуба.
Потом Харитонов встал, подошел к изголовью гроба. Оставалась эта ночь и завтрашнее утро, когда он мог еще что-то сделать для Грачева, и оставалось последнее большое мероприятие, о котором в городе скажут – кто с восхищением, кто с завистью: «Грачев со своим Харитоновым» или «Харитонов со своим Грачевым». Последнее мероприятие. Такое, что все запомнят.
…На следующий день с утра к заводскому клубу стали собираться люди. Шли делегации всех заводских цехов с огромными венками, горная хвоя мешалась с осенними белыми и лиловыми астрами. Шли делегации с других заводов и фабрик района, они тоже несли венки.
– Девяносто венков уже! – сказал Харитонову встретивший его у клуба Белобородов.
Под присмотром директоров школ несли самодельные венки старшеклассники. Директора ревниво оглядывались на венки других школ, сравнивали, чей красивей, – в любом деле, даже самом прискорбном, продолжалось их детски азартное соперничество, борьба за первое, второе, третье места на районном пьедестале.
Харитонова сначала смутило, что в похороны Грачева райкомовцы из чрезмерного усердия вовлекли и школы, но потом он подумал: кто, как не Грачев, был опорой всей районной политехнизации, списывая для школ устаревшие – и неустаревшие – станки, кто, как не Грачев, был опорой перевоспитания в труде, принимая в цеха самых непутевых, списанных педагогикой ребят.
Двадцать три школы было в районе, и все принесли по венку. Потом прибыл венок от районного Дома пионеров, от детской технической станции, от юношеского клуба «Бригантина», созданного год назад при заводских домах и выцыганившего у Грачева электрогитары, позарез необходимые для эстетического воспитания.
Гроб с телом Грачева был, как плетнем, огорожен пышными венками. От запаха хвои и вянущих астр кружилась голова у тех, кто с траурными повязками на руках становился к гробу.
Харитонову тоже повязали на рукав черную с красным ленту, ему полагалось встать у гроба рядом с главным инженером завода, председателем райисполкома и представителем из министерства, который то ли на самом деле прилетел специально на похороны, то ли подгадал к этому дню другие, земные дела.
Когда они гуськом шли к гробу, Харитонова на секунду перехватил начальник районной милиции:
– На улице народу… Тысяч десять… Я распорядился движение перекрыть на Пушкинской…
Тысяч десять… Движение на Пушкинской… Чувство, которое охватило Харитонова, когда он услышал эти вести, было самой искренней радостью за Грачева. Никого еще в городе не провожали так в последний земной путь, как провожают Ивана Акимовича Грачева. С этим радостным чувством и стоял Харитонов у гроба, прощаясь с человеком, которого всю свою сознательную жизнь уважал и горячо любил.
А в открытую дверь клуба вносили еще и еще венки, и становились по четыре у гроба люди из других районов города.
Харитонов пошел открывать гражданскую панихиду. В первых рядах увидел он суровое лицо Семеныча и пригорюнившееся – тети Дуси. Увидел, как ощупывает сумасшедшими глазами лицо Грачева взъерошенный Нерчинский в неподобающем для похорон пестром свитере. Увидел прилежного Сергеева и печально-сосредоточенного Белобородова. Увидел Софью Михайловну с неизменным спортивным чемоданчиком, увидел свою жену и испуганную Татку. И Сахно из третьего цеха, и Заглиева из инструментального, и конструктора-лауреата, и многих других.
– Товарищи! – начал он.
Но гладкие слова, написанные Белобородовым, застряли в горле. Все в них было правильно, даже правдиво, но все совершенно непригодно. Не мог сказать он этих слов Ивану Акимовичу Грачеву. Люди ждали, что он скажет, а Харитонов молчал. Никто не прервал этого молчания. И все запомнили именно молчание, а не то, что Харитонов говорил потом, взяв себя в руки.
После него говорили другие.
Заводские девчата начали выносить венки, и, когда гроб оголился, Харитонов первым подошел к нему и подставил плечо у изголовья. Впереди на целый километр шли девчата с венками, следом медленно ехала машина, и за ней шли тысячи людей.
А вечером в доме Грачева собрались все, кто имел такое право – ходить к нему без приглашения. Они сели вокруг стола, за которым Грачев не раз сиживал с ними, на котором он лежал навытяжку перед тем, как навеки покинуть свой дом. Стол был убран и накрыт по всем правилам, известным тете Дусе, и за столом вели себя все согласно ее указаниям, не стыдясь есть и пить, потому что таков спасительный старый обычай.
О похоронах Грачева еще долго потом говорили в городе. О сотнях венков, о тысячах людей, о прекрасном памятнике, который вскоре был поставлен на кладбище: гранитная плита, а на ней бронзовое лицо и надпись бронзовыми буквами.
С бронзой получилась неприятная история, потому что снабжали ею завод по строгому лимиту. Впрочем, историю с бронзой в министерстве замяли. Но на бюро горкома все же поставили вопрос о неэтичных действиях Харитонова, поднявшего ненужную шумиху вокруг похорон. Харитонов получил на бюро выговор. Без занесения.
В тот день, на который было назначено бюро, Софья Михайловна ждала тревожного звонка. Но Харитонов обошелся.
Джунгарские ворота
Мы добрались до озера Алаколь как раз к началу великого комариного звона, к началу той торжественной вечерней службы, которую алакольский комар правит с особым усердием.
Перед нами лежала узкая протока, заросшая камышом, – за ним не видать было самого озера, протянувшегося на многие километры и разделенного камышовыми отмелями на множество малых озер, заливов и проток.
Вода в протоке была светлая, по-вечернему тихая, отчетливо слышен был сабельный постук камыша да откуда-то издалека плыла над водой радиомузыка. На том берегу, скрытое за бугром, стояло село Рыбачье, от этого села и содержали на протоке паром, который сейчас был причален к противоположному берегу, рядом с будкой паромщика.
– Эй, дед! – взывали мы, но дощатая будка с одним оконцем и затворенной дверью так и не распахнулась ни на гудок нашего «Москвича», ни на выстрелы в воздух из охотничьего громобоя.
Значит, старик паромщик уже умотал к себе в Рыбачье. Лодырь из лодырей! Своими руками он только собирал мзду, а переправлялись его клиенты в порядке полного самообслуживания – еще с тех незапамятных времен, когда ни метода такого, ни слова самого и не знавали окрест Алаколя.
– Суббота! – наконец высчитали мы, перебрав в памяти дни, когда клевало и когда нет.
Надо быть круглыми дураками, чтобы субботним вечером ехать через солончаки, рискуя поминутно в них завязнуть, к этому разбойничьему перевозу через Алаколь, к этому комариному притону. Добро еще были бы мы заезжими туристами. Так нет – знаем эти места и все же не догадались заночевать в степи, сразу же за Урджаром, на одном из рыжих, с каменными ребрами холмов, где ветер шуршит в скудной, жесткой траве и никогда никаких комаров.
Возвращаться назад не хотелось – возвращаться всегда неприятно, даже если ты не очень суеверен, а уж через солончаки и вовсе глупо – можно не добраться до сухих пригорков, засесть в соленой трясине.
Мы бродили по берегу, лелея в сердцах надежду на машину: придет она с той стороны, и с нею переправится к нам и паром. Берег был весь в глубоких рубцах, какие оставляют на влажной податливой земле колеса тяжелых грузовых машин, и в черных следах костров, порою отчетливо круглых, означавших, что топливом были автомобильные покрышки. Здесь, в степях, часто жгут изношенные покрышки, и не по бесхозности, а, наоборот, из хозяйственных соображений: чтобы добро не пропадало.
Было еще светло, и комары веселились пока в вышине, готовясь тучами пасть на нас в самом ближайшем будущем. К их ликующему звону вдруг примешалось тонкое подвывание борющегося с тяжкой дорогой мотора; мы навострили уши, но мотор терзался на той же дороге, которую только что с тем же надрывом одолели и мы. И действительно, через некоторое время из камышей вынырнул закиданный белесой грязью грузовик. Сменив нас, шофер с грузовика, совсем еще молодой паренек, поорал на берегу, тщетно призывая паромщика, а потом уступил это дело здоровенному дядьке, подкатившему с целой компанией на газике.
Рыбачье отвечало нам нежнейшим скрипичным концертом.
Начало быстро темнеть, и комары опустились на нас.
И тут послышалось слабое тарахтенье лодочного мотора. Оно отдавалось в камышах то с одной, то с другой стороны, никак не удавалось определить, где, по каким протокам, петляет моторка. Но вот на воде, еще светившейся отражением облаков, показался острый нос лодки, стожок сена над ним, согнутая фигура в коробом стоящем плаще, в высокой казачьей фуражке.
– Эй, дядя! Паромщику скажи – машины на берегу! Слышишь? Паромщика кликни!
Стучал мотор, плыла по воде тень стожка, не шевельнулась фигура в плаще и высокой фуражке.
– Эй, дядя! Подвези в Рыбачье!
Глухой он, что ли? Рявкнули сирены машин – дядя на лодке не шелохнулся. Лодка медленно удалялась.
– Шарахнуть бы из ружья да по нему! – в сердцах сказал парень с грузовика. – Почему не откликается! Он, сволочь, сено краденое везет! Надо бы ему, паразиту, лодку продырявить. На добрую память…
Темный стожок уплыл за камыши.
А скрипка еще долго пела, временами прерывая ее, бухтел над озером ровный голос, быть может объяснявший благотворное влияние классической музыки на человеческие сердца. Но, видно, в Рыбачьем это влияние сказывалось не сразу, потому что к парому так никто и не пришел.
Мы слонялись по берегу, и руки наши, не зная покоя, звучно касались щек, лбов, виртуозно залетали за спины, охлестывая лопатки. Приловчившись, комары успевали впиваться и в руки. Мы заперлись от них в «Москвиче», но за наглухо завинченными окнами долго не усидишь. В палатке от комаров тоже не нашлось бы спасения.
Меж тем паренек, шофер грузовика, прикатил откуда-то из камышей мокрую лысую шину, свалил внутрь ее обломки досок, гнилушки, плеснул солярки и поджег. Пламя вскинулось вверх, выпустило черное облако вонючего дыма. Мы потянулись к огню. То был не лирический лесной костерок, в который глядишь не наглядишься, как вскипает на полешках сок, как огонь то осторожно лижет хворост, то вдруг разом охватывает его со всех сторон. Нет, костер гудел и чадил как примус, обдавал кухонным жаром, но все равно любо было сидеть у него и смотреть, как комары стаями втягиваются в пламя и сгорают.
Из Рыбачьего, возможно, видно было красное свечение костра, но уже нечего было рассчитывать, что кто-то пошлет к переправе паромщика или сам придет, чтобы помочь нам переправиться на ту сторону. Ведь даже переправившись, мы теперь, ночью, никак не решились бы двинуться неверными, запутанными дорогами через камыши и солончаки, а остались бы до света на берегу Алаколя, – так не все ли равно, на каком берегу мы теперь оставались. Сидеть нам здесь до утра – сначала у чадящего спасительного костра, защитив сколь возможно спины и затылки, а за полночь, когда непреодолимо кинет в сон, мы приткнемся где попало и – пользуйся комар!
Паренек с грузовика притащил к костру арбуз, раскромсал его на газете крупными скибами, – нож не поспевал резать арбузную корку: распираемая изнутри, она раскалывалась, опережая лезвие, и так бугриста, сочна была открывшаяся алая крупитчатая мякоть.
– Угощайтесь, – сказал парень. – Семипалатинский арбуз. Сахарный.
«Семипалатинский» он произнес с ударением на втором «и», как и положено коренному жителю здешних мест. А потом отрекомендовался:
– Будем знакомы – меня Валера зовут. Из Уч-Арала я, шоферю в колхозе.
Мы тоже назвали себя, выложили к костру все, что оставалось из съестного.
Подошел дядька с газика, оказалось – строитель из нашего города
– В порядке шефства людям клуб отделывали, – пояснил дядька, по всем ухваткам – бывалый человек, не иначе как прораб. Он вытащил из кошелки полкаравая серого пшеничного хлеба, кусок старого сала.
– Вострецов! – позвал прораб, обернувшись к газику. – Ты чего там возишься?! Иди сюда! И лещей прихвати копченых, они у меня там, на заднем сиденье… Слышишь, Вострецов?!
– Иду! – долетело в ответ. Что-то странное было в этом «иду», какая-то певучая мягкость…
«А ведь это Митья! – подумала я. – Митья Вострецов…»
И вправду к костру приближался Митья Вострецов – в высоких болотных сапогах, в забрызганном красками ватнике, в берете, из-под которого свисал на уши и на шею клетчатый носовой платок. Митья подошел к костру, положил рядом со скибами арбуза связку плоских и круглых, похожих на метательные диски лещей, бронзово поблескивавших при свете костра.
– Здравствуйте, – узнал меня Митья. – Очень приятная встреча.
Он теперь уже совсем правильно, только слишком старательно выговаривал русские слова.
Вострецовы появились в нашем городе года два назад. Иван Григорьевич, его жена Аннет и трое сыновей: Александр, Николай и Дмитрий. Отец звал их Сашей, Колей и Митей, но ни сами они, ни мать этих простых имен выговорить не могли; так младший называл себя Митья, это имя за ним и осталось – Митья Вострецов. Ну, не знаешь, что ли, этих французов Вострецовых, они самые, а Митья у них младший…
Иван Григорьевич Вострецов был кряжист и по-казачьи коротконог. По будним дням он носил синюю рубашку грубой ткани – если сказать по-французски, то блузу – и никогда не застегивал ее доверху, потому что пуговиц у ворота всегда недоставало. Штаны у Вострецова обычно съезжали ниже пупа, – не знаю, как он именовал по-французски такое состояние своих штанов. Словом, одет Вострецов был куда неряшливее, чем другие мужчины в поселке строителей, что было даже странно для человека, приехавшего из-за границы. Женская общественность, разобравшись, обвинила в этом жену Ивана Григорьевича Аннет, выглядевшую лет на десять моложе Вострецова, хотя она и была по документам его ровесницей. Мадам Аннет, совсем еще не седая, легко носила свое полное коротенькое тело и удивляла весь поселок малым количеством продовольствия, покупаемого на такую большую семью. По-русски она и говорила, и понимала еле-еле, но ни одной кассирше не удавалось ее обсчитать, потому что мадам Аннет не стеснялась до копейки выверять сдачу и с французским клекотом высыпать мелочь обратно в кассиршину тарелку. В поселке строителей это вызывало не похвалы, а общее осуждение.
– Надо же, за копейку так тягаться, да я не в жизнь, – пренебрежительно говорили соседки, у которых всегда не хватало трешки до получки, но эту трешку им ни разу не удавалось перехватить у мадам Аннет, отказывавшей с явным изумлением и даже испугом.
Но главным недостатком мадам Аннет было даже не это ее сквалыжничество. Иностранка не умела стирать, вывешенное ею бельишко ужасало всех соседок позорно-серым цветом полотенец и простынь, а на мужских майках у подмышек всегда оставались темные разводья пота.
Не зная русского языка, мадам Аннет не догадывалась, что в краю, куда привез ее муж, бережливость – ничто по сравнению с умением до снежной голубизны выстирать, выварить, выполоскать белье. Этим умением здесь так гордились, что ретивой стиркой за год обращали в разлезшуюся тряпку совершенно новую мужскую рубашку, которой при бережном обращении служить бы годы и годы. Многое еще предстояло узнать мадам Аннет, и Иван Григорьевич, как видно, не торопил ее на этом пути познания.
В тот год, когда приехали Вострецовы, строителям давали за городом участки под сады. Иван Григорьевич тоже взял участок. Дорога туда вела через старые огромные сады, которыми знаменито наше Семиречье, – на десятки километров стоят в казачьем ровном строю приземистые яблони, с натугой удерживающие на жилистых ветвях осеннюю тяжесть апорта. Как-то в воскресенье я встретила в садах Вострецова – он шел по дороге, сняв ботинки, и по-городскому неуверенно ступал босыми ногами по земле, которая осенью в Семиречье бывает тепла по-особому. А потом он остановился перед яблоней и легонько коснулся пальцами яблочного румянца – будто ребенка потрепал по щеке.
И сам Иван Григорьевич и все трое сыновей работали в жилстрое малярами. Про них рассказывали, что малярят они очень качественно, только медленно, еле успевая укладываться в норму, но при этом кончают махать кистями ровно в четыре и тотчас уходят, не задерживаясь ни на минуту. Однажды, когда они, кончив работу ровно в четыре, спускались вниз по лестнице, Вострецовых пытался остановить бригадир:
– Где ваша рабочая совесть? Мы этот объект через неделю сдавать должны, а вы…
– Простите, дорогой товарищ, – отвечал бригадиру Митья. – Но мы поступаем по закону. Семичасовой рабочий день – не так ли?
– Да так! – стукнул себя в грудь бригадир. – Но сдавать надо объект. Понимаете?
Вострецовы быстро заговорили между собой по-французски, Митья им что-то убедительно растолковал, и они, мило раскланявшись с бригадиром, продолжали свой путь.
– Буржуазная психология! – сплюнул им вслед бригадир и добавил еще несколько острых формулировок, не переводимых на иные языки.
В другой раз Митью взялся агитировать председатель постройкома:
– Вот ты по бюллетеню за целую неделю получил, а в буржуазной Франции за время болезни не имел бы ни копейки да еще на доктора бы израсходовался.
– Вы совершенно неправы, – с невозмутимым видом отвечал Митья. – Во Франс я был членом профсоюза, и мы содержали свою поликлинику и своих врачей. Попробовал бы наш профсоюзный врач не дать мне освобождение от работы и попробовала бы касса не заплатить мне за эти дни… О-о-о! – И Митья помахал перед носом председателя постройкома указательным пальцем. – Рабочий класс умеет бороться за свои права!
Насчет прав эти Вострецовы, по общему мнению, действительно соображали. Они очень проворно освоили все наши советские законы и пользовались ими куда практичней, чем многие из тех, кто у нас родился, вырос и всю жизнь проработал. И насчет налогов, и насчет премиальных – во всем Вострецовы очень толково разобрались, освоили даже такое дело, как закрытие нарядов в конце месяца. Наверное, им там, во Франции, приходилось держать ушки на макушке, а то бы пропали. Ведь судя по тому, с каким имуществом они в наш город репатриировались, не очень-то богато жилось Вострецовым на чужбине.








