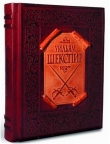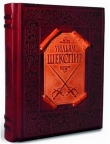Текст книги "Полное собрание сочинений. Том 03"
Автор книги: Иосиф Сталин (Джугашвили)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
ДВЕ РЕЗОЛЮЦИИ
Две резолюции.
Первая– Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов.
Вторая – рабочих (400 человек) механического отделения Русско-Балтийского вагонного завода.
Первая – за поддержку так называемого “займа свободы”.
Вторая – против.
Первая без критики принимает “заём свободы”, как таковой, как заём в пользу свободы.
Вторая определяет “заём свободы”, как заём против свободы, ибо он “заключается с целью продолжения братоубийственной бойни, выгодной лишь империалистической буржуазии”.
Первая внушена сомнениями потерявших голову людей: а как быть со снабжением армии, не повредит ли делу снабжения армии отказ от поддержки займа.
Вторая не знает таких сомнений, ибо она видит выход: она “признаёт, что дело снабжения армии всем необходимым требует денежных средств, и указывает Совету рабочих и солдатских депутатов, что деньги эти должны быть взяты из кармана буржуазии, затеявшей и продолжающей эту бойню и наживающей в этом кровавом угаре миллионные барыши”.
Авторы первой резолюции должно быть довольны, ибо, ведь, они “исполнили свой долг”.
Авторы второй революции протестуют, считая, что первые таким отношением к делу пролетариата “изменяют Интернационалу”.
Не в бровь, а в глаз!
За и против “займа свободы”, направленного против свободы.
– Кто прав? – решайте, товарищи рабочие.
“Правда” № 29 ,
11 апреля 1917 г.
Подпись: К. Сталин
ЕЩЁ О СТОКГОЛЬМЕ
Война идёт. Грозно и неуклонно шествует её кровавая колесница. Из европейской она шаг за шагом превращается во всемирную, втягивая в своё чёрное дело всё новые и новые государства.
Вместе с тем падает и теряет своё значение Стокгольмская конференция.
“Борьба за мир” и тактика “давления” на империалистические правительства, провозглашенные примиренцами, превратились в “звук пустой”.
Попытки примиренцев ускорить окончание войны и восстановить рабочий Интернационал путём соглашения между “оборонческими большинствами” разных стран потерпели полный крах.
Стокгольмская затея меньшевиков и эсеров, вокруг которой плетётся густая сеть империалистических интриг, неизбежно должна превратиться либо в бессильный парад, либо в игрушку в руках империалистических правительств.
Теперь ясно для всех, что поездка делегатов Всероссийского съезда Советов по Европе и “социалистическая” дипломатия оборонцев с устройством торжественных завтраков с представителями англо-французского социал-империализма – не есть путь к восстановлению международного братства рабочих.
Партия наша была права, отмежевавшись от Стокгольма ещё на Апрельской конференции.
Развитие войны и вся мировая обстановка неизбежно обостряют классовые противоречия, ведя к эпохе грандиозных социальных битв.
В этом, и только в этом, надо искать демократических путей к ликвидации войны.
Говорят об “эволюции” во взглядах англо-французских социал-патриотов, об их решении поехать в Стокгольм и пр.
Но разве это меняет дело? Разве русские и германо-австрийские социал-патриоты не решили также (ещё раньше англо-французских!) участвовать в Стокгольмской конференции? Кто может утверждать, что это их решение ускорило дело окончания войны?
Разве партия Шейдемана, участвующая в Стокгольмской конференции, перестала поддерживать своё правительство, ведущее наступление и захватывающее Галицию, Румынию?
Разве партии Реноделя и Гендерсона, говорящие о “борьбе за мир” и о Стокгольме, не поддерживают в то же время свои правительства, захватывающие Месопотамию, Грецию?
Какое значение могут иметь для дела ликвидации войны их разговоры в Стокгольме перед лицом этих фактов?
Добренькие слова о мире, прикрывающие решительную поддержку политики войны и захватов,– кому не известны эти старые-престарые приёмы империалистического обмана масс?
Говорят, что обстоятельства теперь изменились в сравнении с прошлым, что следовало бы ввиду этого изменить и своё отношение к Стокгольму.
Да, обстоятельства изменились, но изменились они не в пользу Стокгольма, а исключительно против него.
Изменилось, прежде всего, то, что война из европейской стала всемирной, расширив и углубив общий кризис до крайних пределов.
Поэтому шансы империалистического мира и политики “давления” на правительства понизились до крайнего минимума.
Изменилось, во-вторых, то, что Россия стала на путь наступления на фронте, приспособив к требованиям политики наступления внутреннюю жизнь страны в смысле обуздания свобод. Ибо надо же, наконец, понять, что политика наступления несовместима с “максимальными свободами”, что поворотный пункт в развитии нашей революции начался ещё в июне. При этом большевики “оказались сидящими” в тюрьмах, а оборонцы, превратившись в наступленцев, играют роль тюремщиков.
Поэтому положение сторонников “борьбы за мир” стало невыносимым, ибо если раньше можно было говорить о мире, не боясь быть уличенным во лжи, то теперь, после политики наступления, поддержанной “оборонцами”, слова о мире из уст “оборонцев” звучат насмешкой. О чём же всё это говорит?
О том, что “товарищеские” разговоры о мире в Стокгольме и кровопролитные дела на фронтах оказались абсолютно несовместимыми, что противоречие между ними стало кричащим, самоочевидным.
В этом неизбежность краха Стокгольмской конференции.
Ввиду этого несколько изменилось и наше отношение к Стокгольму.
Раньше мы разоблачали стокгольмскую затею. Теперь вряд ли стоит её разоблачать, ибо она сама себя разоблачает.
Раньше её надо было клеймить, как игру в мир вводящую массы в обман. Теперь вряд ли стоит её клеймить ибо лежачего не бьют.
Но из этого следует, что путь к Стокгольму не есть путь к миру.
Путь к миру идёт мимо Стокгольма через революционную борьбу рабочих против империализма.
"Рабочий и Солдат” № 15,
9 августа 1917 г.
Передовая
ЖДАТЬ ВАМ—НЕ ДОЖДАТЬСЯ...
Характерной чертой переживаемого момента является непроходимая пропасть между правительством и народными массами,—пропасть, которой, не было в первые месяцы революции и которая появилась в результате корниловского восстания.
После победы над царизмом, в первые же дни революции, власть попала в руки империалистической буржуазии. У власти стали не рабочие и солдаты, а кучка кадетских империалистов. Как могло это случиться, и на что, собственно, опиралось тогда господство кучки буржуазии? Дело в том, что рабочие и, главным образом, солдаты доверяли буржуазии, надеясь в союзе с ней добиться хлеба и земли, мира и свободы. “Бессознательно-доверчивое” отношение масс к буржуазии – вот на что опиралось тогда господство буржуазии. Коалиция с буржуазией была лишь выражением этого доверия и этого господства.
Но шесть месяцев революции не прошли даром. Вместо хлеба получился голод, вместо увеличения заработной платы—безработица, вместо земли—пустые обещания, вместо свободы —борьба с Советами, вместо мира – война до истощения России и измена корниловцев у Тарнополя и под Ригой – вот что дала массам коалиция с буржуазией. Корниловское восстание лишь подвело итоги шестимесячному опыту коалиции, вскрыв предательство кадетов и пагубность политики соглашения с ними.
Всё это, разумеется, не прошло даром. “Бессознательно-доверчивое” отношение масс к буржуазии исчезло. Коалиция с кадетами сменилась разрывом с ними. Доверие к буржуазии уступило место ненависти к ней. Господство буржуазии лишилось своей надёжной опоры.
Правда, путём соглашательских ухищрений оборонцев, путём подлогов и фальсификации, с помощью Бьюкенена и кадетских корниловцев, при явном недоверии со стороны рабочих и солдат,—соглашатели всё же сколотили “новое” правительство старой буржуазной диктатуры, протащив обманным путём отжившую и истрёпанную коалицию.
Но, во-первых, коалиция эта худосочная, ибо, заключённая в Зимнем дворце, она встречает в стране лишь отпор и возмущение.
Во-вторых, правительство это непрочно, ибо оно не имеет под ногами почвы в виде доверия и сочувствия масс, питающих к нему лишь ненависть.
Отсюда непроходимая пропасть между правительством и страной.
И если это правительство всё же остаётся у власти, если оно, творя волю меньшинства, собирается господствовать над явно враждебным большинством, то ясно, что оно может рассчитывать лишь на одно: на насилие над массами. Никакой другой опоры у такого правительства нет и не может быть.
Поэтому не случайность тот факт, что первым шагом правительства Керенского – Коновалова послужил разгром Совета в Ташкенте.
Не случайность и то, что это правительство принялось уже за подавление рабочего движения в Донецком бассейне, посылая туда таинственного “диктатора”.
Не случайность и то, что на вчерашнем своём заседании провозгласило оно войну с крестьянскими “волнениями”, решив:
“Образовать на местах комитеты Временного правительства, прямое назначение которых составляло бы борьбу с анархией и подавление беспорядков” (“Биржёвка”).
Всё это не случайность.
Правительство буржуазной диктатуры, лишённое доверия масс и всё же желающее удержаться у власти, не может жить без “анархии” и “беспорядков”, борьбой с которыми оно пытается оправдать своё существование. Оно спит и видит во сне, что большевики “устроили восстание”, или крестьяне “разгромили” помещиков, или железнодорожники “навязали пагубную забастовку”, лишившую фронт хлеба... Всё это “нужно” ему для того, чтобы поднять крестьян против рабочих, фронт против тыла и, создав, таким образом, необходимость вооружённого вмешательства, упрочить на время своё неустойчивое положение.
Ибо нужно же, наконец, понять, что лишённое доверия страны и осажденное ненавистью масс правительство не может быть ни чем иным, как правительством провоцирования “гражданской войны”.
Недаром “Речь”, официоз Временного правительства, предостерегает правительство от “предоставления большевикам возможности выбрать момент для объявления гражданской войны”, не советуя ему “терпеть и ждать, пока они (большевики) не выберут удобный момент для общего выступления” (“Речь”, среда).
Да, они жаждут народной крови...
Но тщетны их надежды и смешны их потуги.
Сознательно и организованно идёт к победе революционный пролетариат. Дружно и уверенно сплачиваются вокруг него крестьяне и солдаты. Всё громче и громче раздаётся возглас: вся власть Советам!
Бумажная коалиция в Зимнем дворце... выдержит ли она напор?
Вы хотите разрозненных и преждевременных выступлений большевиков? Ждать вам – не дождаться, гг. корниловцы.
“Рабочий Путь” № 23,
29 сентября 1917 г.
Передовая
ЗАГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Кто они?
Вчера мы писали, что вдохновителями контрреволюции являются кадеты. Мы опирались не только на “слухи”, но и на общеизвестные факты выхода кадетов из правительства в критические минуты “сдачи” Тарнополя в июле и заговора Корнилова в августе. Ибо не могло быть случайностью, что в июле, как и в августе, кадеты оказались в одном лагере с предателями на фронте и злейшими контрреволюционерами в тылу против русского народа.
Сегодня “Известия” и оборонцы, эти присяжные соглашатели с кадетами, без оговорок подтверждают наши вчерашние заявления о кадетах:
Итак:
Факт, что Ставка есть штаб-квартира контрреволюции.
Факт, что генеральный штаб контрреволюции состоит из “известных общественных деятелей”.
Кто же такие эти “общественные деятели”? Слушайте дальше:
“С несомненностью установлена причастность к заговору целого ряда общественных деятелей, находящихся весьма близко в идейной и персональной связи с представителями кадетской партии” (“Известия”).
Итак:
Факт, что гг. оборонцы, вчера ещё лобызавшиеся с “живыми силами” страны в лице “представителей кадетской партии”, сегодня вынуждены разжаловать их в заговорщиков против революции.
Факт, что заговор организован и направляется “представителями кадетской партии”.
Наша партия была права, утверждая, что первым условием победы революции является разрыв с кадетами.
На что они рассчитывают?
Вчера мы писали, что партия Корнилова —злейший враг русской революции, что Корнилов, сдав Ригу, не остановится перед тем, чтобы сдать Петроград, лишь бы обеспечить победу контрреволюции.
Сегодня “Известия” без оговорок подтверждают это наше заявление:
Начальник главного штаба генерал Лукомский, фактически являющийся душой мятежа, извещает о том, “что междуусобная борьба на фронте, в случае несогласия Временного правительства на требование генерала Корнилова, может вызвать прорыв фронта и появление противника в тех местах, где мы меньше всего его ожидаем”.
Не правда ли: это очень похоже на угрозу сдачей, скажем, Петрограда?
А вот ещё более определённое заявление:
“Генерал Лукомский, очевидно, не остановится перед прямой изменой родине, добиваясь успеха заговора. Его угроза, что отказ исполнить требование генерала Корнилова повлечёт за собой гражданскую войну на фронте, открытие фронта и позор сепаратного мира, не может быть рассматриваема иначе, как твёрдая решимость войти в соглашение с немцами для обеспечения успеха заговора”.
Вы слышите: “соглашение с немцами”, “открытие фронта”, “сепаратный мир”...
“Причастные к заговору” кадеты, покрывающие своим пребыванием в Ставке угрозу “открытия фронта”, “соглашения с немцами”,– вот где настоящие “предатели” и “изменники”!
Целыми месяцами обливали нашу партию грязью эти герои “открытия фронта”, обвиняя в “измене”, говоря о “немецких деньгах”. Целые месяцы размазывали эту гнусную сказку жёлтые наймиты банков из “Нового Времени” и “Биржёвки”, из “Речи” и “Русской Воли”. И что же? Теперь даже оборонцы вынуждены признать, что измена—на фронте—дело рук командного состава и его идейных вдохновителей.
Пусть помнят это рабочие и солдаты!
Пусть знают они, что провокаторские крики буржуазной печати об “измене” солдат и большевиков лишь прикрывали действительную измену генералов и “общественных деятелей” кадетской партии.
Пусть знают они, что, когда буржуазная печать подымает вой об “измене” солдат, это верный признак того, что вдохновители этой печати уже подготовили измену, стараясь взвалить вину на солдат.
Пусть знают это рабочие и солдаты и делают из этого соответствующие выводы. Вы хотите знать, на что они рассчитывают? Они рассчитывают на “открытие фронта” и “соглашение с немцами”, думая идеей сепаратного мира увлечь за собой измученных войной солдат и потом двинуть их против революции.
Рабочие и солдаты поймут, что этим предателям из Ставки не должно быть пощады.
Заговор продолжается...
События бегут. Новые факты и слухи с быстротой проносятся перед нами. Носятся слухи, ещё не проверенные, о переговорах Корнилова с немцами. Определенно говорят о перестрелке корниловских полков с революционными солдатами под Питером. Появился “манифест” Корнилова, где он объявляет себя диктатором, врагом и могильщиком завоеваний русской революции.
А Временное правительство, вместо того, чтобы встретить врагов по-вражески, предпочитает совещаться с ген. Алексеевым, ещё и ещё переговаривает с Корниловым, ещё и ещё уговаривает заговорщиков, открыто предающих Россию.
А так называемая “революционная демократия” готовится к новому “особому совещанию по образцу московского, на котором были бы представлены все живые силы страны” (см. “Известия”).
Вместе с тем кадеты, вчера ещё кричавшие о “заговоре большевиков”, сегодня, подбитые раскрытием корниловского заговора, призывают к “благоразумию” и “соглашению” (см. “Речь”).
Очевидно, хотят “наладить” новое соглашение с теми самыми “живыми силами”, которые, крича о заговоре большевиков, сами организуют заговор против революции и русского народа.
Но они, эти соглашатели, сводят счёт без хозяина. Ибо настоящий хозяин страны, рабочие и солдаты, не хотят иметь никаких совещаний с врагами революции. Сведения из районов и полков в один голос говорят о том, что рабочие мобилизуют силы, солдаты стоят под ружьем. Очевидно, рабочие предпочитают говорить с врагами по-вражески.
Иначе и не может быть: с врагами бьются, а не совещаются.
Заговор продолжается,– готовьтесь к отпору!
“Рабочий” № 5, второй
экстренный выпуск,
28 августа 1917 г.
Передовая
ЗАГОВОР ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ
Бурцев писал недавно в газете “Общее Дело”, что “никакого корниловского заговора не было”,—“был только договор” между Корниловым и правительством Керенского об искоренении большевиков и Советов в целях установления военной диктатуры. В подтверждение своего взгляда Бурцев печатает в № 6 “Общего Дела” “объяснительную записку” Корнилова, состоящую из ряда документов, рисующих историю заговора. Ближайшая цель всего этого бурцевского предприятия – создать атмосферу, благоприятную для Корнилова, и сделать невозможным суд над ним.
Мы далеки от того, чтобы признать материалы Корнилова исчерпывающими. Корнилов, кроме того, что выгораживает себя от обвинений в измене, не упоминает, например, о некоторых лицах и организациях, замешанных в заговоре, и, прежде всего, о некоторых представителях посольств в Ставке, игравших, по показаниям свидетелей, далеко не второстепенную роль. Следует также заметить, что “объяснительная записка” Корнилова прошла под шпиковскую редакцию Бурцева, выкинувшего из “записки” некоторые, быть может, очень важные места. Тем не менее, “записка” всё же представляет большую ценность, как документ. И пока этому документу не противопоставлены равновесные свидетельские показания, мы будем считаться с ним, как с документом.
Мы считаем поэтому необходимым поговорить с читателем об этом документе.
Кто они?
Кто они, советчики и вдохновители Корнилова, кому он, прежде всего, доверял свои заговорщицкие думы?
“К участию в обсуждении вопроса,—говорит Корнилов,– о состоянии страны и мерах, необходимых для спасения от окончательного развала её и армии, я хотел привлечь М. Родзянко, князя Г. Львова и П. Милюкова, которым были посланы телеграммы с просьбой прибыть не позже 29 августа в Ставку”.
Таковы главные советчики по признанию самого же Корнилова.
Но это не всё. Кроме советчиков и вдохновителей были ещё главные сотрудники, на которых надеялся Корнилов, на которых он рассчитывал и вместе с которыми собирался он осуществить свой заговор.
Слушайте:
“Был набросан проект “совета народной обороны” с участием Верховного главнокомандующего, в качестве председателя, Керенского – министра-заместителя, Савинкова, генерала Алексеева, адмирала Колчака и Филоненко. Этот совет обороны должен был осуществить коллективную диктатуру, так как установление единоличной диктатуры было признано нежелательным. На посты других министров намечались гг. Тахтамышев, Третьяков, Покровский, Игнатьев, Аладьин, Плеханов, Львов и Завойко”.
Такова тёплая компания достопочтенных заговорщиков, вдохновлявшая Корнилова и вдохновлявшаяся им, секретничавшая с Корниловым за спиной народа и аплодировавшая ему на Московском совещании. Милюков, как глава партии народной свободы; Родзянко, как глава совета общественных деятелей; Третьяков, как глава промышленников; Керенский, как глава оборонцев из эсеров; Плеханов, как учитель оборонцев из меньшевиков ; Аладьин, как агент неизвестной фирмы в Лондоне,– вот они, надежда и упование корниловщины, душа и нервы контрреволюции.
Будем надеяться, что история их не забудет, а современники воздадут им должное.
Их цели
Их цели “просты и ясны”: “поднятие боеспособности армии” и “оздоровление тыла” для “спасения России”.
Для поднятия боеспособности армии “я указал”,– говорит Корнилов,– “на необходимость немедленного восстановления закона о смертной казни на театре военных действий”.
Для оздоровления же тыла “я указал”,—продолжает Корнилов,– “на необходимость распространения закона о смертной казни и военно-революционных судах на внутренние округа, исходя из мысли, что никакие меры по восстановлению боеспособности армии не дадут желаемого результата, пока армия будет получать из тыла укомплектования в виде банды распущенных, необученных, распропагандированных солдат”.
Но это не всё. По мнению Корнилова, “для достижения целей войны”... необходимо иметь три армии: “в окопах, в тылу —рабочую и железнодорожную”. Иначе говоря: “необходимо” распространить военную “дисциплину” со всеми её последствиями на заводы, работающие на оборону, и на железные дороги, т. е. “необходимо” их милитаризовать.
Итак, смертная казнь на фронте, смертная казнь в тылу, милитаризация заводов и железных дорог, превращение страны в “военный” лагерь и, как венец всего, военная диктатура под председательством Корнилова,– вот, оказывается, какие цели преследовала компания заговорщиков.
Цели эти изложены были в особом “докладе”, создавшем себе славу ещё до Московского совещания. Они встречаются в телеграммах и “записке” Корнилова, как “требования Корнилова”.
Были ли известны эти “требования” правительству Керенского?
– Несомненно, да.
Согласно ли было правительство Керенского с Корниловым?
– Очевидно, да.
“Подписав общий доклад о мерах по оздоровлению армии и тыла, уже подписанный гг. Савинковым и Филоненко,—говорит Корнилов,—доложил его частному совещанию Временного правительства в составе гг. Керенского, Некрасова и Терещенко. По рассмотрении доклада мне было заявлено, что правительство соглашается на все предложенные мной меры, вопрос же об их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий”.
То же самое говорит Савинков, заявляя 24 августа Корнилову, что “ваши требования будут удовлетворены Временным правительством в ближайшие дни”.
Были ли известны цели Корнилова партии народной свободы?
Несомненно, да.
Согласна ли была она с Корниловым?
– Очевидно, да. Ибо центральный орган партии народной свободы, газета “Речь”, открыто заявил, что он “вполне разделяет идеалы генерала Корнилова”.
Наша партия была права, утверждая, что партия народной свободы есть партия буржуазной диктатуры.
Наша партия была права, утверждая, что правительство Керенского есть ширма для прикрытия такой диктатуры.
Теперь, когда корниловцы оправились от первого удара, стоящие у власти заговорщики снова заговорили о “поднятии боеспособности армии” и “оздоровлении тыла”.
Рабочие и солдаты должны помнить, что “поднятие боеспособности армии” и “оздоровление тыла” означают смертную казнь в тылу и на фронте.
Их путь
Их путь так же “прост и ясен”, как цели. Это – искоренение большевизма, разгон Советов, выделение Петрограда в особое военное губернаторство, разоружение Кронштадта. Словом —разгром революции. Для этого понадобился третий конный корпус. Для этого понадобилась дикая дивизия.
Вот что говорит Савинков после обсуждения вместе с Корниловым вопроса об установлении границ Петроградского военного губернаторства, обращаясь к Корнилову:
– “Таким образом, Лавр Георгиевич, ваши требования будут удовлетворены Временным правительством в ближайшие дни; но при этом правительство опасается, что в Петрограде могут возникнуть серьёзные осложнения. Вам, конечно, известно, что, примерло, 28 или 29 августа в Петрограде ожидается серьёзное выступление большевиков. Опубликование ваших требований, проводимых через Временное правительство, конечно, послужит толчком для выступления большевиков. Хотя в нашем распоряжении и достаточно войск, но на них мы вполне рассчитывать не можем. Тем более, что ещё неизвестно, как к новому закону отнесётся С. Р. и С. Д. Последний также может оказаться против правительства, и тогда мы рассчитывать на наши войска не можем. Поэтому прошу вас отдать распоряжение о том, чтобы 3-й конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение Временного правительства. В случае, если, кроме большевиков, выступят и члены С. Р. и С. Д., то нам придется действовать и против них”.
При этом Савинков сказал, что действия должны быть самые решительные и беспощадные. На это генерал Корнилов ответил, что он “иных действий и не понимает. Раз будет выступление большевиков и С. Р. и С. Д., то таковое будет подавлено со всей энергией”.
Для прямого выполнения этих мер начальнику третьего конного корпуса и туземной дивизии, генералу Крымову, были даны Корниловым “две задачи”:
“1) В случае получения от меня (Корнилова) или непосредственно на месте известия о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части Петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать Советы.
2) По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен был выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и, по прибытии туда, потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк.
Согласие министра-председателя на разоружение крепости Кронштадта и вывод его гарнизона последовало 8 августа, я доклад об этом Морского генерального штаба с резолюцией министра-председателя был представлен начальнику штаба Верховного главнокомандующего при письме адмирала Максимова”.
Таков путь тёплой компании заговорщиков против революции и её завоеваний.
Правительство Керенского не только знало весь этот адский план, но само принимало участие в его выработке и вместе с Корниловым собиралось провести его в жизнь.
Савинков, тогда ещё управляющий военным министерством, открыто заявляет об этом, причём это его заявление, известное всем, никем ещё не опровергалось.
Вот оно:
“Я считаю долгом для восстановления исторической точности заявить, что я, по поручению министра-председателя, просил у вас (у Корнилова) конный корпус для обеспечения проведения в жизнь военного положения в Петрограде и для подавления всяких попыток возмущения против Временного правительства, откуда бы они ни шли...”
Кажется, ясно.
Знала ли о плане Корнилова партия кадетов?
– Несомненно, да.
Ибо центральный орган этой партии, газета “Речь”, накануне корниловского восстания усиленно распространял провокаторские слухи о “большевистском восстании”, расчищая тем самым дорогу корниловскому вторжению в Петроград и Кронштадт.
Ибо представитель партии кадетов, г. Маклаков, “самолично” участвовал, как это видно из “записки” Корнилова, во всех переговорах между Савинковым и Корниловым о планах вторжения в Петроград. Насколько нам известно, Маклаков не занимал тогда никакого официального поста при или во Временном правительстве,—в качестве кого же мог он участвовать в этих переговорах, как не в качестве представителя своей партии?
Таковы факты.
Наша партия была права, утверждая, что правительство Керенского есть правительство буржуазной контрреволюции, опирающееся на корниловщину и отличающееся от последней лишь некоторой “нерешительностью”.
Наша партия была права, утверждая, что идейные и политические нити контрреволюции сходятся в Центральном комитете партии кадетов.
Если контрреволюционный план питерских и могилёвских заговорщиков не удался, то в этом надо винить не Керенского и Корнилова, или Маклакова и Савинкова, а те самые Советы, “разогнать” которые собирались они, но устоять против которых оказались они не в силах.
Теперь, когда корниловцы оправились, прокравшись к власти при помощи соглашателей, вопрос о борьбе с Советами снова ставится на очередь. Рабочие и солдаты должны помнить, что если они не поддержат Советы в их борьбе против правительства корниловцев, они рискуют попасть под железную пяту военной диктатуры.
Диктатура империалистической буржуазии
Что такое “коллективная диктатура”, установить которую сговорились заговорщики против революции, Корнилов и Милюков, Аладьин и Филоненко, Керенский и кн. Львов, Родзянко и Савинков? В какие политические формы хотели они облечь эту диктатуру?
Какие политические учреждения считали они необходимыми для того, чтобы поставить и наладить “коллективную диктатуру”?
Предоставим слово документам.
“Ген. Корнилов спросил Филоненко, не считает ли он, что единственным выходом из создавшегося тяжёлого положения может быть только провозглашение военной диктатуры.
Филоненко ответил, что, мысля о диктаторе реально, при теперешней обстановке может себе представить его лишь в лице ген. Корнилова. Против единоличной диктатуры Филоненко выдвинул такое возражение: сам ген. Корнилов не обладает достаточным знанием политической обстановки и потому при его диктатуре воцарилось бы то, что принято называть камарильей. Демократические и республиканские круги должны будут пойти против этого и, следовательно, против единоличной диктатуры.
Ген. Корнилов. Что же делать, когда правительство не принимает никаких мер?
Филоненко. Выход может быть найден в образовании директории. Из состава правительства необходимо выделить малый военный кабинет, в который должны войти люди исключительной силы воли, при непременном участии в этом кабинете, который может быть назван “советом народной обороны” или как-либо иначе – дело не в названии,– Керенского, ген. Корнилова и Савинкова, Этот малый кабинет должен поставить своей первейшей задачей оборону страны. В таком виде проект директории должен быть принят правительством.
Корнилов. Вы правы. Необходима директория и как можно скорее...” (“Новое Время”).
И дальше:
“Был набросан проект “совета народной обороны”, с участием Верховного главнокомандующего, в качестве председателя, А. Ф. Керенского – министра-заместителя, г. Савинкова, ген. Алексеева, адмирала Колчака и г. Филоненко.
Этот совет обороны должен был осуществить коллективную диктатуру, так как установление единоличной диктатуры было признано нежелательным” (“Общее Дело”).
Итак, директория —вот та политическая форма, в которую должна была облечься “коллективная диктатура” Корнилова —Керенского.
Теперь ясно для всякого, что, создавая директорию после неудавшегося корниловского “мятежа”, Керенский проводил иными средствами ту асе самую корниловскую диктатуру.
Теперь ясно для всякого, что, высказываясь на известном ночном заседании за директорию Керенского, престарелый ЦИК голосовал за контрреволюционный план генерала Корнилова.
Теперь ясно для всякого, что, защищая с пеной у рта директорию Керенского, мудрецы из “Дела Народа”, сами того не замечая, предавали революцию, на радость явным и скрытым корниловцам.
Наша партия была права, утверждая, что директория есть замаскированная форма диктатуры контрреволюции.
Но на одной директории “далеко не уедешь”. Мастера контрреволюции не могли не понимать, что “править” страной, вкусившей плоды демократизма, при помощи одной лишь директории, без какого-нибудь “демократического” прикрытия —нельзя. “Коллективная диктатура” в форме директории —да! Но зачем её оголять? Не лучше ли прикрыть её каким-нибудь “предпарламентом”? Пусть живёт и болтает “демократический предпарламент”,—лишь бы государственный аппарат находился в руках директории! Известно, что стряпчий Корнилова, г. Завойко, агент неизвестной фирмы в Лондоне, г. Аладьин и друг Милюкова “сам” Корнилов – первые выдвинули проект “предпарламента”, как опоры и ширмы директории, “ответственной” (не шутите!) перед этим “предпарламентом”.