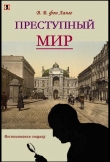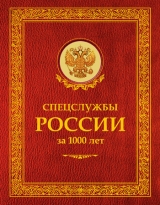
Текст книги "Спецслужбы России за 1000 лет"
Автор книги: Иосиф Линдер
Соавторы: Сергей Чуркин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
М. Н. Покровский писал «Тайный приказ с самого начала, при первых Романовых, был наделен огромными полномочиями. Даже члены Боярской думы, т. е. Государственного совета, употребляя позднейшее выражение, в этот приказ не входили и дел там не ведали. Он был, значит, вне контроля этого Московского государственного совета. Он был подчинен непосредственно самому царю, и чиновники его на деле имели больше власти, чем члены Боярской думы» [106]106
Покровский М. Н.Избранные произведения. – М, 1967. – Кн. 3. – С. 76.
[Закрыть]. Например, с февраля 1665 г. царь приказал Разрядному приказу ежедневно направлять в приказ Тайных дел сведения о положении дел в полках.
Приказом Тайных дел в разное время руководили Ф. М. Ртищев и четыре дьяка незнатного происхождения: Томила Перфильев, Дементий Башмаков, Федор Михайлов и Данила Полянский. Все они состояли «в государевом имени» – имели право принимать самостоятельные решения и подписывать царские указы за государя. Трое из дьяков – Башмаков, Михайлов, Полянский – носили титул тайного дьяка. При их отсутствии в Москве к работе в приказе Тайных дел привлекались особо доверенные дьяки из других приказов, например Е. Юрьев и А. Иванов.
Подьячие приказа Тайных дел нередко имели указание выдавать себя за сотрудников других приказов. Это способствовало поддержанию принципов конспиративности при выполнении государевых дел. Так, в декабре 1665 г. для встречи патриархов были посланы на Терек подьячие И. Ветошкин и Е. Полянский Им было указано: «ехати им с Москвы на Саратов, на Царицын, на Черной Яр, на Астрахань и на Терек, а едучи дорогою, проведывати всякими людьми тайно про Паисея папу, и патриарха Александрейского, и про Макария, патриарха Антиохийского, где они ныне и которыми месты к Москве едут, а дорогою едучи, сказыватца им дворцовыми подьячими, что посланы они из дворца для садового заводу, чтоб было не прилично» [107]107
Цит. по: История спецслужб России / Сост. С. Шумов и А. Андреев. – М, 2004. – С. 47.
[Закрыть].
Каждый из дьяков и подьячих Тайного приказа ведал только теми делами, которые были лично ему поручены государем, полагалось также докладывать царю о деятельности сотоварищей из других приказов. К исполнению некоторых поручений по линии Тайного приказа привлекались стольники из числа состоящих при государе (например, Иван Дашков и Алексей Салтыков), стрелецкие командиры головы и полуголовы (например, Артамон Матвеев, о котором речь пойдет далее) и отдельные (особо доверенные) стрельцы государева Стремянного стрелецкого полка.
Таким образом, существовало четкое разделение направлений деятельности руководителей приказов. Функцию высшего контролера исполнял сам государь. Здесь четко и прагматично вырисовывается старый как мир принцип – «разделяй и властвуй». Доверяя важнейшие секреты государства особо приближенным лицам, он старался обезопасить себя от малейшей возможности измены. Подобные меры позволяли избежать заговора особо доверенных лиц или ликвидировать измену в зародыше. В крайнем случае, как при бегстве подьячего Посольского приказа Г. К. Котошихина, минимизировать ущерб, связанный с разглашением секретной информации.
Первые подьячие в Тайный приказ набирались из других приказов: Большого дворца, Стрелецкого, Разрядного и Посольского. Количество служащих постоянно увеличивалось. Вначале было 6 человек, в 1659 г. – 9, в 1669 г. – 12, в 1673 г. – 15. Отбор кандидатов скрытно производился из наиболее проверенных, способных и грамотных людей Будучи призванными к несению новой службы, они на время удалялись от мирской жизни и проходили обучение в закрытой школе, созданной при Заиконоспасском монастыре в 1665 г. Из подьячих известны: Иван Бовыкин, Иов Ветошкин, Артемий Волков, Федор Казанец, Петр Кудрявцев, Юрий Никифоров, Порфирий Оловенников, Еремей Полянский, Иван Полянский, Алексей Симонов, Артемий Степанов, Федор Шакловитый.
Заложенная Филаретом методика обучения кадров в монастырях получила достойное развитие. Прямым подтверждением этому алы считаем и факт хранения в приказе Тайных дел картографических материалов некоторых монастырей (Воскресенского Иерусалимского, Иверского, Валдайского и Крестного Онежского), и произведение любых строительных работ в них только с разрешения царя [108]108
РГАДА. Ф.27.
[Закрыть].
Карьере сотрудников приказа способствовало усердие при выполнении особых заданий государя: подьячие назначались дьяками в другие приказы, а дьяки становились думными дьяками, но при этом они оставались доверенными лицами царствующей особы. Таким образом расширялась внутренняя агентурная сеть в различных социальных слоях общества. Некоторые из этих людей успешно продолжили службу при преемниках Алексея Михайловича.
Во второй половине XVII в. наиболее близким Алексею Михайловичу становится А. С. Матвеев [109]109
Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) – русский государственный деятель, дипломат. Сын дьяка, воспитывался вместе с царевичем Алексеем. Стряпчий с 1642 г., стрелецкий голова с 1643 г., голова московских стрельцов с 1653 г., участник войн с Польшей. В 1654 г. входил в состав русской делегации на Переяславской раде, глава Стрелецкого (с 1662 г.), Малороссийского и Польского (с 1669 г.), Посольского (с 1671 г.), Новгородского и Аптекарского приказов; Владимирской и Галицкой четей. Участник подавления Московского бунта 1662 г. Стольник с 1669 г., окольничий с 1672 г., ближний боярин с 1674 г. После смерти царя Алексея Михайловича в опале. С избранием на царство Петра I возвращен в Москву; убит в ходе Стрелецкого бунта 1682 г.
[Закрыть], многократно выполнявший личные (в том числе и по линии Тайного приказа) царские поручения. В частности, он проявил немалую активность при подавлении «народного» восстании 1670–1671 гг. под руководством Степана Разина. После поимки Разина А. С. Матвеев писал царю: «А в том деле работишка моя, холопа твоего, была» [110]110
Цит. по: Очерки истории российской внешней разведки. – Т. 1. – С. 62.
[Закрыть].
Слово «народное» взято в кавычки не случайно. В советской историографии трактовка этого выступления была однозначной: вооруженное восстание народа против царя и бояр-угнетателей. Однако в настоящее время имеется несколько версий этого события. Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко считают Разина представителем ордынской династии, отстаивавшим свои права на престол. Они отмечают, что победа правительственных войск была одержана благодаря превосходству в вооружении. От себя добавим – и благодаря работе А. С. Матвеева и других «слуг государевых». Таким образом, речь может идти о борьбе за московский трон «старой» и «новой» группировок.
Н. М. Михайлова полагает, что разинское выступление – первое в череде «раскольнических бунтов», потрясавших Россию на протяжении почти ста лет – с 1668 по 1774 г. Напомним читателю, что незадолго до восстания патриах Никон [111]111
Никон, светское имя – Никита Минов (1605–1681), – церковно-политический деятель России XVII в., патриарх в 1652–1667 гг. Сын крестьянина, сельский священник, в 1635 г. принял постриг в Соловецком монастыре. С 1643 г. игумен Кожеозерского монастыря. В 1646 г. поставлен архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. С 1648 г. митрополит в Новгороде, участвовал в подавлении Новгородского восстания 1650 г. В 1652 г. возведен в сан патриарха. Весной 1653 г. начал проведение церковных реформ, направленных на укрепление связей России с южнославянскими православными странами, находившимися под турецким игом; не менее важной была и предложенная им унификация культа. Реформы Никона привели к расколу Церкви на «староверов» и сторонников нововведений. Первоначально царь поддерживал Никона, но впоследствии, после выдвижения тезиса «священство выше царства», между ними возникли разногласия. Окончательный разрыв произошел в 1658 г., когда Никон, оставив патриаршество, уехал в основанный им в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Расчеты Никона строились на том, что царь вернет его, но этого не произошло. Более того, когда он 1664 г. самовольно приехал в Москву и попытался вернуть патриаршее место, его выслали обратно. Церковный собор 1666–1667 гг., хотя и признал реформы целесообразными, снял с Никона сан патриарха. Опальный был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь. В 1681 г. царь Федор Алексеевич позволил Никону вернуться в Новоиерусалимский монастырь, но по дороге 76-летний старец скончался.
[Закрыть]провел реформацию Церкви. В числе прочего Разин обещал вернуть «старую веру», но при этом совершались убийства священнослужителей, надругательство над церковными святынями и ограбления храмов. После смерти Алексея Михайловича силовая «раскольническая» деятельность не прекратилась, о чем будет рассказано в следующей главе.
Отметим идеологический момент, связанный с оценкой любого вооруженного выступления. Удачное объявляется революцией; его организаторы, взявшие власть, проводят комплексные пропагандистские мероприятия, призванные поднять их реноме в глазах иностранных государств и всех слоев населения. Подавленное называется бунтом, мятежом; пропагандистские мероприятия проводят люди, власть сохранившие. В любой стране и в любое время народ, от имени которого выступают и мятежники (или революционеры – все зависит от точки зрения), и представители правящего режима, является объектом политического воздействия со стороны различных сил. Специальная пропаганда, активные мероприятия, черный пиар – эти термины хорошо знакомы читателям.
Никогда нельзя исключить, что вооруженное выступление, имеющее признаки внутреннего противоборства, инспирировано другой страной, преследующей собственные внешнеполитические цели. В этом плане главе государства (царю, президенту) следует проявлять крайнюю осторожность. Его секретные службы должны постоянно «держать руку на пульсе», чтобы выявить угрозу иностранного вмешательства на ранней стадии. Это позволяет выстроить систему противодействия внешней угрозе с минимальными экономическими затратами и «бить врага его же оружием», лучше всего – малой кровью и на чужой территории. На наш взгляд, Алексей Михайлович и его службы хорошо понимали реальность иностранной угрозы, стараясь работать профессионально.
В первые годы правления Тишайшего общее руководство царской охраной осуществлял боярин – руководитель приказа Большого дворца, с 1663 г. дьяк приказа Тайных дел. За безопасность царской семьи отвечало несколько охранных подразделений с различными функциями и подчиненностью. В сочинении Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», написанном для государственного канцлера Швеции (!), есть любопытные сведения не только о российском государственном устройстве, но и об охране царской семьи. В приведенных далее выдержках стиль и орфография оригинала сохранены.
В. И. Савельев организацию охраны царя Алексея Михайловича в Московском Кремле описывает так: «При особе государя в качестве телохранителей постоянно находилось двести человек – выходцев из дворянских семей. Ночью подле царской спальни дежурил главный спальничий с одним или двумя приближенными царедворцами. В соседней комнате находились шесть телохранителей, а в следующей располагались еще сорок человек» [112]112
Там же. – С. 59.
[Закрыть].
Во времена первых Романовых спальники были одними из наиболее приближенных к царю людей. В сочинении Котошихина о них говорится так: «Спалники – которые спят у царя в комнате, посуточно, по переменам, человека по четыре. И многие из них женатые люди, и бывают в том чину многие годы, и с царя одеяние принимают и розувают. А бывают в тех спалниках изо всех боярских и околничих, и думных людей дети, которым царь укажет, а иные в такой чин добиваются и не могут до того притти. И быв в спалниках, бывают пожалованы болших бояр дети в бояре, а иных менших родов дети в околничие, кого чем царь пожалует, по своему разсмотрению. И называют их комнатной боярин или околничей, а в посолственных писмах пишут ближними бояры и околничими, потому что от близости пожалованы» [113]113
Котошихин Г. К.О России в царствование Алексея Михайловича. – М., 2000. – С. 45.
[Закрыть].
Как мы видим, спальники («спалники» у Котошихина) – дежурившие посменно сотрудники дворцовой охраны. Во главе каждой смены находился постельничий: «И того постелничего чин таков: ведает его царскую постелю, и спит с ним в одном покою вместе, когда с царицею не опочивает. Так же у того постелничего для скорых и тайных его царских дел печать» [114]114
Там же. – С. 50.
[Закрыть]. При царе Алексее Михайловиче постельничим был Ф. М. Ртищев.
Вернемся к описанию Савельева: «Кроме того, у каждых ворот и дверей дворца стояли отборные молодцы. К постоянной дворцовой страже принадлежали также две тысячи стремянных стрельцов, которые поочередно стояли день и ночь с заряженными пищалями и зажженными фитилями – по двести пятьдесят у дворца, на самом дворе и у казначейства» [115]115
Цит. по: Очерки истории российской внешней разведки. – Т. 1. – С. 59.
[Закрыть]. Напомним, что в те времена в Москве было свыше 20 стрелецких полков, в том числе «выборный» (отборный) Стремянный полк, личный состав которого насчитывал, как мы уже говорили, 1000 человек.
Котошихин утверждал, что в охране Кремля участвовали все московские стрелецкие полки: «А на вахту ходят те приказы посуточно; и на царском дворе и около казны з головою стрелцов на стороже бывает по 500 человек, а досталные по городом, у ворот по 20 и по 30 человек, а в ыных местех и по 5 человек; а чего в котором приказе на вахту не достанет и в дополнок берут из иных приказов. А в празничные дни которой приказ стоит на вахте, и им с царского двора идет в те дни корм и питье доволное» [116]116
Котошихин Г. К.Указ. соч. – С. 113.
[Закрыть].
Вероятно, охрана (соответствует караулу нынешнего Президентского полка) осуществлялась комплексно. На наиболее ответственные посты могли заступать стрельцы из Стремянного полка, охрану менее значимых объектов – за периметром Кремля и на городских заставах – могли нести стрельцы других полков. Возможен и вариант, при котором в карауле одновременно могли находиться стрельцы Стремянного и других полков.
Внутри Кремля особое внимание уделялось охране царского двора и дворцовых помещений, которые были закрытыми (литерными) зонами. Пройти во двор с оружием могли только стрельцы-караульщики. Категорически запрещалось появляться на царском дворе верхом или в карете, а также проводить через двор лошадей или экипажи. Посетители, приходившие во дворец по вызову, ожидали приема вне литерной зоны. Это ограничение распространялось на все социальные группы, в том числе на бояр и иностранцев. Те же правила распространялись и на другие резиденции царя, включая походную ставку. Любое лицо, задержанное с оружием в пределах режимной зоны, немедленно подвергалось допросу «с пристрастием» для выяснения цели появления. Если человек нес оружие «не с умыслом злым», а «с простоты», он в лучшем случае отделывался ссылкой в Сибирь или на Терек «на вечное житье». В противном случае смертной казни подвергалась вся семья «татя», покусившегося на жизнь государя.
Стрельцы, несшие караул на царском дворе, сопровождали царскую семью и при выездах из Кремля, при этом охранники шли с двух сторон от кареты, раздвигая толпу и обеспечивая беспрепятственное продвижение по улицам «без мушкетов, с прутьем».
Кроме стрельцов государя сопровождали стряпчие, которых можно считать выездной охраной. И снова слово Котошихину: «Стряпчие. Чин их таков: как царю бывает выход в церковь, или в поход на потехи, или в полату, в думу и для обедов, и в то время несут перед ним скифетр, а в церкве держат шапку и платок, а в походех возят панцырь, саблю, саадак. И посылают их во всякие ж посылки, кроме воеводств и посолств, чтоб сами были послы. А будет тех стряпчих с восмь сот человек. А на Москве они, стряпчие и столники, живут для цapских услуг по полугоду, пополам. А другая половина, кто хочет, отъезжают в деревни свои, до сроку» [117]117
Там же. – С. 46–47.
[Закрыть].
Во время торжественных выездов и официальных приемов около царя находились телохранители-рынды, вооруженные секирами. Рынды – это прообраз почетного гвардейского караула, выполняющего протокольные функции; в случае необходимости статные молодцы, одетые в парадную форму, могли оказать супостату достойный отпор. Как и положено почетному караулу, они подчеркивали статус царской особы и… отвлекали внимание потенциальных злоумышленников от негласной охраны государя.
При выездах царя на богомолье или в загородные резиденции охрана усиливалась: «Да с царем же бывают в походех стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, жильцы и иных чинов люди, которым велено бывает; да Стремянной приказ, 1000 человек стрелцов на царских лошадях» [118]118
Там же. – С. 53.
[Закрыть]. Перед царским кортежем следовал постельный возок, при котором ехали постельничий и стряпчий, а с ними 300 жильцов по три в ряд. В составе конвоя находились до 3000 конных стрельцов, 5000 рейтар и 12 стрелков с «долгими пищалями». Это был отборный отряд, готовый по первому сигналу пустить в ход свое оружие.
«Долгие пищали» 12 стрелков позволяли вести снайперский огонь «пороховым зельем» на дистанции, представлявшейся большинству людей почти колдовской. Их ружья имели линейные нарезы с винтовой составляющей, позволявшие пуле приобретать дополнительную устойчивость; опытные оружейные мастера умудрялись с ювелирной точностью делать такие.
В карете государя находились четверо ближних бояр, перед ней ехал боярин, справа от нее – окольничий. В «избушке» царевича сидели его дядька и окольничий – все под охраной стрельцов. Возки царицы и царевен также охранялись стрельцами. Женщин сопровождали верховые боярыни, а в ближнем окружении венценосных дам были собственные постельницы. Скорее всего, некоторые из них выполняли охранные функции, которые нельзя было поручить мужчинам.
В военных походах охрана государя еще более усиливалась, кадровый отбор контролировался царем: «И будет на которой войне случится быти самому царю, и в то время, смотря царь всех воинских людей, обирает себе полк изо всяких чинов людей и ис полков» [119]119
Там же. – С. 154.
[Закрыть]. Из состава этих полков производился отбор 1000 «добрых людей», которым полагалось находиться при царской особе «и для оберегания знамени его царского» [120]120
Там же. – С. 155.
[Закрыть]постоянно. Это подразделение комплектовалось из стольников, стряпчих, дворян и жильцов. Таким образом, в военных походах царя сопровождали три независимых друг от друга полка – стрелецкий Стремянный и два «выборных», сформированных из приближенных к царю служилых людей.
Среди таких приближенных в сочинении Котошихина многократно упоминаются дети боярские, дворяне, жильцы и стольники. Дворяне и дети боярские несли основную тяжесть военной службы в стрелецких, солдатских и рейтарских полках – это был основной кадровый и резервный состав русского войска. Некоторые «дворяне московские» несли службу в приказах и использовались для «сыскных дел». Очевидно, у вас возник вопрос: а кто же такие жильцы? Жильцами называли детей дворян, дьяков и подьячих, живших и начинавших службу при царском дворе «для походу и для всякого дела». Общее число жильцов приближалось к 2000 человек, из них на царском дворе постоянно находились около пятидесяти. Жильцы выслуживались в стряпчие, стольники и т. п. или продолжали карьеру на военной службе.
Стольниками, это слово вам уже не раз встречалось в тексте, назывались дети бояр, окольничих и московских дворян, обслуживавшие государя и его приближенных за трапезой, в том числе на торжественных приемах. Кроме прислуживания за столом, работа стольников заключалась в негласной охране во время трапезы и в контроле за подаваемыми на царский стол блюдами и напитками: «И будет тех столников числом блиско пяти сот человек. И посылают их в посолства в послех самих и с послами в товарыщах, и по воеводствам, и для сыскных дел, и бояр спрашивать о здоровье, как они бывают по службам. А иные на Москве сидят в приказех у дел и у послов в приставех» [121]121
Там же. – С. 46.
[Закрыть].
Большое значение уделялось сохранению секретности: «А как царю лучится о чем мыслити тайно, и в той думе бывают те бояре и околничие ближние, которые пожалованы из спалников или которым приказано бывает приходити. А иные бояре, и околничие, и думные люди в тое полату в думу и ни для каких ни буди дел не ходят, разве царь укажет» [122]122
Там же.
[Закрыть].
Таким образом, во второй половине XVII в. в охране первого лица Российского государства существовали разные по подчиненности подразделения, каждое из которых обеспечивало безопасность в своей зоне ответственности. Из фактов, приведенных в сочинении Котошихина и в других источниках, можно сделать вывод, что в царствование Алексея Михайловича сложилась многоуровневая комплексная система охраны. При такой системе все службы, в той или иной мере участвовавшие в решении общей задачи, должны были осуществлять оперативное взаимодействие и иметь разветвленную сеть сбора и анализа информации, позволяющей действовать по принципу наступательности (опережающей контратаки). По нашему мнению, система охраны того времени является прообразом закрытой системы охраны первых лиц государства, получившей наивысшее развитие во второй половине XX в.
Еще одной оперативно-охранной службой, созданной в годы правления Алексея Михайловича, следует считать службу охраны дипломатического корпуса при дворе русского царя. Обеспечение безопасности иностранных представителей находилось в совместном ведении Посольского и Стрелецкого приказов. Параллельно осуществлялись контрразведывательные мероприятия, в том числе наружное наблюдение за перемещениями дипломатов и их местами проживания. Режим для иностранцев был установлен настолько жесткий, что несанкционированные встречи с москвичами либо с представителями других государств, проживающими в Москве, практически исключались. Инструкции тех лет гласили: «Беречи накрепко, чтоб к послом и к их посольским людем подозрительные иноземцы и русские люди никто не приходили и ни о чем с ними не розговаривали, и вестей никаких им не рассказывали, и письма никакого к ним не подносили» [123]123
Цит. по: Лубянка, 2. – С. 97.
[Закрыть]. Наружное наблюдение осуществлялось не только «караульщиками» и «приставниками», которые вели его открыто, охраняя и сопровождая дипломатов, но и тайными постами наблюдения, окружавшими посольское подворье и неотступно следившими за перемещениями представителей иностранных миссий.
При появлении у посольских подозрительных людей их следовало, «поотпустив от посольского двора», негласно задержать и под охраной доставить в Посольский приказ. Горе было ослушнику, без дозволения дерзнувшему вступить в преступную связь с иноземцами и еретиками, государево «слово и дело» могло настигнуть его в любой момент, в любом месте державы и даже за ее пределами.
В 1652 г. для иностранцев, проживающих в Москве, была выстроена слобода Кукуй (по названию ручья, впадающего в Яузу). Жители слободы подчинялись общерусским законам, хотя и пользовались некоторыми свободами (в частности, свободой вероисповедания). Однако носить русское платье им категорически воспрещалось, воспрещалось также посещать Сибирь и Поволжье. Любой выезд дозволялся только с письменного или именного разрешения вельможных персон или самого государя. За иностранцами явно и тайно наблюдали специально приставленные люди из различных приказов, каждый из которых немедленно доносил как о действиях «иноземных гостей», так и о поведении своих соотечественников. Не стоит забывать, что к тому времени достаточное число иностранцев, заинтересованных в финансовом и карьерном продвижении, длительное время находились на русской службе, что было залогом двойного контроля за ними.
Меры, предпринимаемые русскими, значительно затрудняли деятельность резидентов иностранных разведок, действовавших под дипломатическим прикрытием. Информация, получаемая от «нужных людей», позволяла более адекватно строить работу как в области внешней и оборонной политики, так и в области охраны российских должностных лиц. Если кто-то из иностранцев «случайно» заезжал не в то место, то с ним доверенные царя поступали «нечестно»: исчезнуть на неспокойных русских дорогах, или погибнуть от рук «лихих людишек», или заболеть неизвестной хворью в те времена ничего не стоило. Вольно или невольно посвященных в государственные секреты уже никогда не отпускали на родину: арсенал специальных методов воздействия на различные категории лиц был обширен.
Разрядный приказ координировал разведывательную и контрразведывательную работу в порубежных районах России – это некий прообраз армейской службы безопасности. Ответственными лицами на местах являлись воеводы приграничных районов и городов, в «штате» которых с начала XVII в. состояли лазутчики – «вестовщики». Не менее важным источником информации были русские купцы, торговавшие в других странах, вернувшиеся из плена подданные царя и выходцы из соседних государств. Полученные сведения передавались в Москву по подчиненности, особое внимание уделялось информации о приметах возможных лазутчиков и о времени их появления в столице.
За выявленными лазутчиками и внушавшими подозрение лицами устанавливалось негласное наружное наблюдение. Задерживать лазутчиков следовало, не привлекая внимания посторонних: «Около того Исайкова двора тихо ходя надзирать, не объявятся ли у него также прибылые рубежные люди, и чтоб тайным обычаем поймать, не розсловя во многие…» [124]124
Там же.
[Закрыть].
Надзор за иностранными офицерами, служившими в русском войске, осуществляли сотрудники Иноземного и Рейтарского приказов. Лояльность наемников по отношению к государю и управляемому им государству постоянно проверялась. Контакты офицеров с представителями посольского корпуса не поощрялись: им внушали, что подобные встречи могут вызвать подозрение при дворе. Обязательной проверке подвергались как методика обучения иностранцами своих подчиненных, так и предлагаемые ими тактические приемы, благо, иностранные офицеры представляли не только различные страны, но и различные военные школы.
Внешняя разведка при Алексее Михайловиче осуществлялась в основном по линии Посольского приказа. Легальными резидентами (по современной терминологии) являлись русские послы, которые опирались на ряд подьячих посольства и завербованных ими иностранных подданных. Основными направлениями работы дипломатической разведки была оценка внутриполитической ситуации, военной мощи и намерений Османской империи, Речи Посполитой, Швеции. В ряде случаев в состав русских посольств включались подьячие приказа Тайных дел или особо доверенные лица из ближайшего окружения государя. Однако посольства носили временный характер, фактически они являлись дипломатическими миссиями, направляемыми государем с конкретными поручениями.
Таким образом, в спецслужбах Алексея Михайловича развивались посольская, военная, пограничная разведки и военная контрразведка. Любой «слуга государев» в случае необходимости мог стать (и по первому слову становился) секретным сотрудником, тайным порученцем, а то и резидентом – в зависимости от пожеланий патрона, своих возможностей и обстоятельств. Принцип тотальности, использовавшийся при дворе, позволял царю эффективно проводить в жизнь свою «тихую» политику.
Расследование государственных (политических) преступлений по сообщениям с мест (доносам) обычно начиналось с формулы «Слово и дело государево» (впервые упоминается в 1622 г.). Произнесший эту фразу имел право требовать, чтобы его доставили к местному воеводе или даже к самому царю для сообщения важных и секретных сведений, касавшихся царствующей особы и государства в целом. При этом он знал, что его могут подвергнуть задержанию и провести тщательное следствие, включая применение пытки. Информация с мест немедленно докладывалась в Москву в соответствующий приказ. В случае неумелого допроса или смерти человека, выкрикнувшего «слово и дело», прежде чем государь или лицо «в имени государевом» примет решение о ценности информации, ответственный воевода, боярин или иной «служивый» могли понести тяжкую кару, вплоть до казни всей семьи виновного. Вообще, отношение к произнесшему «слово и дело» было подозрительно-осторожным: с первого взгляда было трудно разгадать, «царев» ли это «ближний доверенный» или «человек лихой в кознях». Поэтому чиновники различного уровня предпочитали все же оказывать повышенное внимание таким лицам, чтобы самим не попасть «в опалы великие», а если «кликнувшийся» оказывался «вор и разбойник», то и отыграться на нем можно было без опаски.
Наиболее полно законодательные и судебные меры защиты жизни и здоровья государя излагаются в Соборном уложении 1649 г., скрепленном подписями 315 выборных представителей от всех социальных слоев. Всего в Уложении было 25 глав, вмещавших 967 статей, посвященных различным вопросам государственного и уголовного права. В частности, в главах 2 и 3 дается понятие о государственном преступлении, под которым в первую очередь подразумевались действия, направленные против личности государя и царской власти. Принятие и скрепление подписями важнейшего государственного документа выборными людьми – своеобразным парламентом той поры – обеспечивало Уложению легитимность, «чтобы те все великие дела, по нынешнему его государеву указу и Соборному уложенью, впредь были ни чем нерушимы» [125]125
Цит. по: Тихомиров М. Н., Епифанов П. П.Соборное уложение 1649 года. – М., 1961. – С. 68.
[Закрыть]. Выдержки из Уложения вы найдете ниже.
По нашему мнению, созданная при Алексее Михайловиче система личной безопасности царствующей особы была одной из лучших в мире по меркам того времени. Всякое действие против или во благо государя закреплялось законодательно не просто царским указом: оно утверждалось высшими лицами государства и выборными от всех сословий.
Такая система всеобщего одобрения сравнима с общегосударственным референдумом, результаты которого обязательны для всех. Укрепление законодательной базы, введение в действие положений о социальной и материальной ответственности каждого участника событий, меры по предупреждению «умышлений» на государя гарантировали высокий уровень безопасности российского самодержца, поддерживали его честь и достоинство.
Нашим современникам, особенно действующим в области правоохранительной деятельности, корпоративной охраны и безопасности, не следует забывать об этом. Участь иванов, не помнящих родства, обычно бывает плачевной, плохо отражается на их карьере и карьере их детей.
Выдержки из СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г.
Глава 2
О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать
1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он на царское величество злое дело мыслил и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию.
2. Также будет кто при державе царьского величества хотя Московским государьством завладеть и государем быть и для того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова изменника по тому же казнити смертию.
3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царьского величества в городы примет из ыных государьств зарубежных людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити смертию же.
4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет или дворы, и в то время или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия.
5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по тому же казнити смертию.
7. А будет которая жена про измену мужа своего или дети про измену же отца своего не ведали и сыщется про то допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и из поместей им, что государь пожалует.
8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати.
9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе и животы и вотчины у них были вопче, и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, и вотчины, и поместья их, и животы взяти на государя.
10. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и поместья, и вотчины, и животов у них не отымати.
11. А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в Московское государьство и государь пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать.
12. А будет кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит и ни чим не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить по разсмотрению, как государь укажет.
13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое наказание, бив кнутом нещадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким изветчикам не верить.
14. А которые всяких чинов люди учнут за собою сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою государево дело или слово, избывая от кого побои или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек.
15. А будет кто изменника, догнав на дороге, убьет, или, поимав, приведет к государю, и того изменника казнить смертью, а тому, кто его приведет или убьет, дати государево жалованье из его животов, что государь укажет.
16. А кто на кого учнет извещати государево великое дело или измену, а того, на кого он то дело извещает, в то время в лицах не будет, и того, на кого тот извет будет, сыскати и поставить с ызветчиком с очей на очи, и против извету про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писано выше сего.
17. А будет кто на кого доводил государево великое дело или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил.
18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или услышат на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, и им про то извещати государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем.
19. А будет кто сведав, или услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады.
20. Также самовольством, скопом и заговором к царьскому величеству, и на его государевых бояр, и околничих, и на думных, и на ближних людей, и в городех, и в полкех на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходити, и никого не грабити, и не побивати.
21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр, и околничих, и думных, и ближних людей, и в городех, и в полкех на воевод, и на приказных людей или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого грабити или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнити смертию безо всякия пощады.
22. А будет ис которого города или ис полков воеводы и приказные люди отпишут к государю на кого на служилых или иных чинов на каких людей, что они приходили к ним скопом и заговором и хотели их убити, а те люди, на кого они отпишут, учнут бити челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они скопом и заговором к ним не прихаживали, а приходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому челобитью про них в городех сыскивати всем городом, а в полкех всеми ратными людьми. Да будет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к воеводам приходили для челобитья, а не для воровства, и их по сыску смертью не казнити. А воеводам и приказным людем, которые на них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое наказание, что государь укажет.
Глава 3
О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова бесчиньства и брани не было
1. Будет кто при царьском величестве, в его государеве дворе и в его государьских полатах, не опасаючи чести царьского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бити челом о управе, и сыщется про то допряма, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадити в тюрму на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно было впередь так делати. А кого он обесчестит, и тому указати на нем бесчестье.
2. А будет кто в государеве дворе кого задерет, из дерзости ударит рукою, и такова тут же изымати, и неотпускаючи его про тот его бой сыскати, и, сыскав допряма за честь государева двора, посадити его в тюрму на месец. А кого он ударит, и тому на нем доправити бесчестье. А будет кого он ударит до крови, и на нем тому, кого он окрававит, бесчестье доправити вдвое, да его же за честь государева двора посадити в тюрму на шесть недель.
3. А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю или иное какое оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры он кого досмерти убьет, и того убойца за то убойство самого казнити смертию же. А хотя будет тот, кого тот убойца ранит, и не умрет, и того убойца по тому же казнити смертию, да из животов его взяти убитого кабалныя долги.
4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди оружье, а не ранит и не убиет, и того казнити, отсечь руку.
5. А будет кто в государеве дворе и не при государе на кого оружие вымет, а не ранит, и того посадити на три месяцы в тюрму. А будет ранит, и на нем раненому доправити бесчестие и увечье против окладу вдвое, да его же дати на поруки в том, что ему без указу ис того города, где он кого ранит, не съежжати до тех мест, покаместа раненой обможется или умрет. А будет раненой обможется, и тому, кто его ранит, отсечь руку. А будет тот раненой от раны умрет, и того, кто его ранит, казнити смертию.
6. Такоже царьского величества во дворе на Москве или где изволит царьское величество во объезде быти, и ис пищалей, и из луков, и из ыного ни ис какова оружья никому без государева указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве дворе не ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве или в объезде кого ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же.
7. А будет кто на государеве дворе, на Москве и в объезде, учнет ходити с пищальми и с луками, хотя и не для стрелбы, и ис того оружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинути на неделю в тюрьму.
8. А кому случится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в государевых прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А будет кто без государева повеления в дворцовых селех учнет в государевых прудех и в озерах рыбу ловити, и на том взяти на государя пеня или ему наказание учинити, что государь укажет.
9. А будет кто царьского величества во дворе украдет что ни буди впервые и сыщется про то допряма, и того бити кнутом. А будет того же татя с краденым в государеве дворе поймают в другие, и того бити кнутом же, да вкинути на полгода в тюрму. А будет тот же тать поиман с краденым в государеве дворе в третьие, и ему за то отсечь руку, чтобы на то смотря иным неповадно было воровати, в государеве дворе красти [126]126
Там же. – С. 72–77.
[Закрыть].