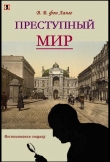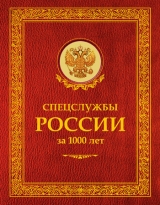
Текст книги "Спецслужбы России за 1000 лет"
Автор книги: Иосиф Линдер
Соавторы: Сергей Чуркин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Заговорщики знали, что Василий II отправился в неблизкий по тем временам путь с семьей и небольшой свитой. Без проволочек вослед ему была направлена дружина Ивана Можайского. Однако ее опередил преданный князю рязанец Бунко, который сообщил об измене бояр, притязаниях Шемяки и о грозящей лично князю опасности. Но Василий II сообщению не поверил и повелел гонца «назад поворотить». Дальнейшие действия князя можно считать верхом беспечности: лошадей на случай экстренной эвакуации не подготовили, дополнительную охрану не запросили, ворота монастыря не заперли. Василий II ограничился полумерой – выслал в сторону городка Радонеж сторожевую заставу.
Действия можайского князя, наоборот, отличались решительностью и изобретательностью. Его разведчики заблаговременно обнаружили московский дозор и доложили о нем. Иван распорядился обойтись без шума. Можайцы придумали замаскировать «группу захвата» под санный обоз: одни дружинники исполняли роль возниц, другие находились в санях, накрытые рогожей. Когда головные сани обогнули заставу, выскочившие внезапно дружинники обезоружили караульщиков [13]13
Примечательно, что спустя пятьсот лет метод подвижной засады с успехом использовал советский мастер специальных операций Николай Кузнецов.
[Закрыть]. Те даже не смогли спастись бегством из-за обильного (высотой девять пядей) снежного покрова.
После нейтрализации дозора отряд заговорщиков ускоренным маршем подошел к монастырю и ворвался внутрь через открытые ворота. Охрана, не ожидавшая (!) внезапного нападения, князя защитить не смогла, поскольку «все в унынии были и в оторопи великой». Василий II был пленен, ослеплен (за что впоследствии и был прозван Темным) и сослан в Углич. Затем он получил «в отчину» Вологду.
К слову сказать, борьба Новгорода и Москвы за Вологду, впервые упомянутую в 1147 г., началась в 1393 г. Тогда, согласно первой Новгородской летописи, «князь великий взя у Новгорода пригород Торжок с волостьми, и Волок Ламский и Вологду» [14]14
Цит. по: Вологда. Историко-краеведческий альманах. – Вып. I. – Вологда, 1994. – С. 9.
[Закрыть]. Между 1397–1441 гг. Вологда неоднократно переходила из рук в руки.
Восстановить права на московский престол Василий II сумел только к 1453 г. в результате тяжелой и изнурительной борьбы со своими оппонентами. Поддержку великому князю оказали в первую очередь Вологда и северные монастыри – Спасо-Прилуцкий и Кирилло-Белозерский. Шемяка из Москвы бежал и, согласно летописям, был отравлен собственным поваром Иваном Котовым в июне 1453 г. в Новгороде.
Известно также о причастности к делам Василия II дьяка Степана Бородатого и подьячего Василия Беды – вероятно, людей из княжеской «службы безопасности». Как указывает историк Вологодского края П. А. Колесников, после указанных выше событий роль Вологды для московских великих князей возросла: «Как удельная, так и уездная (с 1482 г. – Примеч. авт.) Вологда выполняла разнородные функции: часто была сборным пунктом для войска, являлась местом политической ссылки, а также убежищем для великих князей и их семейств» [15]15
Там же. – С. 10.
[Закрыть].
Сын Василия Темного Иван III, правивший с 1462 г., с 1450 г. соправитель отца, значительно расширил сферу влияния Москвы, с 1463 по 1503 г. присоединив Ярославль, Пермь, Ростов, Новгород, Тверь, Вятку, Вязьму, Чернигов, Брянск, Путивль, Гомель. Он усилил и политические преимущества Москвы. Право сбора налогов и чеканки монет, рассмотрение важнейших уголовных дел отныне стали принадлежать исключительно великому князю Московскому. В результате политическое влияние удельных князей к концу XV в. уменьшилось. Но угроза центральной власти оставалась весьма реальной. Ключевский определил ее следующим образом: «Удельные предания были еще слишком свежи и кружили слабые удельные головы при всяком удобном случае. Удельный князь был крамольник если не по природе, то по положению: за него цеплялась всякая интрига, заплетавшаяся в сбродной придворной толпе. В Московском Кремле от него ежеминутно ожидали смуты; более всего боялись его побега в Литву» [16]16
Ключевский В. О.Указ. соч. – Т. II. – Ч. II. – М., 1988. – С. 125.
[Закрыть]. Эти опасения полностью подтвердились во времена смуты, наступившие после смерти Бориса Годунова.
К измене своих приближенных Иван III относился со всей строгостью. Угроза его личной безопасности исходила не только со стороны удельных князей, но и из-за границы. В январе 1493 г. в Москве казнили сразу несколько человек, уличенных в государственной измене. Братья Селевины были обвинены в шпионаже, поскольку «посылали з грамотами и с вестми человека своего Волынцова к князю великому Александру Литовскому» [17]17
Цит. по: Лубянка, 2: Из истории отечественной контрразведки. – М., 1999. – С. 88.
[Закрыть]. Проступки князя Лукомского и «латинского переводчика» Матиаса Ляха шпионажем не ограничивались: «А князя Ивана Лукомского послал к великому князю служити полский Казимир, а привел его к целованию на том, что ему великого князя убити или зельем окормити, да и зелие свое с ним послал, да зелие у него выняли» [18]18
Там же.
[Закрыть]. Таким образом, попытка покушения на Ивана III была выявлена и предотвращена на стадии подготовки. Скорый суд и жестокая, по современным меркам, расправа (публичное сожжение) вполне объяснимы законами военного времени – шла война с Литвой. Наряду с карательными мерами применялись и меры превентивного характера. В 1487–1488 гг. из Новгорода в центральные земли были переселены нелояльные боярские и купеческие фамилии.
Возможно, что улучшение работы «спецслужб» великого князя было заслугой не только его самого, но и его второй жены (с 1472 г.), племянницы последнего византийского императора Константина XI Софьи Палеолог. Софья стала ближайшим советником своего царственного супруга. Именно с ней противники Ивана III часто связывали уменьшение своего влияния в Московской Руси.
В последней четверти XV в. у великого князя появились рынды – оруженосцы-телохранители, сопровождавшие его при выездах и набиравшиеся из юношей знатного происхождения. При строительстве нового кремля под Тайницкой башней были сооружены подземный ход и скрытый водозабор.
Иван III успешно продолжил начинания своего отца, направленные на укрепление резервной базы московских князей в Вологде.

Иван III. С французской гравюры
П. А. Колесников описывает эти события так: «Нам важно отметить два обстоятельства, которые были понятны современникам, но потом забылись. Во-первых, вероятно, уже в конце XV в. наиболее надежным местом хранения великокняжеской казны были Белоозеро и Вологда, особенно когда последняя стала уездным центром. Из нее можно было при необходимости перенести казну в другое безопасное место. В 1480 г., когда на Угре решался вековой вопрос об окончательной ликвидации монгольского ига, Иван III отправляет свою жену Софью вместе с казной на Белоозеро. В завещании Ивана III говорится о великокняжеской казне на Белоозере и в Вологде. Во-вторых, огромный район Европейского Севера, вошедший к концу XV в. в состав Российского государства, особенно Вологодский и Белозерский уезды, были значительным резервом пополнения государевой казны. Не случайно в своем завещании Иван III передает сыну, кроме коренных великокняжеских земель, ряд важных городов и земель на Севере (Вологда, Белоозеро, Двина и Вятка). Особенным вниманием великих князей, начиная с Василия II, пользовались северные монастыри: Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский, Ферапонтовский и др.» [19]19
Вологда. Историко-краеведческий альманах. – Вып. I. – С. 10.
[Закрыть].
Василий III, правивший с 1505 г., продолжил дело отца. При нем к Москве были присоединены Псков, Волоцкий удел, Рязанское и Новгород-Северское княжества, а также в 1514 г. Смоленск.
К первой половине XVI в. в Московской Руси были заложены основы самодержавного правления. В 1510 г., после присоединения Пскова к Москве, монах Елеазарова монастыря Филофей [20]20
См.: Малинин В.Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. – Киев, 1910.
[Закрыть]направил великому князю послание, в котором впервые была сформулирована церковно-политическая идеология «Москва – Третий Рим». Скорее всего, именно она послужила основой для изменения титула великого князя Московского, который отныне стал именоваться государем всея Руси.
Нельзя не отметить, что тяга московского правителя к северным землям не ослабевала: как и его отец, Василий III неоднократно приезжал в Вологду на богомолье и даже выражал желание принять постриг в Кирилло-Белозерском монастыре.

Великое стояние на Угре. Миниатюра из Никоновской летописи
В правление Василия III завершилось формирование территориального ядра единого Российского государства и централизованного государственного аппарата. Одерживать победы на этом пути великим князьям позволяло использование скрытых от посторонних глаз средств и методов борьбы. Специальные виды военной деятельности перешли в разряд секретных и стали династическими (т. е. передавались от отца к сыну).

Василий III. С французской гравюры
Во время регентства вдовы Василия III Елены Глинской в Москве под руководством выходца из Италии архитектора Петрока Малого строится Китай-город (1534–1538), название которого происходит от древнерусского слова «кета» («кита») – корзина, плетень. Позднее подобные укрепления появились в Смоленске, Себеже, Пронске и Вологде. По мнению А. Н. Кирпичникова, «появление укреплений из плетня объясняется их подкупающе простой и в то же время эффективной антипушечной конструкцией. Неприятельские ядра, проходя сквозь плетень, вязли в насыпной сердцевине, не разрушая преграды. Преимуществом плетневых сооружений была и скорость их постройки» [21]21
Кукушкин И. П., Никитинский И. Ф.Из истории Вологодского Кремля // Тезисы докладов всероссийского симпозиума «Кремли России» (Москва, 23–26 ноября 1999 года). – М., 1999. – С. 59.
[Закрыть]. Вологодская китай-крепость, как показали раскопки И. П. Кукушкина в 1994 г., имела следующие параметры: «Глубина рва от дневной поверхности XV в. достигала 2,5 метра при ширине до 23 метров. <…> По результатам дендрохронологического анализа дата рубки дерева, примененного при строительстве укреплений, определена около 1548 г. Четыре ряда плетней, проходивших внутри вала, состояли из вертикально вбитых в грунт жердей, оплетенных ветками. Расстояние между крайними рядами колебалось в пределах 5–5,2 метра – очевидно, ширина деревоземляного вала в основании была не менее 6 метров» [22]22
Там же.
[Закрыть]. Мы осознанно уделяем такое большое внимание Вологде, поскольку в царствование Ивана Грозного – следующего правителя Руси – город приобретет особое значение в государевых планах.
Как показывают исторические источники, на формирование личности Ивана Грозного наложили отпечаток детские годы, когда он бессильно взирал на дела, творимые князьями и боярами из ближайшего окружения. Вместо того чтобы вразумлять и учить ребенка, те помыкали и им, и братом его Григорием. Приказаний молодого государя не исполняли, над личными просьбами насмехались, дурные наклонности не подавляли и лет с двенадцати угождали в низменных наслаждениях. При этом шло уничтожение одних боярских группировок другими, находившимися в данный момент ближе к трону. Юноша все видел, слышал и запоминал: под влиянием оскорблений и лести сформировались такие черты его характера, как презрение и ненависть к боярству. Посеявшие ветер, пожали бурю: корыстолюбие, угодничество и чванство бумерангом поразили тех, кто забыл о предназначении своем – служить Отечеству и государю. К шестнадцати годам Иван (Иоанн), подобно своему отцу, начал приближать к себе новых людей (дьяков), не имевших родовых притязаний.
По мнению С. М. Соловьева, «Иоанн IV был первым царем не потому только, что первый принял царственный титул, но потому, что первый осознал вполне все значение царской власти, первый, так сказать, составил ее теорию, тогда как отец и дед его усиливали свою власть только практически» [23]23
Соловьев С. М.Указ. соч. – Кн. III. – Т. 5–6. – С. 414.
[Закрыть].
В 1547 г. Иван IV первым из русских великих князей венчался на царство. Мы полагаем, что в его правление происходило интенсивное развитие специальных силовых общегосударственных институтов, предтечей которых являлись личные «службы» великих князей. Охрана царствующего лица в этот период приобрела общегосударственный статус. Специальные службы, ведавшие вопросами личной безопасности российских государей, зачастую играли в истории России (как и в любой монархии) важную роль. Это объясняется тем, что при персонификации власти смена царя, а впоследствии императора влекла за собой изменение государственной политики.
В самом начале царствования Ивана IV Васильевича дипломатия, разведка, политический и уголовный сыск шли рука об руку, поскольку число людей, допущенных к важнейшим царским (т. е. государственным) секретам, было крайне ограниченно. В середине XVI в. ситуация изменилась. Одним из факторов, оказавших сильное влияние на юного царя, было восстание посадских людей в июне 1547 г., когда Ивану со свитой пришлось бежать из столицы в с. Воробьево. Вооруженные горожане подошли к селу и потребовали выдачи Глинских, по их мнению, повинных в московском пожаре. Ивану удалось уговорить восставших разойтись, но это событие стало для него серьезным испытанием. Позже он вспоминал, что в его душу вошел страх, «трепет – в кости мои» и дух его «смирился».

Иван IV Грозный. С гравюры XVI в.
В феврале 1549 г. царь созвал Земский собор (Избранная рада), на котором присутствовали представители всех сословий. Первые его реформы связаны с именами митрополита Макария, священника придворного Благовещенского собора Сильвестра и дворянина А. Ф. Адашева [24]24
Адашев Алексей Федорович (?–1561) – думный дворянин, окольничий (с 1553 г.), постельничий. С конца 40-х гг. XVI в. руководил Избранной радой. Хранитель личной казны царя и его печати «для скорых и тайных дел». Возглавлял Челобитный приказ (личную канцелярию Ивана IV). В 1560 г. служил воеводой в Ливонии, выступал против продолжения Ливонской войны. Сослан, умер в опале.
[Закрыть]. Кроме них в разработке и проведении реформ также участвовали Д. И. Курлятев [25]25
Курлятев Дмитрий Иванович (?–1562) – военный деятель. Князь, боярин (с 1549 г.) и воевода в правление Василия III и Ивана IV. Единомышленник Сильвестра и Адашева. Пострижен в монахи, а затем казнен со всей семьей.
[Закрыть], И. В. Шереметьев [26]26
Шереметьев Иван Васильевич (?–1577) – царский воевода, начинал свою карьеру в Муроме. Участвовал в Казанских походах 1545–1552 гг. В 1548 г. был пожалован в окольничие, в 1550 г. – в бояре. С 1552 г. «дворовый воевода» отборного царского полка. Успешно воевал с крымскими татарами, участвовал в Ливонской войне. В 1564 г. был заподозрен в измене и арестован, но через год с небольшим отпущен. После освобождения вошел в число земских бояр. В 1570 г. принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре под именем Иона; оставался в монастыре до конца своих дней.
[Закрыть], А. И. Курбский [27]27
К урбский Андрей Михайлович (1528–1583) – русский политический и военный деятель, писатель-публицист. Занимал высшие административные и военные должности, участвовал в Казанских походах 1545–1552 гг. В 1561 г. был поставлен во главе русских войск в Прибалтике, затем – воевода в Юрьеве (Дерпте). В 1564 г. бежал из Юрьева в Литву, где получил от польского короля несколько имений; был включен в число членов Королевской рады. В 1564 г. возглавил одну из польских армий в войне против России. В 1564–1579 гг. направил Ивану IV три послания, в которых обвинил царя в жестокости и неоправданных казнях. В 1573 г. написал «Историю о великом князе Московском» – политический памфлет, направленный против усиления самодержавной власти.
[Закрыть]. Собор принял решение о создании нового единого государственного свода законов – Судебника 1550 г., в основу которого был положен расширенный и систематизированный Судебник Ивана III 1497 г.
Для обеспечения реформы государственного аппарата создаются приказы, имевшие судебно-полицейские функции; первым из них стал Челобитный приказ. В нем рассматривались жалобы дворян и детей боярских, которые по Судебнику 1550 г. получили право обращаться непосредственно к суду царя; также Челобитный приказ служил апелляционной инстанцией по обжалованию решений, вынесенных нижестоящими судебными органами, контролировал деятельность других государственных учреждений и должностных лиц государства.
Главой приказа стал А. Ф. Адашев, вместе с Сильвестром в начале реформ оказывавший наибольшее влияние на царя. О его влиянии говорит тот факт, что в 1552 г. Адашев получил должность постельничего. Постельничий был ближайшим советником царя, сопровождал его при выходах из дворца, неотлучно дежурил в царских покоях. Как показывают исторические примеры, подобным доверием государей пользовался ограниченный круг людей, в первую очередь начальники личной охраны. Однако, как это часто бывает, через 10 лет Адашев и Сильвестр подверглись опале. Иван IV впоследствии писал, что они «государилися, как хотели», а с него государство «сняли»: что он был государем на словах, а не на деле. Возможно, в основе этого решения лежало стремление царя проводить самостоятельную политику. Также вероятно, что опала была следствием интриг со стороны родовитых бояр, недовольных политикой фаворитов. В 1560 г. Сильвестр был отправлен в ссылку, а Адашев арестован и при малоизвестных обстоятельствах спустя некоторое время умер.
Одним из важнейших решений Ивана IV было создание Посольского приказа, ведавшего международными отношениями, в том числе вопросами разведки в иностранных государствах.
Во главе приказа поставили подьячего И. М. Висковатого [28]28
Висковатый Иван Михайлович (?–1570) – первый руководитель Посольского приказа, в том числе внешней (политической) разведки. Подьячий (с 1542 г.), думный дьяк (с 1553 г.), хранитель печати (с 1561 г.). Ложно обвинен в тайных сношениях с турецким султаном, крымским ханом, с бежавшим князем А. М. Курбским и польским королем, в намерениях сдать Новгород и Псков полякам. Казнен по приказу Ивана IV.
[Закрыть], который первым делом занялся созданием царского архива, куда поступили бумаги великих и удельных князей, документы внешнеполитического характера, следственные материалы. Таким образом, под его руководством был создан первый общегосударственный центр хранения, учета и анализа конфиденциальной информации, положено начало информационно-аналитической службе, основывавшей свою деятельность как на собственных архивных документах, так и на документах, тем или иным способом попадавших в Москву.
Чтобы обеспечить принятие выгодного для России решения, наряду с обычными дипломатическими средствами того времени И. М. Висковатый в 1562 г. привлек на свою сторону приближенных датского короля, которых, пользуясь современной терминологией, можно называть «агентами влияния». В 1559–1560 гг. царь использовал Посольский приказ в качестве противовеса влиянию А. Адашева.
Разделавшись с земской оппозицией, Иван IV переключился на поиск «врагов» среди приказной бюрократии. При дворе заметно набирали силу братья Щелкаловы [29]29
Щелкаловы Андрей Яковлевич (?–1597) и Василий Яковлевич (?–1610/1611) – государственные и политические деятели России эпохи Ивана IV. А. Щелкалов возвысился в связи с казнями руководителей приказов в период опричнины. Возглавлял приказы: Разрядный, Поместный, Казанского дворца, один из четвертных приказов. В 1594 г. отошел от дел. Его брат руководил Разрядным приказом в 1576–1594 гг. С середины 1594 г. стоял во главе Посольского приказа. С 1601 г. в опале. Позже от Лжедмитрия получил чин окольничего.
[Закрыть], которые сыграли не последнюю роль в опале Висковатого. В 1570 г. И. М. Висковатый официально открыл печальный список руководителей и сотрудников спецслужб, получивших в качестве награды за верную службу «высшую меру».
Систему охраны южных рубежей государства следует считать одной из наиболее интересных военно-политических разработок, реализованных в период правления Ивана IV.
Во второй половине XVI в. пространство между верховьями Оки и Дона таило угрозу вторжений со стороны Крымского ханства, поэтому требовалось коренным образом улучшить оборону на этом участке. Одним из организаторов пограничной службы был «государев слуга и воевода» М. И. Воротынский [30]30
Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510–1573) – князь, боярин, воевода, руководитель пограничной охраны и разведки на южных рубежах России в 1550–1573 гг. В 1562–1566 гг. – в опале. В 1571 г. отразил атаки крымских татар и заставил их отойти от столицы. В 1572 г. разбил войско крымского хана Девлет-Гирея. В 1573 г. арестован по ложному доносу, подвергнут пыткам, умер по дороге в ссылку.
[Закрыть]. В 1550–1560 гг. он руководил строительством оборонительных сооружений на подступах к Калуге, Коломне, Серпухову, лично отражал нападения ордынцев под Тулой в 1559 г. В те годы была создана Большая засечная черта, в народе называвшаяся Поясом Богородицы. Задачей крепостных гарнизонов было не допустить прорыва степняков к центру Московского государства по так называемому Муравскому шляху, который начинался у Перекопа и выходил к Туле. В 1571 г. царь поручил Воротынскому и боярину Н. Р. Юрьеву (деду первого царя из династии Романовых) провести съезд служилых людей из пограничных городов и выработать план защиты южных границ [31]31
Акты Московского государства. – СПб., 1890. – Т. I. – С. 1.
[Закрыть].
Для регламентации деятельности пограничной охраны был составлен «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» от 16 февраля 1571 г., «чтоб воинские люди на государевы украины войною безвестно не приходили» [32]32
Там же. – С. 2.
[Закрыть]. Поскольку степняки придерживались стратегии опустошения, а не завоевания, основной задачей русских являлось перекрытие коммуникаций маневренного противника. Система пограничной охраны и обороны опиралась на базовые крепостные укрепления, между которыми возводилась полоса из валов и засек, препятствовавшая перемещению конных орд. Для наблюдения за противником за линию укреплений, в Дикое поле, направлялись посты (заставы и «сторужи») и подвижные наряды (станицы). Служба начиналась 1 апреля и продолжалась до тех пор, пока не ляжет снег, – сначала в три смены по шесть недель, затем по четыре недели, чтобы «сторужи без сторожей не были во весь год ни на один час» [33]33
Там же. – С. 4.
[Закрыть].
Станицы высылались в дозор на пятнадцать дней, за это время они проходили до 200–250 верст. Если станицу «разгоняли» враги или станичники попадали в плен, на их место немедленно высылалась следующая станица. Служебные обязанности предписывалось выполнять в конном строю, у каждого из станичников был свой «справный» конь. Все крепостные гарнизоны, летучие отряды, заставы и население порубежья составляли единый военно-административный организм, функционировавший в соответствии с условиями пограничной жизни.

Подобная организованность пограничной службы была бы невозможной без подробной регламентации, вобравшей многолетний практический опыт и предписывавшей крайнюю осмотрительность. Расположение застав следовало хранить в тайне, запрещалось делать станы и устраивать остановки в лесах, категорически запрещалось дважды разводить огонь в одном и том же месте. Эти меры позволяли вводить «супостата» в заблуждение относительно численности и расположения постов и приучали пограничников к бдительности. При обнаружении неприятеля дозорным вменялось оповестить об опасности ближайший город или заставу и зайти в тыл противника для определения его численности и намерений. Добытые сведения надлежало доставить по команде и продублировать соседним заставам. За недобросовестное отношение к служебным обязанностям охранники подвергались телесным наказаниям и денежным штрафам. «А которые сторожи, не дождавшись себе отмены, с сторожи отъедут <…> быти казненными смертью» [34]34
Там же. – С. 3.
[Закрыть]. Постепенно от рубежа к рубежу создавалась глубоко эшелонированная система охраны и обороны Московского государства, одной из задач которой являлось заблаговременное выявление угрозы и предупреждение об опасности.
Ревностная и преданная служба государю не избавила М. И. Воротынского от подозрений в измене. В 1573 г. слуга донес на него как на чародея, злоумышлявшего против Ивана IV. Князя схватили, пытали и полуживым отправили в ссылку на Белоозеро, по дороге куда он скончался. Остается неизвестным, явилась ли его смерть следствием чрезмерного усердия «пытошных дел мастеров» или верного царева слугу умертвили по чьему-то тайному приказу.


Изменения в социально-экономической сфере после 1549 г. были направлены на обеспечение землей дворян – нового служилого сословия, призванного стать опорой государства. Основу вооруженных сил составляло теперь конное ополчение землевладельцев, выходивших на службу «конно, людно и оружно». В 1550 г. Иван IV издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Указ стал основой для создания корпуса «выборных стрельцов из пищали», обязанных быть всегда наготове для исполнения ответственных поручений. Стрельцы представляли собой содержавшееся казной регулярное войско (6 полков), вооруженное пищалями – новейшим по тем временам огнестрельным оружием. Наряду с другими обязанностями стрельцы несли охрану государя.
Главной проблемой, с которой сталкивался царь при назначении командного состава, являлось местничество, т. е. обычай занимать командные посты в зависимости от древности рода, а не от знаний и военных заслуг. Созданный в 1555 г. Разрядный приказ ведал обороной государства, обеспечивал сбор дворянского ополчения и назначал воевод; руководил приказом дьяк И. Г. Выродков. В 1571 г. был учрежден Стрелецкий приказ (приказ Надворной пехоты), ведавший стрелецкими полками. Термин «надворной» (по одному из толкований – «придворной») указывал на высокий статус стрелецких полков, которые несли службу при дворе.



В 1555 г. из состава Боярской избы (избами, как и приказами, назвались органы управления) была выделена Разбойная изба, в дальнейшем преобразованная в Разбойный (Татейный) приказ, на который возлагалось проведение сыска и следствия по делам уголовного (разбойного и душегубного) и политического (изменнического) характера. Термином «сыск» в России вплоть до 1917 г. обозначались специальные мероприятия непроцессуального характера по установлению и обнаружению неизвестных или скрывающихся преступников. Во второй половине XVI в. во главе Разбойной избы в разное время находились бояре Д. И. Курлятев, И. М. Воронцов, И. А. Булгаков. Дьяками Разбойного приказа были В. Я. Щелкалов, К. С. Мясоед (Вислово), У. А. Горсткин и Г. М. Станиславов.
В с. Коралово (ранее – Караулово) – бывшем поместье одно время возглавлявшего «татейный» сыск дьяка Бухвостова – в XVIII в. при перестройке двора новыми хозяевами, князьями Васильчиковыми, были обнаружены подземная церковь и напоминавшие камеры для заключенных кельи времен Ивана Грозного. Можно предположить, что в них в условиях строжайшей тайны даже от ближайшего окружения царя содержались лица, обвиненные в государственной измене; вероятно, там же происходили допросы, а отпевали казненных в подземной церкви.
Разбойный приказ не был монополистом сыска. В 1564 г. был создан Земский приказ, рассматривавший разбойные и татейные дела по Москве и Московскому уезду; он же вел наблюдение за безопасностью и порядком в столице и окрестностях. В 1571 г. появился Холопий приказ для рассмотрения судебных дел холопов и ведения розыска беглых.
Параллельно шло структурирование системы управления в военной области: кроме уже упоминавшихся Разрядного и Стрелецкого приказов учреждены Оружейный (ок. 1547 г.), Бронный (1573 г.), Пушкарский (1577 г.) приказы.
К середине XVI в. значительное место в арсенале русского воинства занимало ручное огнестрельное оружие; стрелецкое войско составляло одну десятую часть всей армии. Главой оружейного дела стал боярин-оружничий, возглавлявший Оружейный приказ и ведавший вопросами производства стрелкового оружия. В его распоряжении находилась особая группа «самопальных государевых стрелков», в которую принимали без сословных ограничений. Выполнявший в конце XIX в. обязанности помощника директора Оружейной палаты полковник Л. П. Яковлев, опираясь на архивные документы, писал, что кандидатов в стрелки отбирали из молодых, ловких, сильных, грамотных людей разного звания, умевших стрелять из пищалей [35]35
Снайперы. – Минск, 1997. – С. 75.
[Закрыть].


Для поступления в стрелковую команду желающий подавал главе Оружейного приказа челобитную, в которой описывал свои положительные качества и способности, после чего опытные стрелки принимали у него экзамен по стрельбе. Испытание проводили в поле. Надо было выстрелить пять раз с расстояния в 25 саженей (53 м), мишенью служил квадрат со стороной в четверть сажени (53 см) и центральным кругом диаметром в полвершка (около 2 см). Экзаменаторы оценивали как профессиональные, так и моральные качества кандидата, поскольку стрелки входили в ближайшее окружение государя.
На вооружении государевых стрелков находилось не только гладкоствольное, но и нарезное оружие – винтовальные (или винтованные) пищали, которые в зависимости от числа нарезов назывались «шестерики» и «восьмерики». Дальность стрельбы из нарезных ружей была больше, чем из гладкоствольных, в два раза, а кучность – в четыре-пять раз, что фактически делало мастеров «огненного боя из пищали» специальным снайперским подразделением, обеспечивавшим безопасность государя и выполняющим его особые поручения.
В «Описи Московской оружейной палаты» [36]36
Опись Московской оружейной палаты. Часть пятая: Огнестрельное оружие. – М., 1885.
[Закрыть]имеется более десяти образцов нарезного длинноствольного оружия XVI в. Указанные образцы имеют калибр 3,3–4 линии (8,4–10,2 мм) и длину ствола 35–40 дюймов (600–1015 мм). Некоторые образцы оружия названы там аркебузами, одна из них принадлежала князьям В. В. и А. В. Голицыным. Число нарезов не всегда было четным: некоторые образцы имеют 7 нарезов. Отдельные, выпущенные уже в XVII в. образцы имеют 12 и даже 24 нареза.
А. Дженкинсон, представлявший в Москве интересы английской торговой «Московской компании» и неоднократно выступавший в качестве посла английского двора, в 1557 г. был свидетелем стрелкового смотра. Он писал: «В поле, за предместьями Москвы <… > для стрельбы из ручного огнестрельного оружия был устроен род ледяного вала в шесть футов (183 см. – Здесь и далее примеч. авт.) вышиною и четверть мили (400 м) длиною из кусков льда толщиною в два фута (31 см). В шестидесяти ярдах (55 м) перед валом были сделаны на небольших кольях подмостки, назначенные для помещения самих стрелков. <…> Когда царь занял свое место, пищальщики направились к упомянутым выше мосткам и, выстроившись на них, открыли огонь по ледяным мишеням, стрельба их продолжалась до тех пор, пока последние не были окончательно разбиты пулями» [37]37
Цит. по: Снайперы. – С. 74.
[Закрыть]. Заявление такого свидетеля, выполнявшего, естественно, не только торговые и дипломатические, но и разведывательные функции, крайне важны, поскольку такого рода письменные заявления отправлялись сначала Марии I, а затем Елизавете II одновременно с комментариями о боевой и моральной подготовке ближайшего окружения российского государя.
Таким образом, с полной уверенностью можно говорить, что уже во второй половине XVI в. в окружении первого русского царя было сформировано элитное стрелковое подразделение со снайперской подготовкой, готовое выполнять личные специальные задания правителя и постоянно совершенствовавшее свои знания и практические навыки. Представляя, какой опале или казни мог подвергнуть нерадивого слугу (читай – холопа) государь, можно с уверенностью утверждать, что уровень практической, теоретической и моральной подготовки стрелков соответствовал требованиям того времени, а возможно, и превосходил среднестатистические стандарты.
В тот же период в Европе, а затем и в России получает распространение короткоствольное огнестрельное оружие: пистолеты (пистоли) с колесцовым, а позднее кремневым замком; оно приобретает популярность не только у военных, но и у горожан. Во многих странах и отдельных городах Европы власти и знать, обеспокоенные возможностью применения «дьявольского оружия» для осуществления политических убийств, запрещали владение пистолетами без специального разрешения; карой служило публичное отрубание руки. Однако повсеместное распространение нового оружия сдерживали не столько репрессивные меры, сколько высокая стоимость: даже в армиях крупных государств того времени пистолеты поступали на вооружение лишь в отдельные привилегированные кавалерийские подразделения.
Уже в XVI в. изготавливались многозарядные пистолеты. В указанной «Описи» числится «револьвер германский, XVI в., о трех выстрелах» [38]38
Опись Московской оружейной палаты. Часть пятая: Огнестрельное оружие. – С. 71.
[Закрыть]. Указанный образец имел трехзарядный барабан, вращающийся на специальной оси. Калибр оружия 6,5 линии (16,5 мм), длина ствола 9,5 дюйма (240 мм). Скорее всего, возможности короткоствольного (особенно многозарядного) оружия наиболее адекватно оценивались в тех государственных (и негосударственных!) структурах, которые в настоящее время определяются как специальные или секретные.
Применение огнестрельного оружия было не единственным способом устранения неугодных царю людей. У Ивана IV служил придворный аптекарь и астролог Элизиус Бомелий, по некоторым данным, родившийся в Вестфалии и обучавшийся в Кембридже. Он умел готовить яды, которые действовали по прошествии определенного времени. Это не давало возможности установить причинно-следственную связь между бокалом вина и смертью выпившего его человека. По сведениям немецких наемников Таубе и Краузе, служивших в те же годы московскому царю, Бомелий отравил по приказу Ивана IV до 100 опричников. В 1580 г. лейб-медик предпринял попытку сбежать из Москвы, но неудачно. Его поймали и жестоко казнили – по наиболее достоверной версии, Бомелий был заживо сварен в котле. Этот пример показывает, что люди, допущенные к сокровенным государевым тайнам, находились под неусыпным контролем, пренебрегать которым было крайне рискованно.
Постоянные междоусобицы в царском окружении и сопротивление представителей старинных боярских родов, препятствовавших выдвижению новых людей, убедили Ивана Грозного в необходимости сломать устоявшиеся порядки. В декабре 1564 г. царь с семьей в сопровождении заранее отобранных бояр и дворян направился в летнюю резиденцию – Александровскую слободу, откуда послал в Москву две грамоты. В первой, адресованной боярам, духовенству и служилым людям, он обвинял их в изменах и потворстве изменам, во второй объявлял московским посадским людям, что у него «гневу на них и опалы нет». После публичного прочтения грамот на Красной площади последние потребовали, чтобы царя уговорили вернуться в Москву, в противном случае грозя истребить «лиходеев и изменников». Через несколько дней Иван Васильевич, приняв делегацию духовенства и боярства, согласился на возвращение, но выдвинул следующее условие: одних «изменников» подвергнуть опале, других – казнить и «учинити» опричнину. По этому поводу у историков есть два взаимоисключающих мнения: первое – опричнина обусловлена личными качествами царя и не имела политического смысла (В. О. Ключевский, С. Б. Веселовский, И. Я. Фроянов); второе – опричнина направлена против социально-политических сил, противостоявших усилению самодержавия (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, Р. Г. Скрынников).