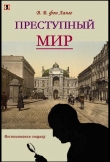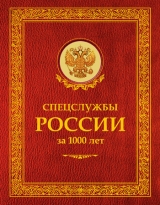
Текст книги "Спецслужбы России за 1000 лет"
Автор книги: Иосиф Линдер
Соавторы: Сергей Чуркин
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
После окончания процесса толпа студентов провела демонстрацию по этому поводу на Невском проспекте. Неправовое решение присяжных, вынесенное исключительно под воздействием эмоций, повлияло на настроения разночинцев. В сознании революционеров как бы зажегся зеленый свет: чиновников можно убивать безнаказанно! И хотя после процесса над Засулич дела о покушениях на представителей власти были переданы в ведение военных судов, в среде радикалов сложился стереотип: «Карфаген должен быть разрушен!»
В мае 1878 г. принята окончательная редакция программы «Земли и воли», пункт 4 которой гласил: «В состав теперешней Российской империи входят такие местности и даже национальности, которые при первой возможности готовы отделиться, каковы, напр., Малороссия, Польша, Кавказ и проч. Следовательно, наша обязанность – содействовать разделению теперешней Рос. империи на части соответственно местным желаниям» [429]429
Цит. по: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. – С. 395.
[Закрыть]. К сожалению, стремление заполучить власть ценой территориальных и иных невозвратных политических уступок впоследствии стало традицией многих российских «борцов с режимом». Далее в программе отмечалось: «Само собою разумеется, что эта формула может быть воплощена в жизнь только путем насильственного переворота, и притом возможно скорейшего…» [430]430
Там же. – С. 396.
[Закрыть].
Были сформулированы две задачи, составившие основу работы «Земли и воли»: «1) помочь организоваться элементам недовольства в народе и слиться с существующими уже народными организациями революционного характера, агитацией же усилить интенсивность этого недовольства и 2) ослабить, расшатать, т. е. дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного, плана восстания.
Отсюда таковы наши ближайшие практические задачи.
А. ЧАСТЬ ОРГАНИЗАТОРСКАЯ:
а) Тесная и стройная организация уже готовых революционеров, согласных действовать в духе нашей программы, как из среды интеллигенции, так и из среды находившихся в непосредственном соприкосновении с нею рабочих.
б) Сближение и даже слияние с враждебными правительству сектами религиозно-революционного характера, каковы, напр., бегуны, неплательщики, штунда и проч.
в) Заведение возможно более широких и прочных связей в местностях, где недовольство наиболее заострено, и устройство прочных поселений и притонов среди крестьянского населения этих районов.
г) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся в разных местах разбойничьих шаек типа понизовой вольницы.
д) Заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных рабочих – заводских и фабричных.
Деятельность людей, взявшихся за исполнение этих пунктов, должна заключаться, в видах заострения и обобщения народных стремлений, в агитации в самом широком смысле этого слова, начиная с легального протеста против местных властей и кончая вооруженным восстанием, т. е. бунтом. В личных знакомствах как с рабочими, так и с крестьянами (в особенности с раскольниками) агитаторы, конечно, не могут отрицать важности обмена идей и пропаганды.
е) Пропаганда и агитация в университетских центрах среди интеллигенции, которая в первое время является главным контингентом для пополнения рядов нашей организации и отчасти источником средств.
ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в свою пользу.
з) Пропаганда наших идей и агитация литературою: издание собственного органа и распространение листков зажигательного характера в возможно большем количестве.
Б. ЧАСТЬ ДЕЗОРГАНИЗАТОРСКАЯ:
а) Заведение связей и своей организации в войсках, и главным образом среди офицерства.
б) Привлечение на свою сторону лиц, служащих в тех или других правительственных учреждениях.
в) Систематическое истребление наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавистный нам порядок» [431]431
Там же. – С. 396–397.
[Закрыть].
Но была и еще одна сфера деятельности, которая революционерами не афишировалась, поскольку представляла собой заурядную уголовщину и проводилась по принципу «цель оправдывает средства». Мы имеем в виду участие борцов за свободу в кражах и ограблениях казенных учреждений – экспроприации («эксы») с целью добычи денежных средств для антиправительственной деятельности. Так, в июле 1878 г. была предпринята попытка ограбления следовавшей из Житомира в Киев почтовой кареты (100 000 рублей) и денежного ящика Курского пехотного полка. В 1879 г. из херсонского казначейства путем подкопа похищено 1,5 миллиона рублей для материальной поддержки сосланных в Сибирь. Примечательно, что осужденный за это преступление Ф. Юрковский на суде показал, что в этой краже он не видел ничего безнравственного, так как правительство и его оппоненты представляют собой два лагеря, находящихся в состоянии войны, и к ним следует применять нормы не уголовного, а международного права.
Слабой стороной спецслужб являлось отсутствие квалифицированной агентуры внутри революционных организаций и, соответственно, невозможность выявления и предотвращения террористических актов на «дальних подступах». Ситуацию не изменило даже то, что с января 1878 г. революционеры начали оказывать активное вооруженное сопротивление при арестах (Одесса), чего ранее не отмечалось. Участились и террористические акты.
В 1878 г. в Киеве Г. А. Попко убил адъютанта губернского жандармского управления штабс-капитана Г. Э. Гейкинга, В. А. Осинский стрелял в прокурора М. М. Котляревского, которого спасла толщина шубы. 4 августа на петербуржской улице С. М. Степняк-Кравчинский убил ударом кинжала руководителя III Отделения и шефа жандармов Н. В. Мезенцова, который передвигался по городу в сопровождении одного адъютанта. В 1879 г. покушения продолжились. 4 февраля Г. Д. Гольденберг застрелил харьковского губернатора Д. Н. Кропоткина (двоюродного брата князя-бунтаря), в марте Л. Ф. Мирский неудачно покушался на нового шефа жандармов А. Р. Дрентельна [432]432
Дрентельн Александр Романович (1820–1888) – российский военный деятель, с 1859 г. генерал-майор, с 1865 г. генерал-лейтенант, с 1878 г. генерал от инфантерии. На военной службе с 1838 г. Участник Крымской войны 1853–1856 гг. В 1856–1862 гг. командир лейб-гвардии Измайловского полка. В 1863–1864 гг. начальник дивизии. В 1872–1878 гг. командующий Киевским военным округом. В 1870–1880 гг. шеф жандармов и главный начальник III Отделения. В 1880 г. одесский генерал-губернатор и командующий войсками Одесского военного округа. В 1881–1888 гг. киевский, подольский и волынский генерал-губернатор, командующий войсками Киевского военного округа.
[Закрыть]. Осуществлять эти нападения было достаточно просто, поскольку никто из высших должностных лиц империи (за исключением царской семьи) личной охраны не имел.
Революционеры применяли и персонифицированный шантаж в отношении высокопоставленных чиновников. Прокурор Петербургской судебной палаты А. А. Лопухин, руководивший следствием по делу об убийстве Н. В. Мезенцова, в августе 1878 г. получил письмо от Исполнительного комитета Русской социально-революционной партии (так именовался кружок В. А. Осинского): «Мы, члены И. К. Р. С. Р. П., объявляем вам, что если вы пойдете по стопам Гейкинга, то и с вами будет поступлено так же: вы будете убиты. <…> Поэтому мы категорически заявляем вам, что 1) если в течение двухнедельного срока, совершенно достаточного для полного выяснения дела, не будет выпущен на свободу каждый из арестованных, против которого не будет ясных улик в убийстве генерала Мезенцова; 2) если в течение их содержания под арестом против них будут предприняты меры, оскорбляющие их человеческое достоинство или могущие вредно отозваться на их здоровье, то смертный приговор над вами будет произнесен. <…> В заключение считаем нужным сообщить вам, что 1-е предостережение делается совершенно конфиденциально. Распространяться оно не будет» [433]433
Архив «Земли и воли» и «Народной воли». – С. 91–92.
[Закрыть].
В 1879 г. главной мишенью террористов стал Александр II, на которого 2 апреля было совершено третье покушение. В десятом часу утра государь совершал обычную утреннюю прогулку. Маршрут пролегал по Миллионной, Зимней канавке, Мойке и далее на Дворцовую площадь. На площади император обратил внимание на человека высокого роста, в шинели гражданского образца и чиновничьей фуражке, шедшего ему навстречу. Пристав, сопровождавший царя, отстал шагов на 25, ближайший жандарм стоял у подъезда Министерства финансов, на посту у Александровской колонны находился дворцовый гренадер. Когда неизвестный опустил руку в карман, интуитивно почувствовавший опасность император предпочел спасаться бегством в сторону Комендантского подъезда. Первый выстрел террорист произвел, находясь в 5–6 шагах от императора, а затем, преследуя Александра, выпустил в него все заряды из револьвера, но не попал. После того как его задержали, террорист раскусил орех с ядом, который держал во рту. Однако яд не подействовал. По заключению профессора Ю. К. Траппа, цианистый калий оказался частично испорчен.

С. М. Степняк-Кравчинский

В. А. Осинский
Террориста, первоначально назвавшегося Соколовым, доставили на Гороховую, в дом петербургского градоначальника А. Е. Зурова. После оказания медицинской помощи его допросили, и он сообщил свое настоящее имя – А. К. Соловьев. Согласно наиболее распространенной версии, ставшей на долгие годы официальной, покушение было его частной инициативой. Но факты говорят об обратном!
В 1875 г. Соловьев сблизился с Н. Н. Богдановичем, впоследствии создавшем внутри «Земли и воли» группу «сепаратистов». Замысел совершить покушение на Александра II возник у Соловьева еще во время агитационной работы в Поволжье. Он говорил коллегам по организации, что считает убийство императора поворотным пунктом в деятельности правительства и что с одобрения товарищей или без него поедет в Петербург и свое дело сделает. Несколько ранее Соловьева из Малороссии в Петербург с целью цареубийства прибыли Л. Кобылянский и Г. Д. Гольденберг, уже имевшие опыт террористических актов. По поводу предложения убить императора мнения в руководстве «Земли и воли» разделились: Г. Плеханов и М. Попов выступили против, А. Квятковскому, Н. Морозову и А. Михайлову эта идея нравилась. Было принято компромиссное решение: «Земля и воля» не берет на себя ответственность за теракт, но отдельным членам организации предоставляет право оказывать ту или иную помощь в этом деле.
Мы полагаем, данное решение позволило впоследствии заявить, что террористический акт был осуществлен без санкции политического руководства организации. Такая трактовка позволяла в случае арестов уберечь лидеров «Земли и воли» от применения к ним смертной казни. Кандидатуры Кобылянского (поляк) и Гольденберга (еврей) отвергли, чтобы не связывать покушение с национальной принадлежностью террориста – убийству хотели придать исключительно политическую окраску. После утверждения кандидатуры исполнителя началась практическая подготовка покушения. Н. А. Морозов приобрел для Соловьева револьвер, А. Д. Михайлов стал обучать его навыкам прицельной стрельбы на стрельбище Семеновского полка. С целью маскировки Соловьеву купили шинель гражданского образца: одетый в нее при покушении, он имел возможность приблизиться на дистанцию выстрела. Для быстрого отхода предлагалось воспользоваться пролеткой с кучером, но Соловьев отверг это. В соответствии с теорией Ишутина террориста снабдили ядом. Нетрудно догадаться, что смерть в результате отравления служила «самозачисткой», обрывавшей связь покушавшегося с направившей его организацией.
Таким образом, на практике было реализовано несколько принципиальных для того времени новинок в области оперативного прикрытия террористической деятельности: официальный отказ организации от своего человека; учет национальности боевика; использование многозарядного короткоствольного оружия; предварительная стрелковая подготовка для проведения возможной скоростной серии выстрелов; маскировка внешности; планирование отхода и самоубийство террориста. Учитывая предварительную разведку маршрутов прогулок императора (она подтвердила отсутствие ближней охраны, а также позволила выявить места нахождения основных постов и их удаленность от охраняемой персоны), государь практически был обречен.
Но Александр II остался жив. Его спасла великолепная реакция, он сумел распознать надвигающуюся угрозу и оценить степень ее опасности. Несмотря на то что ему был почти 61 год, он сумел не только увеличить дистанцию между собой и стрелком, но и бежал зигзагами, сбивая террористу прицел. Александру «помог» и сам Соловьев, который накануне покушения провел бурную ночь у проститутки, сопровождавшуюся употреблением алкоголя. А вот действия личной охраны императора во время покушения не выдерживают никакой критики. До момента задержания стрелок успел выпустить пять пуль из барабана своего револьвера. Все позиции оперативной триады – выявление, предупреждение, пресечение – были полностью провалены.
Во многом вина за совершившееся покушение лежит и на самом Александре. Император, подобно подавляющему большинству родовитых дворян, считал унизительным находиться в окружении личной охраны. Менталитет дворянства, включавший в понятие чести обязательную личную храбрость, создавал для покушавшихся дополнительные преимущества. Многие представители знати и высшие чиновники, в том числе сотрудники полиции и специальных служб, не могли представить, что на них кто-то может поднять руку. Генерал В. Д. Новицкий впоследствии вспоминал слова Мезенцова, говорившего: «…власть шефа жандармов так еще велика, что особа шефа недосягаема, обаяние к жандармской власти так еще сильно, что эти намерения следует отнести к области фантазий и к бабьим грезам, а не к действительности» [434]434
Новицкий В. Д.Из воспоминаний жандарма. – M., 1991. – С. 83.
[Закрыть]. Как мы уже упоминали, практически никто из должностных лиц империи не имел личной охраны [435]435
Похожая ситуация сложилась и на рубеже XX–XXI вв., когда объектами покушений стали представители российского бизнеса, не желавшие уделять должного внимания вопросам безопасности.
[Закрыть].
К концу 1870-х гг. устоявшаяся школа личной охраны должностных лиц сложиться еще не успела. Сотрудники подразделений, обеспечивавших безопасность государя при его передвижениях, не имели достаточного опыта работы в этой области. Кроме III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Отдельного корпуса жандармов и МВД специальные структуры имелись в Военном министерстве, МИД, Министерстве финансов, Министерстве двора и уделов, Императорской главной квартире. Наряду с межведомственной конкуренцией отдельные представители всех этих служб могли оказать вольную или, скорее, невольную поддержку нелегальным организациям. У нас нет однозначных данных, подтверждающих причастность руководителей того или иного ведомства к организации покушений на Александра II, но исключать подобную возможность мы не можем.
После покушения Соловьева в июне и июле 1879 г. прошли съезды «Земли и воли» в Липецке и Воронеже. В результате разногласий по вопросу о применении террора землевольцы раскололись на две организации. Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод и другие сторонники пропагандистских методов борьбы объединились в организацию «Черный передел» и впоследствии перешли на марксистские позиции. Их оппоненты, придерживавшиеся тактики террора, образовали организацию «Народная воля».
Руководящим органом «Народной воли» был Исполнительный комитет, в который входили: А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов, А. И. Желябов, А. А. Квятковский, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко, Л. А. Тихомиров, М. Н. Ошанина, А. В. Якимова, А. И. Баранников. «Народная воля» состояла из двух частей: собственно организации и партии. Организация объединяла революционеров, подчинявшихся программе и уставу, всего в нее входили около 500 человек. Партию представляли 2000 сочувствующих, не связанных с организацией определенными обязательствами. Доминирующим в деятельности народовольцев стало проведение террористических актов. 26 августа 1879 г. Исполнительный комитет «Народной воли» вынес очередной смертный приговор Александру II.
Чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы империи, народовольцы постоянно совершенствовали конспирацию. Высшие руководители именовались агентами Исполнительного комитета 3-й степени. Сколько еще степеней существовало и какая из них высшая, оставалось неизвестным даже членам организации. А. Д. Михайлов предъявлял к конспиративным квартирам следующие требования: наличие звукоизоляции и запасного выхода, возможность визуального контроля. Предусматривалось выставление особых опознавательных знаков, служивших для посвященных посетителей сигналом опасности или безопасности конспиративной квартиры. Входившие в состав нелегальных организаций отдельные представители государственных органов знакомили соратников с навыками наружного наблюдения, тайной переписки, военного дела и т. п. Не меньшее значение придавалось снабжению нелегалов документами прикрытия. Использовались документы умерших лиц, похищались бланки, в которые вписывались нужные сведения, изготавливались фальшивые документы.
Наиболее удачной операцией сторонников террористических актов из «Земли и воли», ставших затем народовольцами, было внедрение в 1879 г. в штат III Отделения Н. В. Клеточникова. Мы специально отмечаем, что в 1873 г. он побывал за границей, особо интересуясь политикой. В Петербург прибыл в 1878 г. из Пензы с намерением предложить свои услуги революционерам в качестве боевика. В том же году М. Ф. Фроленко под чужим именем сумел устроиться надзирателем в киевскую тюрьму и способствовал побегу троих арестованных.
Вероятно, этот удачный опыт и использовал А. Д. Михайлов, предложивший Клеточникову внедриться в аппарат государевой службы безопасности. Кроме идеологических мотивов Клеточникову было дано обещание «щедро снабжать его деньгами, а также дать ему возможность в случае какой-либо опасности скрыться за границу» [436]436
Процесс 193-х / Предисл. В. Каллаша; изд. В. М. Саблина. – Б. м., 1906. – С. 82.
[Закрыть]. Внедрение проходило через вдову чиновника III Отделения А. П. Кутузову, которая изучала своих жильцов на предмет использования на агентурной работе. Создав о своей особе благоприятное впечатление, чему способствовали регулярные «проигрыши» в карты, Клеточников попросил подыскать ему должность. Вдова сообщила об этой просьбе в III Отделение, и разведчик «Народной воли» после некоторой проверки был принят в центральный аппарат политической полиции (!). По каким причинам в 1879 г. не были установлены его связи с подпольем, нам не известно; возможно, Клеточников обладал природным талантом оперативника или получил соответствующую специальную подготовку за границей. Мы склонны считать, что это – производное личных качеств и накопленного опыта и знаний.
В любом случае, именно благодаря его работе руководство «Народной воли» длительное время эффективно противодействовало секретным службам империи. Клеточников информировал своих коллег о лицах, находившихся под наблюдением, о готовившихся обысках и арестах, передал сведения о 385 секретных сотрудниках (в основном «наружного наблюдения»), причем не только внутренних, но и зарубежных. Как трудолюбивый и исполнительный сотрудник он пользовался благосклонностью начальства. Эти качества в комплексе с хорошо законспирированной системой передачи информации позволили ему успешно работать в качестве «крота» в течение двух лет.
Параллельно с организацией контрразведки Исполком «Народной воли» начал подготовку к намеченному покушению на императора. В условиях усиленных мер охраны применение холодного и огнестрельного оружия было признано неэффективным. Для покушения решили использовать взрывчатые вещества. Главным техническим экспертом народовольцев стал Н. И. Кибальчич [437]437
Знаменитый военный инженер Э. И. Тотлебен отмечал, что Кибальчича следует засадить за решетку до конца дней, но при этом предоставить ему возможность работать над техническими изобретениями.
[Закрыть], ранее член группы Михайлова и Квятковского «Свобода или смерть». С 1879 г. Кибальчич жил на нелегальном положении и занимался изобретением взрывчатых веществ и взрывных устройств в домашних условиях. К ноябрю, при постоянной угрозе подрыва «гремучего студня», ему и его помощнику С. Ширяеву удалось изготовить около шести пудов (72 кг) динамита [438]438
Название «динамит» происходит от греч.dina – сила.
[Закрыть].

А. И. Желябов
К этому времени террористы подготовили три варианта минирования железной дороги на пути следования царского поезда: под Одессой, под г. Александровск Екатеринославской губернии и под Москвой. В первую группу входили Фроленко, Колоткевич, Лебедева и Кибальчич. Фроленко по документам прикрытия устроился на работу сторожем и должен был взорвать фугас с использованием электродетонатора. Запалы для фугасов всех групп были украдены лейтенантом Н. Сухановым из минного класса. Вторая группа (Желябов, Якимова, Тихонов, Окладский, Пресняков) готовила двусторонний взрыв насыпи через овраг (высотой 44 м). Желябов выступал под именем ярославского купца Черемисова. Третья группа (Михайлов, Перовская, Гартман, Исаев, Ширяев и др.) сняла дом возле полотна железной дороги, откуда провела подкоп и заложила 2 пуда (32 кг) динамита. Таким образом, было предусмотрено тройное «перекрытие» маршрута царского поезда. Фугасы были установлены в местах, обеспечивавших нанесение максимальных повреждений составу. Все подготовительные работы террористы вели конспиративно.
Результаты были следующими. Ввиду штормовой погоды Александр II не поплыл из Ливадии в Одессу, а выехал в Симферополь, обойдя первый фугас стороной. 18 ноября вторая группа пыталась произвести взрыв, но его не последовало. Имеются три версии случившегося: некачественные запалы, техническая ошибка исполнителей или отказ одного из членов группы от террористического акта. Наиболее вероятно, что электропровода перерезал И. Окладский по этическим соображениям. 19 ноября был взорван фугас третьей группы, но не под императорским поездом, а под поездом свиты, в результате чего последний сошел с рельсов. Подрывники перепутали или не знали порядок следования литерных поездов; возможно, что он был изменен на одном из последних перегонов. Все три покушения сорвались. Пусть даже это случайность, но случайность тройная!
После взрыва на Курской железной дороге незамедлительно были предприняты меры противодействия минированию железнодорожного полотна. Уже 27 ноября 1879 г. московский обер-полицмейстер, генерал-майор свиты А. А. Козлов, издал совершенно секретный циркуляр частным приставам и квартальным надзирателям: «При охранительных мерах железнодорожного пути в ожидании следования императорских поездов необходимо иметь в виду, что минные подкопы могут быть проводимы наиболее легко из домов и вообще строений, находящихся в ближайшем расстоянии от полотна железной дороги; но при этом не следует упускать из виду, что устройство батареи возможно и в строениях более удаленных и что соединительные проводы до строения, откуда ведется подкоп от батареи, могут быть положены под снегом на поверхности земли.
Посему предлагаю обращать внимание не только на ближайшие, но и на более отдаленные дома и строения и на все следы, которые могли бы оказаться от подснежного устройства поверхностных проводов, откуда бы таковые следы ни начинались по направлению к полотну железной дороги.
Независимо от этого, находя необходимым иметь ближайшие сведения о всех домах, соседних с рельсовыми путями, я сделал распоряжение о снятии планов с прилегающих к железным дорогам местностей и, давая об этом знать, предлагаю оказать командированным для сего техникам должное содействие» [439]439
Противодействие антигосударственному террору на железных дорогах Российской империи: Сборник документов и материалов / Сост. Н. Д. Литвинов, Ш. М. Нурадинов. – М., 1999. – С. 52.
[Закрыть].

С. Л. Перовская
В то время, когда охранные структуры империи занимались закрытием «брешей» на железных дорогах, народовольцы подготовили очередное покушение. Один из боевиков Исполнительного комитета С. Н. Халтурин устроился на работу столяром (истопником) в Зимний дворец под именем Степана Баташкова (Батурина). Внедрение было многоступенчатым: устройство на работу в мастерские Нового адмиралтейства – знакомство с Г. Петровым – рекомендация последнего столяру Зимнего дворца Р. Бандуле – устройство во дворец. Почему внедрение произошло успешно, способствовали ли этому лица из охраны императора или службы дворцового коменданта? Отметим, что в середине января из киевского Жандармского управления были направлены два сообщения о готовившемся во дворце взрыве «посредством особого аппарата, приспособленного на известный период», причем прямо указывалось, «что на печи и трубочистов следует обратить особое внимание» [440]440
Новицкий. В. Д.Указ. соч. – С. 120.
[Закрыть].
Постепенно Халтурину удалось пронести и заложить в подвале под столовой около трех пудов (48 кг) динамита. 5 февраля 1880 г. в 18 часов должен был состояться торжественный обед по поводу приезда принца Александра Гессенского. Халтурин знал об обеде: он поджег бикфордов шнур с расчетом, чтобы взрыв произошел в тот момент, когда Александр II и его гости сядут за стол, а сам покинул дворец. Однако высокий гость несколько задержался: по официальной версии, опоздал его поезд. В момент взрыва никого из членов императорской фамилии в обеденном зале не было. В результате взрыва погибли 11 военнослужащих лейб-гвардии Финляндского полка, находившиеся в караульном помещении на первом этаже – между подвалом и столовой, 57 человек были ранены. Халтурин благополучно скрылся из Петербурга и находился на нелегальном положении до 1882 г.
После взрыва в Зимнем дворце высшее общество находилось в шоке. Великий князь Константин Константинович писал в дневнике, что российский террор отличается от французского тем, что парижане в революции видели своих врагов в лицо, а российские власти своих врагов не видят и не знают. 9 февраля 1880 г. Александр II подписал указ об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия.
В указе говорилось: «5. В видах объединения действий всех властей по охранению государственного порядка и общественного спокойствия предоставить главному начальнику Верховной распорядительной комиссии по всем делам, относящимся к такому охранению:
а) права главноначальствующего в С.-Петербурге и его окрестностях, с непосредственным подчинением ему с. – петербургского градоначальника;
б) прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в С.-Петербурге и С.-Петербургском военном округе; и
в) верховное направление упомянутых в предыдущем пункте дел по всем другим местностям Российской империи.
6. Все требования главного начальника <…> комиссии по делам об охранении государственного порядка и общественного спокойствия подлежат немедленному исполнению как местными начальствами, генерал-губернаторами, губернаторами и градоначальниками, так и со стороны всех ведомств, не исключая военного.
7. Все ведомства обязаны оказывать главному начальнику <…> комиссии полное содействие. <…>
9. Независимо от сего предоставить главному начальнику <…> комиссии делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми для охранения государственного порядка и общественного спокойствия как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи, причем от усмотрения его зависит определять меры взыскания за неисполнение или несоблюдение сих распоряжений и мер. <…>
10. Распоряжения главного начальника <…> комиссии и принимаемые им меры должны подлежать безусловному исполнению и соблюдению всеми и каждым и могут быть отменены только им самим или особым Высочайшим повелением» [441]441
ГАРФ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 31. Лл. 2–4 об.
[Закрыть].
Главным начальником стал М. Т. Лорис-Меликов [442]442
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) – российский государственный и военный деятель, с 1854 г. генерал-майор, с 1862 г. генерал-лейтенант, с 1875 г. генерал от кавалерии, с 1878 г. граф. На военной службе с 1843 г. С конца 1840-х гг. участвовал в военных действиях против Шамиля, главы мусульманского военно-бюкратического государства в Дагестане, в 1853–1856 гг. – на Закавказском театре Крымской войны. В 1861–1863 гг. военный начальник Южного Дагестана, градоначальник Дербента. В 1863–1875 гг. начальник Терской области. В период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал корпусом на Кавказе. В 1879–1880 гг. временный генерал-губернатор ряда областей. С февраля 1880 г. главный начальник Верховной распорядительной комиссии, затем министр внутренних дел и шеф жандармов. С 1881 г. в отставке.
[Закрыть], которого современники характеризовали так: «Волчьи зубы, лисий хвост». Он получил практически диктаторские полномочия. 3–4 марта III Отделение и Корпус жандармов «временно подчинили» Верховной распорядительной комиссии, формальным главой этих ведомств стал генерал свиты П. А. Черевин [443]443
Черевин Петр Александрович (1837–1896) – российский государственный и военный деятель, с 1878 г. генерал-майор, с 1886 г. генерал-лейтенант, с 1894 г. генерал-адъютант. На военной службе с 1855 г. Участник Кавказских кампаний 1860–1862 гг. и подавления Польского восстания 1863–1864 гг. Член Следственной комиссии 1866–1867 гг. В 1868–1869 гг. флигель-адъютант Александра II. В 1867–1878 гг. командир Собственного Его Императорского Величества конвоя. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Начальник штаба Корпуса жандармов и управляющий III Отделением (ноябрь – декабрь 1878 г.), затем шеф жандармов и главный начальник III Отделения (февраль – август 1880 г.). В 1881–1894 гг. главнозаведующий охраной Его Императорского Величества.
[Закрыть].
Общее положение дел в системе оперативно-розыскных, режимно-заградительных и других мероприятий, проводившихся по линии исполнительной полиции, позволяют оценить циркуляры московского обер-полицмейстера А. А. Козлова частным приставам и квартальным надзирателям, которые вы найдете в конце главы.
11 апреля 1880 г. Лорис-Меликов направил на имя императора доклад, в котором констатировал необходимость координации деятельности правоохранительных органов империи и проведения политических преобразований. Александр II наложил на докладе резолюцию: «Благодарю за откровенное изложение твоих мыслей, которые почти во всем согласны с моими собственными» [444]444
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 674. Л. 1.
[Закрыть].
6 августа был подписан указ о ликвидации Верховной распорядительной комиссии. В соответствии с указом III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии упразднялось, его функции перешли к вновь созданному Департаменту государственной полиции МВД. Министром внутренних дел и шефом жандармов стал Лорис-Меликов, а первым директором Департамента государственной полиции – барон И. О. Велио [445]445
Велио Иван Осипович (1830–1899) – российский государственный деятель. В 1847–1861 гг. чиновник МИД. В 1861–1866 гг. херсонский вице-губернатор, бессарабский губернатор, одесский градоначальник, симбирский губернатор. В 1866–1867 гг. директор Департамента исполнительной полиции МВД. В 1868–1880 гг. директор Департамента почт и телеграфов. В 1880–1881 гг. директор Департамента государственной полиции. С 1881 г. сенатор. С 1896 г. член Госсовета.
[Закрыть].

М. Т. Лорис-Меликов
На практике все происходило не так быстро и гладко, как задумывалось. Формирование штатов нового органа политического сыска началось только в середине ноября 1880 г. Из 72 штатных единиц III Отделения в МВД была занята только 21. Прием сотрудников осуществлялся в соответствии с мнением Лорис-Меликова о порядке формирования Департамента государственной полиции: «Делопроизводство в оном может быть вверено только таким лицам, которые, обладая необходимыми для службы в высшем правительственном учреждении познаниями и способностями, вполне заслуживают доверия по своим нравственным качествам, выдержанности характера и политической благонадежности» [446]446
ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1880. Д. 98. Л. 30.
[Закрыть]. Несмотря на правильные критерии отбора сотрудников центрального аппарата Департамента, Клеточников, например, отбор прошел и был принят на службу, в то время как большому числу кадровых сотрудников с достаточным оперативным опытом было отказано, поскольку они придерживались мнения, отличного от мнения нового руководства.
Тем временем Исполнительный комитет «Народной воли» приступил к реализации нового перспективного проекта – к созданию Военной организации. К концу 1880 г. сформировалось ее руководящее ядро. От Исполкома «Народной воли» в него вошли Желябов и Колоткевич, из офицеров – Н. Е. Суханов (первый руководитель), барон А. П. Штромберг и Н. М. Рогачев. Основной задачей Военной организации являлась подготовка захвата власти путем вооруженного восстания. Ставка была сделана на организацию военного переворота под руководством сагитированных офицеров гвардии, армии и флота. Один из лидеров Военной организации А. В. Буцевич говорил, что для организации переворота достаточно 200 или около того офицеров. После захвата власти предполагалось передать ее временному правительству в лице Исполкома «Народной воли». В отличие от «Комитета русских офицеров в Польше» (самостоятельной организации с локальной сепаратистской целью) Военная организация была идеологизированной партийной структурой, подчинявшейся Исполкому и призванной обеспечить захват власти в интересах партии и смену государственного устройства.
Как и их гражданские коллеги, офицеры-народовольцы одобряли террор против представителей власти, считая его ускорителем революции. На вопрос кронштадтских моряков о правах и обязанностях членов «Народной воли» Суханов ответил, что право и обязанность революционера заключены в бомбе.
Непосредственно в террористических актах члены Военной организации практически не участвовали, они занимались организацией ее филиалов в других городах. Кроме Петербурга и Кронштадта военные кружки были организованы в Москве, Киеве, Орле, Витебске, Риге, Митаве, Динабурге, Либаве, Минске, Николаеве, Одессе (всего около 20 городов). Они действовали автономно от остальных организаций народовольцев, уделяя большое внимание конспирации. Дисциплина в кружках была строгой, а в случае провала участников ожидало суровое наказание. Даже после ареста большинства руководителей «Народной воли», в том числе и Суханова, Военная организация продолжала нелегальную работу почти два года. Структура и методы ее работы стали примером для многих нелегальных политических партий, существовавших в России на рубеже XIX–XX вв.