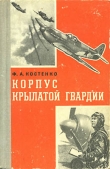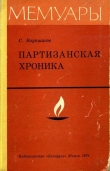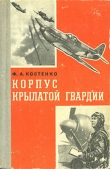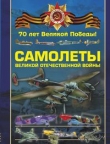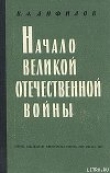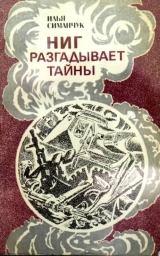
Текст книги "НИГ разгадывает тайны. Хроника ежедневного риска"
Автор книги: Илья Симанчук
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
А главное – ведь война идет! Столько бед и горя вокруг, столько дел и невзгод. Так можно ли о чем-то мечтать?
Воскресенья сменялись буднями, и вновь девушки принимались за исследования образцов вражеских порохов. Если появилась новая партия, значит, вернулся из очередной своей поездки в действующую армию Борошнев, привез какие-то новинки, снаряды и целые выстрелы. Катя вприпрыжку летела с пятого этажа в знаменитый подвал и отбирала там небольшие порции порохов для анализов, для определения состава. Очень ей хотелось послушать рассказы начальника про командировочные эпизоды, про обстановку близ передовой. Но не всегда это удавалось! А чаще всего, завидев свою лаборантку, Борошнев обрывал свой рассказ.
Вот и опять не успела Катя к борошневскому импровизированному отчету и спросила с обидой:
– Товарищ капитан, почему вы нам ничего не рассказываете про ваши поездки? Мы же ваши сотрудницы!
– Честное слово, поездки самые обычные, – попытался оправдаться Борошнев. – Приезжаю, мне объясняют, где найти склад, я туда добираюсь, ищу новинки и уезжаю с ними обратно. Вот и все.
– Ну да-а!.. – недоверчиво протянула Катя. – Это же – без подробностей, а они-то, наверное, самые интересные?
– Что вы, Екатерина Александровна! – воскликнул Борошнев. (Он, смущая своих молоденьких лаборанток, называл их не иначе как по имени и отчеству.) – Поверьте мне, абсолютно все неинтересно. Дорожные тяготы, грязь, всякие – ну, бытовые, так сказать, – затруднения… Уверяю вас, романтики никакой нет.
– Раз так, – попробовала Катя осуществить свою давнюю затею, – то в следующую вашу поездку возьмите меня с собой. Пожалуйста, товарищ капитан, Владимир Алексеевич, ну возьмите! Должна же я хоть разик побывать в прифронтовой полосе? А то сидим безвылазно на своем этаже.
– И не просите. Это невозможно, – отрезал Борошнев.
– Почему? Я ведь сильная, не смотрите, что маленькая. И вы же сами сказали: никаких нет опасностей, спокойно и обычно. А трудностей я не боюсь.
– Да не женское это дело…
– Женщины вон вовсю воюют! И снайперы, и летчицы, и партизанки… А вы меня даже до командировки не допускаете.
– Зачем она вам?
– Хочу узнать и увидеть, как достаются те самые пороха, что потом к нам в лабораторию попадают. По-моему, это не каприз.
– Ну, вот что, – не выдержал Борошнев. – Я не сам себе командировки намечаю. Меня в них направляет Алексей Игнатьевич Клюев, У него и проситесь! Но учтите – если он поинтересуется моим мнением, я – против.
Огорченной поднялась Катя на свой пятый этаж. Впрочем, другого она и не ожидала… Решила с огорчения попить чаю – хорошо хоть взрывчатники снабдили добытым где-то сахарином. Ну а в качестве заварки старшая Катя навезла из своей Лосинки насушенных листьев смородины. Ничего получилось – духовито! Для заварки вместо чайника у девушек была приспособлена большая колба…
Холодно и голодно жилось членам НИГ в их родимом подвале. Да-да, и жилось, ибо прямо там стояли их железные койки. От неимоверного напряжения, от нехватки питания часто приходилось маяться головными болями… Но ведь они – химики, черт побери! Неужто не смогут помочь себе? И вот Клюев, Мещеряков, Попов путем очень сложного синтеза смогли получить из вражеского толуола – смертоносной взрывчатки —…сахарин! Он стал существенным добавлением к их скудным пайкам: сорока граммам крупы, пяти граммам жиров, какому-то непонятному клейкому суфле, дававшемуся помимо карточек…
Не раз они шутили между собой – вот бы сделать химический анализ этого продукта, да все руки не доходили. А никогда не унывающий Мещеряков изрекал каждый раз свою знаменитую формулировку: «Обед был схвачен!»
Хлеб по карточкам получали на Солянке. Там же можно было отовариться толикой крупы. К этому добавляли кто что найдет и варили в фарфоровых стаканах, ставя их на асбестовые сетки.
Не раз поднимался в лабораторию к девушкам и Алексей Игнатьевич Клюев со своим небольшим мешочком крупы. Все знали, что из пайка он оставляет себе самую малость, а основное стремится отправить жене и детям.
Ставил Клюев стакан с кашей на плитку и садился мудрствовать над бесконечными записями. Погружался в них настолько, что не слышал, как его «обед» начинал пыхтеть и шипеть. Спохватывался лишь тогда, когда девушки со всех ног кидались снимать с огня «убежавшую» кашу. Потом, ковыряя в стакане ложкой, Клюев шутливо ворчал:
– Нет у моих сотрудников никакого подхалимажа! У начальства каша горит, а они посторонними делами занимаются, вовремя выключить не могут…
Сколько раз случалось двум Катям – и это если не было круглосуточных анализов – выбираться из лаборатории лишь к полночи. В метро порой не было тока, и девушки вместе с другими, такими же поздними пассажирами спускались на полотно и шли по шпалам до станции «Комсомольская», а там уже садились на электричку.
Когда наступали холода, навьючивали на себя все, что можно было, – эстетические проблемы их не тревожили. Гораздо хуже переносили слякоть: путной обуви не было, а заболеть они себе не позволяли. Младшая Катя сообразила в каблуки своих стареньких бот натолкать резиновые пробки – получалось, будто в ботах нормальные туфли. И ведь в таком виде ухитрялась – опять же, если не было срочных заданий, – ходить в театры!
Кто-то из служащих академии доставал билеты, и девушки побывали на многих операх и балетах Большого, пересмотрели тогдашний репертуар Художественного. Великие мастера искусств, тоже наверняка и усталые, и несытые, не жалели сил и старания, чтобы воодушевить людей, добавить им бодрости и надежды.
Настал однажды день, когда образцы порохов вручил девушкам не Борошнев, а сам Клюев.
– Будьте очень внимательны при анализе, – строго сказал он. – Пороха эти – американские. Поставляют их нам союзники. Во время приемки – никаких казусов, а спустя некоторое время, при стрельбе, начинаются всякие ЧП.
– Известно хоть, какого характера эти ЧП? – спросила старшая Катя. – Чего ждать от них?
– Минометчики жалуются… Судя по всему, чрезмерно нарастает давление в стволе. Можно легко представить, какими неприятностями это грозит, – объяснил Клюев. Помолчал и добавил: – Порохами американскими заинтересовался и хорошо вам известный специалист, Тишунин Иван Васильевич.
Девушки переглянулись. Тишунина они, конечно, знали и даже в занятиях использовали работы этого крупнейшего знатока порохов.
– Результаты ваших анализов и к нему пойдут. Так что вы уж постарайтесь, – заключил Клюев.
Вот когда длительный скрупулезный анализ вели обе Кати вместе. И уже за полночь уловили они весьма характерные изменения американского пороха.
– Смотри, он становится каким-то стеклообразным!
– Запиши, при какой температуре.
– Теперь, если на него попадет струя раскаленных газов воспламенителя, он же раздробится на мелкие частички! От этого и возрастает давление, да еще как… Даже ствол может разорвать.
Другой вид американского пороха, рассчитанного на применение в стрелковом оружии, тоже оказался с подвохом: из-за скачков давления пороховые газы повреждали гильзы, угрожали самому стрелку, прорываясь назад через затвор. Не лучшим был и третий образец пороха, присланного союзниками для использования в реактивных снарядах «катюш». Горел он так неровно и скверно, что мог привести к взрыву снарядов не только в полете, но даже и во время пуска.
Клюев похвалил лаборанток за глубокий, тщательный анализ.
– Вы, девчата, молодцы! Руководство арткома просило передать вам большую благодарность, – сказал он девушкам. – И от профессора Тишунина – особо. Теперь ясно, что с порохами союзников надо ухо держать востро. Его можно будет пускать только на добавки к нашему. Да, многие неприятности предотвратили ваши анализы…
– Я вот что хочу спросить, – по-школьному подняла руку младшая Катя. – Поспорили мы тут! Она говорит, что у американцев, видно, очень небрежно идет технологический процесс производства. И из-за этого, мол, потом происходят всякие неполадки. А я считаю по-другому. Своим-то войскам они, наверно, пороха другого качества поставляют! А то, что для нас, выходит, тяп-ляп изготовляют. Это же вредительством можно назвать!
– Ишь ты, как рассудила… – усмехнулся Клюев. – Они же – наши союзники, стало быть, заинтересованы в успехе наших действий против фашистов! Но, с другой стороны, известно, что еще до войны многие американские и английские фирмы сотрудничали с гитлеровскими. Может, и ныне потихоньку продолжают эти постыдные дела… А если так, то немудрены случаи саботажа и вредительства при выполнении наших заказов. Словом, обе можете оказаться правыми…
…После таких трудных дней стоило ли удивляться тому, что засыпала Катя в электричке? Но домой всегда добиралась нормально, успокаивала маму, которая уже начинала нервничать.
Катя очень любила рассказывать ей, как они работают, как друг другу помогают, как и по ночам по спят – следят за ходом анализов, не обращая внимания на то, что холодно и голодно. Мама так хорошо слушала, участливо качала головой, расспрашивала, если что было непонятно… А однажды, улыбнувшись, даже сказала:
– Рассказываешь ты мне, а я думаю: там, у вас, пожалуй, уже можно вполне коммунизм открывать.
В минуты отдыха, после напряженной разрядки, члены НИГ частенько пели.
– Еду-еду, еду к ней, – затягивал тенорком Мещеряков, подражая полюбившемуся всем Лемешеву. И Клюев охотно подпевал:
– Еду к любушке своей…
Пел Мещеряков «Калитку», старательно выводил:
– Ми-ла-я, ты услы-ышь ме-ня…
С ним соперничал Попов, хорошо освоивший репертуар модного до войны Козина. Особенно часто напевал он «Нищего» на слова Беранже и «Мой костер в тумане светит…». А то гремела под низкими сводами родная, артиллерийская:
– Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину огонь, огонь!
Не раз они до хрипоты спорили о поэзии. Примирял всех Попов, отлично ее знавший. И он же побеждал любого за шахматной доской: помимо природной сообразительности, умения аналитично мыслить, он обладал и солидным знанием шахматной теории.
Именно для него Клюев подобрал однажды особое задание. Поручил разобраться с вражескими сигнальными патронами и прочими пиротехническими средствами.
Оказались они предельно капризными. Кроме того, после многих подсчетов и сопоставлений выяснилось, что имеется немалое количество различных образцов. И немудрено – ведь тридцать пять немецких фирм поставляли вермахту свою продукцию. Какая из них что именно давала? Какой конструкции? Какого качества? Что можно почерпнуть у врага? Какие «изюминки» стоит использовать в отечественной пиротехнике?
Любой пиропатрон, любая сигнальная ракета могли оказаться с подвохом, доставить весьма неприятный и ощутимый сюрприз. А сколько их было, небольших, маленьких, совсем крохотульных! Разбирать их, анализировать Попову приходилось так же скрупулезно и рискованно, как Салазко, – каверзные взрыватели из трофейных боеприпасов. Ведь чуть что – и вспышка! Мало-мальски неосторожное движение – и взрыв, пусть и миниатюрный, но все-таки взрыв… Попов управился с продукцией всех тридцати пяти фирм, не посрамил чести НИГ. И уже в сорок третьем году группой был издан очередной справочник – на сей раз по пиротехническим средствам армии для лучшего управления войсками.
Сколько же таких справочников, наставлений, пособий выпускалось арткомом по материалам НИГ во время войны! Невзрачные, маленькие, напечатанные на плохой бумаге, они вооружали наших бойцов знанием и умением, давали возможность не только защищаться от оружия врага, но и самим использовать его в бою.
Заданий было все больше и больше, и группа понемногу разрасталась. В этом усиленно помогал начальник научно-исследовательского отдела академии Николай Авксентьевич Филиппович, занимавшийся штатами и время от времени подсказывавший Клюеву: ищите себе химика-аналитика, ищите прибориста, препаратора…
Появились в группе фотографы-металловеды, обзавелись даже своей кубовщицей: ведь все в больших количествах требовалась дистиллированная вода. Одним словом, в группе уже насчитывалось около сорока человек.
Здание академии стало напоминать некий «слоеный пирог». В подвале разряжались всякие «посланцы смерти» и там же изготавливались «наглядные пособия». Выше располагались сотрудники арткома. Над ними, как и положено, – этаж командного состава, начиная со Снитко и кончая начальником артиллерии Вороновым. Еще выше – скромные апартаменты Алексея Игнатьевича Клюева. А уж потом шел «лабораторный этаж». Каждый пролет коридора был там ровно стометровым. И говорили все запросто: вот тут – сто метров порохов, а тут – сто метров взрывчатых веществ…
Длинные столы, вытяжные шкафы, калориметры для определения тепла, выделенного при горении того или иного вида пороха, – это было хозяйство двух Екатерин – помощниц Борошнева, ставшего уже майором, неподалеку от них размещалась металлографическая лаборатория, которой ведал Каплин. Работали на этом этаже и химик-аналитик Травьянский, и специалист по стрелковому вооружению и материальной части артиллерии Макаров, и многие другие офицеры – специалисты НИГ.
Были среди младших по званию и должности такие люди, которые, как оказалось, требовались почти на всех этажах. И главный из них – техник Борзов, которого даже начальники в высоких чинах звали не иначе как Иван Михайлович.
– Самый натуральный самородок, – говорил про него Клюев.
– Золотые у тебя руки, Иван Михайлович, – не раз одобрительно отмечали и Мещеряков, и Каплин, и Борошнев.
– Да что вы, какие там золотые! – смущался техник. – Просто они у меня навсегда к металлам прикипели…
По годам вроде бы старик, Борзов с большой охотой и интересом брался за любую новинку, старался ее постичь, и не только постичь, но, если можно, и улучшить, усовершенствовать. Он трудился слесарем на кафедре сопромата, а оставшись в Москве и попав в НИГ, чем только ни занимался. Вплоть до того, что помогал Мещерякову при разрядке совершенно незнакомых образцов боеприпасов…
Правда, для начала обязательно интересовался:
– А не взорвется?
– Да нет, Иван Михайлович, не сомневайся! – как можно спокойнее отвечал Мещеряков. – Ты только аккуратненько.
– Как можно иначе? – вроде бы далее обижался Борзов. И с этими словами, вполне обнадеженный, принимался кернить тоненьким сверлышком точно в указанном месте – где взрыватель граничил с головной частью снаряда, чтобы можно было легче отвернуть и снять его. Специалистам группы он свято доверял и многократно убеждался в оправданности этого доверия.
Однажды Клюеву и Мещерякову довелось заняться по заданию командования совсем уж незнакомым делом. Было решено снять, размножить и разослать в войска учебный фильм под бесхитростным названием: «Умей владеть гранатами противника». И поручили его создание членам НИГ, естественно, прикомандировав к ним режиссера-документалиста.
Что касается разрядки гранат, изготовления макетов, подготовки для съемки «разрезов» гранат крупным планом– все это было хоть и опасно, но вполне привычно. А вот когда понадобился, хоть и немудрящий, сценарий картины, Клюев и Мещеряков изрядно попотели. К тому же Мещерякову предстояло стать и «главным действующим лицом» будущего фильма.
Выезжала съемочная группа почему-то во Владимирскую область. Там, в пустынном, сравнительно ровном месте, застрекотала кинокамера и начал свои образцово-показательные действия Мещеряков.
Он то почти у самого объектива работал с отлично выполненными макетами гранат, а оператор невольно ежился, хотя прекрасно знал, что риска здесь нет никакого… То отбегал подальше и метал уже натуральные боевые гранаты…
Друзья по группе встретили его шутками:
– О, покажи свои опаленные «юпитерами» глаза!
– В какой роли думаете сниматься в следующий раз?
– А правда, что теперь готовится картина «Умей владеть подлодкой противника», и опять с расчетом на тебя?
Унял зубоскалов Клюев, Он похвалил Мещерякова за то, что тот сравнительно быстро управился с этим делом: работы новой много накопилось, так что отдыхать после съемок не придется…
Прошло немного времени, и группу пригласили на улицу Воровского, в Дом кино. Там, в подвальном помещении – это было так привычно «подкидышам» – им показали уже смонтированный фильм. И все остались довольны как его содержанием, так и старательной работой Мещерякова.
– Видите? Доходчиво и наглядно. Лучше даже, чем наши памятки и наставления, – резюмировал Клюев.
Он все больше и больше ощущал ответственность не только за результаты деятельности группы, но и за ее моральное состояние, за воспитание этих взрослых, достаточно уже опытных людей. Он уяснил, что одних надо раззадорить, подстегнуть; других – похвалить, укрепить и дать свободу исследования; третьих – держать в жестких рамках, неотступно руководя ими; четвертым необходимо показать личный пример. Руководство НИГ отнимало почти все время. А еще нередко приходилось делать проблемные доклады на пленумах арткома. Доклады эти представляли большой интерес, так как базировались на конкретных данных и разработках НИГ.
А еще – не оставляли заботы семейные. И не только о своей собственной семье, но и о родных и близких других членов группы. Ведь военное лихолетье многих разметало по стране, обрекло на потери, нужду и лишения…
Весь этот нелегкий груз ответственности и забот не согнул, нет, но основательно подсушил и без того худого Алексея Игнатьевича Клюева. «Кожа да кости, в чем душа держится?» – удивлялись сослуживцы. Досужие остряки из арткома даже прилепили Клюеву шутливую кличку – Кащей Бессмертный. И не подозревали, что буквально вдвойне оказались правы! Ибо Клюев – ну почти как сказочный Кащей, оказался всемогущ среди сотен и тысяч опасностей, среди любого оружия. И уж точно – бессмертен, как и все его подчиненные, благодаря бдительности, расчетливости, порядку.
Порой, наблюдая за уверенными действиями своих ближайших сотрудников, за тем, как быстро и четко разбираются они в сложных незнакомых системах, в их ингредиентах, как толково руководят людьми, Алексей Игнатьевич невольно и радовался и гордился. «На глазах растут, из простых исполнителей толковыми исследователями становятся! Сколько ими освоено! Сколько они уже сейчас знают, умеют.
Борошнев, пожалуй, запросто мог бы со временем написать целую энциклопедию по порохам второй мировой… Фундаментальный труд получился бы, честное слово! А разве Салазко не смог бы создать нечто подобное по многообразию типов взрывателей? Конечно, смог бы, особенно – по вариантам использования во взрывателях различных пластмасс… А Каплин разве не выдюжил бы монографию о металлах этой войны? А Мещеряков? Да он же буквально набит всевозможными сведениями о взрывчатых веществах, о самых последних новинках!
Цены этим изданиям не было бы… Ведь все они – результат огромной работы, уникального опыта, отважного риска, кропотливого поиска, расчета, смелости и еще необъяснимой научной интуиции… У кого сыщется такая подготовка, такая могучая исследовательская база?»
И ведь это – не отвлеченные эксперименты, не абстрактные научные построения. Знания и опыт членов НИГ получены в экстремальных условиях, они не диссертации себе нарабатывали – они рискованными исследованиями своими воевали с врагом, Победу приближали, всему народу нашему служили…
Тем временем близился год сорок четвертый. И всему миру уже было ясно, что он не несет никаких успехов и побед претендентам на земное господство. Япония перешла от агрессивных акций к глухой обороне. Италия уже поспешно капитулировала. Заправилы фашистской Германии вынуждены были отказаться от наступательной стратегии. Только позиционная борьба, только отдаление грядущего разгрома, только поиски сепаратных соглашений на Западе, возможностей раскола союзников по антигитлеровской коалиции – вот о чем помышляли в Берлине.
Но враг пока был силен, в его распоряжении находилось много средств и ресурсов.
В июле сорок четвертого в Германии был достигнут максимум военного производства. Индустрия Германии поставила вермахту более сорока тысяч крупных орудии, более восемнадцати тысяч танков, тридцати четырех тысяч самолетов, три миллиона триста пятьдесят тысяч тонн боеприпасов… Все это были внушительные показатели, особенно если учесть, сколько лет уже вела Германия войну, повинуясь кровавой захватнической стратегии гитлеровской клики.
Однако для наступательных операций даже таких средств оказалось недостаточно. Ведь могучими темпами нарастала мощь советской экономики, мощь Красной Apмии. На ее вооружении появились новые танки и самолеты, новые артиллерийские системы и боеприпасы, число их все более и более увеличивалось. И к началу сорок четвертого года советские войска превзошли противостоящего им противника уже по всем показателям: и по живой силе, и по артиллерии, и по танкам, и по авиации.
Однажды Клюев собрал своих сотрудников и показал им свежий номер «Известий».
– Вот, товарищи, хочу познакомить вас со статьей Наркома вооружения Дмитрия Федоровича Устинова. Называется она «Могучая советская артиллерия» и имеет касательство к нашим делам. Послушайте отрывок.
Клюев прокашлялся и стал читать:
– «Гитлеровцы бросили против нас вооружение, поставленное крупнейшими заводами Германии, Чехословакии, Франции, Италии, Дании, Голландии и других государств Европы. Эти заводы являлись поставщиками орудий для всего мира. После оккупации многих европейских стран Германская армия (судя по трофейным материалам) имела на вооружении около ста семидесяти типов и калибров различных орудий…»
– Вот это да! – воскликнул Салазко. – Точно по нашим работам!
– Конечно, – горячо поддержал его Попов. – Ведь прямо указано – «судя по трофейным материалам». А кто их изучал? Кто всю систему артвооружения и боеприпасов раскрывал? Наша НИГ!
– Погодите, ребята, – поморщился Каплин. – Алексей Игнатьевич, пожалуйста, дальше…
– А дальше: уже про нашу артиллерию, – чуть улыбнувшись, сказал Клюев. – Но ведь и для нее мы на совесть поработали, не так ли?
И снова взялся за газету.
– «…Отечественное артиллерийское вооружение в руках наших доблестных воинов не только с честью выдержало все испытания, не только дало отпор зарвавшемуся врагу, но и наносит ему сокрушительные удары, обеспечивая стремительное наступление Красной Армии…»
Такие минуты бывали для НИГ праздником. Потом снова наступали трудовые, опасные будни. Поступали очередные образцы, их, как водится, сперва обмеряли, взвешивали, изучали общий вид, затем направляли на разрядку.
И, глядя вслед спускавшимся в подвал Клюеву и его соратникам, Филиппович, отвечавший за исследовательскую работу, ловил себя на мысли, которую всегда так старательно гнал прочь: а вернутся ли они живыми невредимыми и на этот раз?