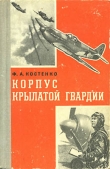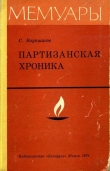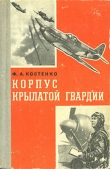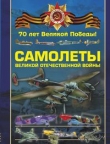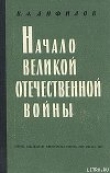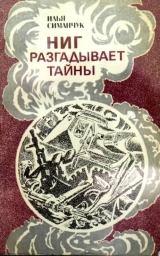
Текст книги "НИГ разгадывает тайны. Хроника ежедневного риска"
Автор книги: Илья Симанчук
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Уцелевшие моряки наспех спустили шлюпки и, уже выгребая от тонущего «Колмара», внезапно заметили перископ и рубку удалявшейся от «Колмара» фашистской подводной лодки. Она, видно, кралась за транспортом, ожидая, когда его можно будет спокойно добить, и беспрепятственно выпустила торпеду.
Подоспел торговый пароход, подобрал тех, кто успел спуститься в шлюпки. Но немало членов экипажа погибло вместе со своим кораблем и важным военным грузом, так и не попавшим в советский порт.
Другой американский корабль – «Дамбойн», вышедший из Бостона, тоже вез в Советский Союз орудия, боеприпасы к ним, танки. Через два дня пути и его настиг шторм. Вот тогда-то матросы, осматривавшие, как закреплен палубный груз, заметили, что чеки скоб, с помощью которых производилось крепление к палубе, были вынуты. Под массивными, в несколько тонн весом, орудиями специальные, внешне вполне надежные фундаменты почему-то оказались хлипкими и совсем разболтались. Не успели плотники ужаснуться и попытаться хоть что-то сделать, как груз «пошел».
Орудия, ломая вдребезги все на своем пути, покатились вправо. К ним присоединились и танки: шесть – в носовой части и четыре – на корме. В Бостоне они были обшиты тесом, закреплены цепями, а в море цепи свалились, обшивка разошлась.
Корабль сильно накренился на правый борт. Все усилия капитана выровнять «Дамбойн» приводили к еще большим разрушениям. Часть танков и орудий свалилась в море. С колоссальным трудом основательно разбитый транспорт доплелся до ближайшего порта.
После погрузки в Филадельфии направился в Советский Союз транспортный корабль «Индепенденс-Холл». Он вез большое количество боеприпасов, запасные части для боевых самолетов, тяжелые танки и грузовики. Пять дней «Индепенденс-Холл» следовал по курсу без всяких происшествий. Но стоило и ему оказаться в штормовых условиях, как обнаружились никудышные крепления. По палубе двинулись двадцативосьмитонные танки, покатились крупные автомашины.
Группа смельчаков, старавшихся укрепить груз, погибла: одни были смыты за борт, другие попали под танки и грузовики. Огромные волны перехлестывали через палубу, швыряя с борта на борт все имущество. В трюме сорвались со своих мест большущие ящики с запасными частями для авиации. Их бросало, точно спичечные коробки. Своими углами они били в бортовую обшивку, проламывая ее. На глазах у беспомощного экипажа корабль погибал под ударами своего же собственного груза.
К полудню следующего дня «Индепенденс-Холл» со скрежетом и грохотом разломился на две части. Спасаться было не на чем: и шлюпки оказались разнесенными в щепки. Но, к счастью, обе половины корабля держались на плаву до тех нор, пока их не прибило к ближайшему острову. А вот весь столь необходимый военный груз ушел на дно…
Происшествия подобного рода повторялись одно за одним. Из Бостона в Советский Союз направился пароход «Уэст-Джафферен», имея на борту танки, боеприпасы, авиачасти и другие военные материалы. Плохо закрепленный груз сместился, сорвался и, основательно изувечив корабль, разрушил всю систему управления. «Уэст-Джафферен» затонул у Нью-Фаундленда через четыре дня пути.
Через пять дней еле-еле добрался обратно до порта грузовой корабль «Эффингем» с военными материалами для Советского Союза, и все по той же причине. Через три дня пути вернулись транспорты «Сити-оф-Флинт» и «Хуан-де-Лорранто». Корабль «Тинтигл» успел за пять суток удалиться на значительное расстояние, но и он был так поврежден плохо закрепленными военными грузами, что пришлось возвращаться назад.
За какие-то два месяца восемь больших транспортных кораблей или затонуло, или было разрушено. Изрядное количество членов их экипажей погибло. А боевой, срочный груз, на который очень рассчитывали советские войска, так и не был доставлен.
В результате расследования выяснилось, что на все восемь кораблей погрузку проводила одна и та же специализированная компания, владелец которой еще в первую мировую войну задерживался американскими властями и обвинялся в пособничестве германской военщине. И не небрежность в креплении грузов, странно повторявшаяся восемь раз, а точно рассчитанная, хорошо разработанная диверсия фашистской агентуры воспрепятствовала тому, чтобы американские транспорты достигли советских портов.
Подобные инциденты пришлись на руку не только фашистам, но и многим руководителям Соединенных Штатов и Англии. Используя их как доказательства крайней опасности и даже бессмысленного риска, они то и дело урезали, а то и попросту прекращали поставку в Советский Союз вооружения, боевой техники, боеприпасов по согласованным и подписанным договорам.
Что ж, советским заводам самим приходилось в неимоверно тяжелых условиях наращивать производство орудии и минометов, танков и самолетов, снарядов, бомб и мин, постепенно достигая в этом превосходства над промышленностью гитлеровской Германии и всех ее сателлитов.
Вернувшись из Баку, Георгий Салазко от анализа боеприпасов союзников перешел к более привычному для себя делу: анализу вражеских боеприпасов, точнее – конструктивных особенностей взрывателей. А заодно – их взаимодействия со всей цепью устройств, обеспечивающих надежную работу снаряда у цели. Он уже назубок знал все сто двадцать четыре образца немецких взрывателей, причем многое в них весьма и весьма его радовало.
– Понимаете – у них взрыватели один мудренее другого, – охотно объяснял Салазко. – И нет ни одного без какого-либо изъяна! Обнаружат просчет – создают новый вариант, еще хитрее предыдущего. А это оборачивается дополнительными трудностями для промышленности. Ведь надо, значит, работать все точнее и точнее, все усложнять производство миниатюрных стальных деталей… А усложнять – это терять в производительности.
Да и не могут они все премудрости обеспечить из стали! Поэтому идут цветные металлы, а прочность у них – не та. Упадет снаряд не под расчетным углом, и взрыватель обламывается. Вот и нет взрыва…
Клюев засадил Салазко за составление труда, в который бы вошли все его наблюдения, выводы и мысли. Наряду с командировками, работой по разрядке боеприпасов и прочими текущими делами Салазко корпел над подготовкой капитального руководства, названного строго и лаконично: «Германские взрыватели. Устройство и применение».
Издание это было доведено до полной готовности и вышло в свет в сорок четвертом году.
Задумывался Салазко и над идеей создания принципиально нового взрывателя. Он набрасывал на листках бумаги какие-то мудреные схемы, подолгу размышлял над ними, потом комкал их и с ожесточением рвал на мелкие кусочки.
– Что ты так осторожничаешь, Юрка? – подшучивали друзья. – В твоих загогулинах все равно ни один шпион не разберется!
Салазко не обижался – тоже улыбался, а потом возвращался к наброскам и снова рвал их – еще мельче.
– Знаете, Алексей Игнатьевич, вот что я надумал, – наконец-то решился Салазко поделиться с Клюевым. – Ведь можно обойтись в снаряде и без обычного взрывателя…
– А что вместо него?
– Крохотульный радиоприемничек. Он будет настроен на прием радиокоманд с наземной станции. Волна – строго определенной частоты, и противник, конечно, ее не знает.
– Ясно. И как твой приемничек будет действовать?
– Время полета снаряда – известно. И когда он достигнет рассчитанной точки траектории, с наземной станции дается сигнал на его подрыв. Как только он поступил в приемник, составляется электрическая цепь электродетонатора, тот срабатывает, и снаряд взрывается. Что скажете, Алексей Игнатьевич?
Клюев улыбнулся.
– Ну, ты и нафантазировал, Георгий Николаевич! Ишь ты! Электродетонатор. Идея, конечно, богатая, но к осуществлению ее мы пока не готовы. Такой приемничек, такую станцию – еще изобретать и создавать надо… Однако молодец, замысел перспективный. Но осуществление его отложим. А пока что есть задачка одна, надо бы над ней покумекать.
…Развивая наступление, батальон тридцатьчетверок с десантом автоматчиков на бортах ворвался в село, укрепленное врагом. Подавив огневые точки, танки двинулись дальше, а автоматчики решили прочесать улицы села.
Бежавший впереди сержант увидел группу отступавших гитлеровцев, швырнул в них гранату и ударил из автомата. Разметав врага, он первым достиг перекрестка. Тут лежало двое убитых в красноармейских шинелях и касках, валялся разбитый ручной пулемет, а рядом ящик с автоматными патронами.
– Смотрите, братцы! – крикнул сержант. Эти ребята сюда как-то раньше нас успели. Непонятно… Но, видно, на засаду, что ли, напоролись… Патроны нам кстати. Набивайте диски…
Вечером – новая атака. Опять – вслед за танками. Сержант на бегу вскинул автомат, дал длинную очередь, изловчился, снова нажал на спусковой крючок и вдруг… Автомат словно взорвался в его руках, сержант рухнул на землю, обливаясь кровью. К нему подбежали товарищи, но было уже поздно.
В той атаке автоматы взорвались еще у троих. В замешательстве взвод не сразу разобрался в причине.
– Это какие-то особые снайперы, – сказал один автоматчик. – Бьют точно по нашим дискам.
– Чушь собачья! – отозвался другой. – Будь у снайпера возможность спокойно прицелиться, стал бы он в диск стрелять? Он бы уж лучше в башку…
– Тут что-то другое, – задумчиво произнес командир взвода. – Может, автоматы были повреждены?
– Ну да! Как часы работали у всех, никто не жаловался.
– Погодите… Если не в автоматах дело, тогда, значит, в патронах?
– А что – в патронах? Патроны самые обычные!
– Нет, нет, давайте разберемся. Где диски заполнили?
– Мы – в конце боя, когда новый боезапас подтащили.
– А мы – еще в атаке, в селе.
– Где же вы там разжились?
– Да наши убитые на перекрестке лежали, а рядом – почти полный ящик патронов.
– И сержант там набивал?
– Он первый увидел и нас позвал.
– Так, так. – Командир взвода резко встал. – У кого есть еще диски с патронами из того ящика? У тебя? И у тебя? Давайте сюда. А ящик тот нельзя найти?
Ящик не нашелся. Зато отыскались другие, тоже найденные во время боя: из них набивали свои диски бойцы соседней дивизии. И там автоматы взрывались, и там погибло несколько человек…
Нужно было срочно разобраться. И эти патроны, прямо в одном из «подозрительных» ящиков, прибыли в Москву, в НИГ.
В подвале собралась почти вся научно-исследовательская группа.
– Давайте быстро искать причину, – сказал Клюев. – Я почти уверен, что выборочно в патроны что-то заложено. Уж больно однотипны истории их попадания к нам!
– Думаете, фрицы специально подкидывают? – спросил Салазко. – Что ж, глянем. Хотя со снарядов на патроны переходить – это вроде бы деквалификация… – И, перехватив строгий взгляд Клюева, поспешил добавить: – Ладно, ладно, шутки в сторону!
Один за одним вынимали патроны из ящика, извлекали пулю и осматривали гильзу. Часа полтора продолжалась эта кропотливая работа. Первым на причину взрывов наткнулся сам Клюев.
– Ах, сволочи! – только и произнес он, глядя в гильзу.
– Что такое?
– Что, Алексей Игнатьевич?
– Вот, глядите… Они туда «восьмерку» засобачили, капсюль-детонатор.
– Все понятно! Специально каждый ящик готовили. Через пятьдесят или там сто штук патронов – один с «восьмеркой». И не сразу рванет, и не у любого…
– Еще один вариант фашистской диверсии, – отметил Клюев. – Теперь надо сообразить, как же распознавать подобные «сюрпризы».
– Конечно! Ведь не вскрывать же абсолютно все патроны?
– Есть идея, – хлопнул себя по колену Салазко. – Надо патроны через рентгеновскую установку пропускать.
– Ну, ты и скажешь… Где их брать, установки эти?
– А что, Алексей Игнатьевич? В медсанбатах их, разумеется, нет. А в госпиталях-то, надеюсь, есть? Словом, каждый найденный ящик в Москву везти не нужно.
– Резон есть… Спасибо, Георгий Николаевич! – согласился Клюев.
Помолчали.
– От Советского информбюро, – послышалось из репродуктора. – В течение дня наши войска вели ожесточенные бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло.
– М-да, – нарушил молчание Попов. – Такое, видно, там сражение заваривается, которого до сих пор не бывало! А мы тут вот сидим…
– Николай Николаевич! Тема запретная для наших разговоров, – резко оборвал его Клюев.
– Виноват. Как-то вырвалось…
– Умейте владеть собой не только при разработке вражеских боеприпасов.
Примерно в это же время, далеко за Атлантическим океаном, вернувшись из Москвы, куда он ездил с официальной миссией, вице-президент Совета военной промышленности Соединенных Штатов Вильям Батт выступал со специальным заявлением:
«Я ехал с чувством некоторой неуверенности в том, способна ли Россия выдержать испытания такой войны, но мне очень скоро пришлось убедиться, что в борьбе принимает участие все население, вплоть до женщин и детей.
Я ехал с довольно скептическим отношением к технике русских, но я увидел, что они очень твердо и умело руководят своими предприятиями и выпускают нужную для войны продукцию.
Я ехал весьма смущенный и озабоченный ходившими у нас толками о разброде и произволе в органах управления страной, но я нашел сильное, опытное правительство, опирающееся на огромный энтузиазм масс…»
Если бы Вильяму Батту довелось, как раз по роду его непосредственной деятельности, познакомиться в той поездке с работой НИГ, он был бы поражен теми результатами, которых добиваются в самых скромных условиях, при скудном обеспечении советские военные инженеры, И его, вне всякого сомнения, удивила бы постоянная готовность маленького коллектива к новым опасным заданиям, к разгадке новых вражеских тайн.
Глава пятая. РЕЙС ПОД БОМБАМИ
«Что же это за штуковина? – размышлял Клюев. – Часть сопла? И здоровенная какая… От снаряда, мины или бомбы?..»
Перед ним лежал большой даже не осколок, а скорее целая часть оболочки какого-то неизвестного мощного снаряда. Явно – сопловая часть с почти полуметровым отверстием для выхода газов.
«Раструб – под углом. Наверно, расположены они были по окружности, – продолжал соображать Клюев. – Похоже на расположение у мин шестиствольных минометов. Но ведь там нет раструбов. И потом – размер-то каков!..»
Кто же ухитрился подобрать, сохранить и переправить эту кусьмину в Москву. Видно, специалист-артиллерист, раз с одного взгляда смог распознать нечто новое в валявшемся большом обломке. А для двух взглядов, тем более для подробного изучения и анализа, ни времени, ни возможности, конечно, не было. Ведь прислали здоровенный осколок из осажденного Севастополя…
В начале июня сорок второго года фашистские армии с воздуха, моря и суши блокировали героических защитников Севастополя. Седьмого июня по приказанию генерал-фельдмаршала Манштейна начался решительный штурм, а перед ним в течение пяти дней на город обрушились десятки тысяч снарядов, бомб и мин.
Бомбардировщики с черными крестами на крыльях пикировали на исковерканные кварталы, швыряя бомбы весом в полторы-две тонны. Ими был буквально сравнен с землей прославленный Малахов Курган.
Отбиваясь от натиска гитлеровских полчищ, взрывая все, что можно было взорвать, покидали Севастополь последние наши бойцы: окровавленные, измученные непрерывными восьмимесячными сражениями, но и не думавшие о капитуляции. И ведь в этом огненном кошмаре, когда от севастопольского берега спешно отходили простреленные и пробитые, но оставшиеся на плаву катера, нашелся какой-то опытный и отважный, знающий артиллерист. Мало ли осколков всяких форм и размеров усеивало в те дни и часы севастопольскую землю? Только истово преданный делу человек способен был держать в памяти приказ – обнаруживать новинки врага в вооружении, боеприпасах и при первой же возможности переправлять на Большую землю.
На одном из последних самолетов из Севастополя прилетела в Москву эта часть неизвестного снаряда, чтобы попасть в подвал к Клюеву. И он невольно думал о том, кто ухитрился переправить ее в Москву, пытался представить себе того человека, вообразить, как все происходило.
«Заряд, несомненно, мощный, – прикидывал далее Клюев. – Но это – не бомба и уж подавно не мина. Судя по всему, реактивный снаряд. Значит, и такими обстреливали фашисты Севастополь… А судя по соплу, по его размеру, лететь эдакая махина может довольно далеко!..
Для анализа и выводов подоспел с фронта – спасибо разведке! – и ряд других материалов. Члены НИГ установили, что по Севастополю вело огонь подлинное чудовище: орудие калибром до восьмисот миллиметров, которое швыряло свои снаряды – по две с половиной тонны – на пять километров. Но присланная сопловая часть не имела к этим снарядам никакого отношения. Как впоследствии оказалось, она находилась в непосредственном родстве с гитлеровским «чудо-оружием» – «ФАУ», которое через два года обрушится на кварталы Лондона.
В августе сорок второго года на Западном фронте началось наше наступление. Развивалось оно в направлении стратегически важной железной дороги Ржев – Вязьма. В ходе этого наступления и был освобожден небольшой городок со странным, видно, идущим из истории, но в те дни вполне оправдывавшимся названием: Погорелое Городище.
Прошло чуть больше месяца после освобождения Погорелого Городища. Шел занудливый, холодный октябрьский дождь. Борошнев и Мещеряков, выбравшись из поезда, ежились от холода и сырости, глядя на развалины станции, на обгоревшие окрестные дома.
– Ну и ну, – протянул Борошнев. – Знаешь, Коля, я видел фотографии этого самого Погорелого Городища буквально на следующий день после его освобождения. Оно целехоньким было! Видно, наши так лихо, так неожиданно для фашистов наступали здесь… А сейчас – действительно головешки одни. Значит и бомбили его потом, и обстреливали… Вот и раздолбали весь городок за месяц.
– Где устраиваться-то будем? – горестно спросил Мещеряков, снова оглядываясь по сторонам. – Переночевать где-то надо, согреться… А то зуб на зуб не попадает.
– Что делать – октябрь кончается!
Долго бродили они среди развалин станции, шлепали по лужам, по грязи. Совсем было отчаялись, но тут попался им на глаза какой-то командир в сравнительно сухой шинели, появившийся, как ни странно, из-под кирпичной груды, неподалеку от путей. Сунулись туда. Оказалось – сохранился большой подвал, и весь он был забит людьми в шинелях или ватниках.
Чиркая спичками и обжигая себе пальцы, друзья осторожно перешагивали через спящих. Одни неистово храпели, другие стонали или метались. Огонек зажженной спички выхватил обросшего рыжей щетиной солдата, который смешно чмокал губами, точно ребенок спросонья.
Наконец Мещеряков и Борошнев оказались в углу, более или менее свободном. Тут же скинули ставшие от сырости пудовыми, шинели и по-походному – одна пола под себя, другая на себя – улеглись: авось и согреемся, и просохнем!
Заснули, конечно, моментально. А когда проснулись – подвал был почти пуст. Вышли на воздух. По небу низко перебегали облака. В их разрывах проглядывали по-весеннему синие-синие кусочки неба. Ни на минуту не утихавший со вчерашнего дня холодный ветер морщил воду в лужах.
Пошли, доложились, добрались до указанного трофейщиками собранного на скорую руку склада боеприпасов. Теперь – плевать на холод и дождь: надо смотреть в оба.
Первым отличился Мещеряков.
– Гляди, Володька! – Он дернул за рукав Борошнева. – Выстрелы к семидесятишести. Знаешь их противотанковую?
– Знаю, конечно.
– Ну, вот и боеприпасы к ней уже известны. А эти – того же калибра, но новые. Раньше такие не встречались! Вот – явно бронебойный. А у этого, гляди, головка снаряда – овальная, взрыватель – маленький. Не иначе какая-то новая разновидность кумулятивного… Их надо бы в Москву, да поскорее!
– Точно, – согласился Борошнев. – Раз ты, Коля, нашел, ты и вези. А я здесь еще покопаюсь: и на этом складе, и в окрестностях… Отступали фашисты здесь спешно, так что побросали, наверно, немало. Ну, договорились?
В обнимку с двумя закутанными выстрелами доехал Мещеряков на товарняке до Волоколамска. Там пересел на нормальный поезд. В Москву попал поздно. Пришлось на Савеловском вокзале сдать трофеи в камеру хранения. Это уже становилось привычным. Рано утром прибежал за ними, и старушка, дежурившая в камере, сказала:
– Вот хорошо, что не задержался. Ты уж забери, ради бога, эти штуки поскорее. До чего же война проклятущая довела! Заместо обыкновенных чемоданов форменное смертоубийство как багаж норовят пристроить…
А Борошнев на следующее утро разузнал у солдат охраны, выделенных из части, освободившей Погорелое Городище, где были артиллерийские позиции врага. Разделавшись с осмотром склада, он, яростно выдирая сапоги из густеющей на холоде грязи, двинулся за станцию.
На опушке рощи, нещадно ободранной лихоимцем-ветром, увидел Борошнев артиллерийские позиции, разбитые орудия, несколько брошенных ящиков с боеприпасами.
Со всей предосторожностью он открыл один ящик, другой. Орудия-то взорвали, а в выстрелы, может, насовали подвохов…
Но нет, ничего подозрительного не заметил. Зато сами выстрелы оказались весьма любопытными. И осколочно-фугасные, и бронебойные, и кумулятивные.
– Выстрелы эти надо доставить в Москву. Помогите мне, пожалуйста, – обратился Борошнев к солдатам трофейной команды.
– Чего ж, надо – значит надо, – деловито отозвался сержант, старший команды. – Как повезете? Прямо в ящиках?
– Нет, в укупорках тяжело. Килограммов по двадцать каждая, я один в дороге с ними не справлюсь.
– Понял вас. Может, возьмете плащ-палатку? У нас их, трофейных, до черта! Кладите сюда… Сколько вам надо? Вот эти три? Хорошо. Потом за края ухватитесь и тащите. А погрузиться мы вам пособим.
Уже смеркалось, когда Борошнева с грузом пристроили на открытую платформу отправлявшегося «сборного» поезда.
– Спасибо, теперь все в порядке. Ну, счастливо! – попрощался он с сержантом.
Поезд дернулся, пошел. Борошнев уселся, бережно придерживая края плащ-палатки. Где-то высоко над головой в сумеречной мгле перекликались невидимые птицы. Наверное, отправлялись зимовать в южные края.
«Куда-нибудь в Африку летят, – решил Борошнев. – Конечно, тут и холод, и война… Впрочем, сейчас и там война! Надо же, на каких площадях, на каких расстояниях развернулась она, чтоб ей ни дна ни покрышки…»
И вдруг явственнее всяких птиц услышал он злобное с придыханием хрипение мотора вражеского самолета. Вот оно все слышнее, все слышнее… Белесоватая омерзительная вспышка осветительной бомбы вырвала из темноты платформу, весь поезд, деревья по обе стороны дороги. Их плоские тени, словно в ужасе, метнулись в разные стороны.
Поезд затормозил довольно резко, так что Борошнев даже потерял равновесие, но груза своего из рук не выпустил. Где-то впереди прогрохотал взрыв. Свет погас, и поезд рванулся вперед. Повисла на парашюте следующая осветительная бомба. Поезд снова сбросил скорость. И так же, рывком, метнулся вперед. Теперь взрыв грянул слева от пути. Взрывная волна долетела до Борошнева, и он чуть было ее свалился с платформы.
«А если какой-то шальной осколок бомбы ударит в мои выстрелы, как только поезд опять приостановится? Сгрести в охапку свое добро и в лес? А потом что? Да, надо же было мне ляпнуть сержанту: все теперь, мол, в порядке… Нужно, видно, теперь понадеяться на машиниста. Отчаянный и дело свое знает – будь здоров!»
Еще несколько раз озаряли мертвенным светом все вокруг осветительные бомбы. Еще несколько заходов сделали фашистские самолеты, устремляясь в пике, норовя разнести в щепки и какой-то неистребимый, будто заговоренный, поезд, и само железнодорожное полотно. То слева, то справа, то сзади, то спереди грохотали взрывы. Но все впустую.
В этом ожесточенном, яростном поединке беззащитного поезда с бомбардировщиками врага как-то судорожно проскочила ночь. Борошнев с удивлением заметил, что уже начало светать и между деревьями разлилось молочное марево. Тут он вновь различил перестук колес на стыках рельсов и понял – исчезли проклятые самолеты. Ай да молодец машинист! Ему бы орден за такой рейс…
Только теперь Борошнев почувствовал, что у него совсем закоченели ноги. Сапоги, видно, не просохли от непролазной грязи, а под утро похолодало. Он даже различил, что близкие к дороге кусты и трава посеребрены инеем.
Борошнев стучал ногами, бил одной об другую. Помогало не очень… Хорошо, что наконец доехали до какой-то станции, на которой стоял нормальный пассажирский поезд, уже собравшийся отойти в сторону Москвы.
Борошнев спрыгнул со своей платформы, стащил груз и на негнущихся одеревеневших ногах устремился к поезду. На ступеньках ближнего вагона покуривали два молоденьких лейтенанта.
– Подсобите, ребята, – на ходу крикнул Борошнев, и те, как по команде бросив окурки, подхватили и провисшую под тяжестью выстрелов плащ-палатку, и самого перемазанного окоченевшего капитана.
Только в купе, аккуратно пристроив груз, сняв сапоги и растерев ноги, Борошнев с досадой мысленно корил себя: «Эх, ты, голова садовая! А про машиниста забыл? Как зовут – не узнал. Да хоть бы просто спасибо сказал, руку пожал… Ишь, поскакал пересаживаться!..» Сразу стало жарко от нахлынувшего стыда.
Образцы, доставленные Борошневым и попавшие наконец в подвал академии, крайне заинтересовали не только Клюева, но и начальство повыше, и многих специалистов-боеприпасников, и директоров оборонных предприятий. Действительно, подобные экземпляры были обнаружены впервые и их требовалось изучить, а потом – использовать для усиления советской артиллерии как можно скорее.
Все чаще, все в больших количествах стали захватывать наши войска орудия врага. В боевой обстановке так было порой важно быстро открыть из них огонь по их же бывшим хозяевам… Но, чтобы не палить «в белый свет, как в копеечку», а вести огонь прицельно и точно, требовались немецкие таблицы стрельб, в которых учитывались различные причины рассеивания и отклонения снарядов. С их помощью советские артиллеристы смогли бы вводить поправки в прицелы при перелетах или недолетах, при боковых отклонениях. И вот по всем фронтам разведчики начали поиск вражеских таблиц стрельб.
Среди ночи охранявший батарею гаубиц немецкий часовой насторожился: ему послышался шорох со стороны ближних кустов. Часовой заколебался – позвать на помощь или приглядеться к подозрительным кустам? Но едва он, крадучись, сделал шаг вперед, как сзади, от блиндажа, из которого доносился храп, кто-то неожиданно прыгнул ему на спину.
Оба упали. Но встал только прыгавший. Он мигнул из рукава лучом фонарика в кусты. Оттуда возникли четыре фигуры и, неслышно ступая, двинулись к отдельной землянке, в которой изволили отдыхать господа офицеры – артиллеристы, обладатели таблиц и других полезных документов…
По проселочной дороге мчался немецкий мотоциклист. Он спешил – из штаба артиллерийского полка надо было поскорее доставить в дивизион установки для стрельбы, а связь никак не удавалось наладить из-за русских артналетов.
Мотоциклист привстал в седле – впереди показалась большая лужа, которой вчера еще не было. «Разве ночью шел дождь?» – недоуменно подумал солдат и тут же заметил, что середина лужи с истинно немецкой аккуратностью забросана нарубленными ветками.
Ухмыльнувшись, он прибавил газу, влетел передним колесом на ветки и, даже не успел крикнуть, ухнул в невесть откуда взявшуюся яму. Когда его труп нашел патруль, большой полевой сумки с пакетом для дивизиона – как не бывало…
После мощной артиллерийской подготовки на прорыв вражеской обороны устремились советские танки. На их броне разместились автоматчики десанта. Впрочем, были среди них и какие-то незнакомые сержанты, явно не из этого батальона.
Танки, ведя на ходу огонь из пушек и пулеметов, преодолели первую линию траншей. Когда добрались до второй, в разных местах стали вспыхивать очаги сопротивления. Тут автоматчики соскочили на землю и вступили в бой. На броне же остались только те незнакомые сержанты.
Вот впереди показалась противотанковая батарея врага. Две разбитые пушки валялись вверх колесами. Одна уткнулась стволом в грунт. А из четвертой уцелевшие фашистские артиллеристы пытались было ударить по танкам. Но успели выпустить только один снаряд. Он попал в башню передней машины и, срикошетировав, ушел в сторону. Расчет вражеской пушки бросился наутек.
С советского танка спрыгнули сержанты. Они добежали до огневой позиции и, несмотря на то что бой еще продолжался, приступили к тщательному поиску немецких таблиц стрельб…
А когда эти самые таблицы (трижды продублированные) с фронтов попали в НИГ, закипела работа: надо было их перевести, изучить, сделать к ним пояснения… И конечно же издать, издать массовыми тиражами для всех наших войск. Параллельно печатались разработки, памятки, в которых растолковывались устройства вражеских орудий, минометов, даже гранат, объяснялось, как их использовать против фашистов. Изданием и распространением в войсках всего этого занимался специальный отдел арткома.
«Красная звезда» в то время часто сообщала: «В бою за деревню К. старшина Кротов захватил вражеское орудие, повернул его в сторону отступающего противника, прямой наводкой подбил фашистский танк и расстрелял до взвода пехоты…»
«Командир орудия Капитонов и наводчик Ярошенко, захватив в бою за город М. вражеское орудие, развернули его и открыли беглый огонь по противнику…»
«Удачно использовали захваченные у врага гаубицы огневики части, которой командует подполковник 3. Ведя меткую стрельбу с закрытой позиции, они сумели подавить вражеские огневые точки и обеспечили успешные наступательные действия пехоты…»
Каждый раз, читая подобные сообщения, Клюев и его соратники думали об одном: в умелых действиях наших бойцов есть и их труда частичка…
А вскоре на страницах «Красной звезды» появилась даже аналитическая, со всякими примерами, статья, присланная с Южного фронта, которая так и называлась: «Тактическое применение немецкой артиллерии». И в ней описывались типы вражеских орудий, варианты их маскировки, рассредоточения и использования для ведения огня.
Словом, использование вражеского оружия стало широко распространенным явлением!
Задания НИГ все усложнялись. Когда начались челночные действия бомбардировочной авиации союзников, генерал Снитко вызвал к себе Клюева.
– Вот какая просьба, Алексей Игнатьевич. Вы ведь, анализируя полученные боеприпасы, обращаете внимание на их клейма и маркировки?
– Так точно, товарищ генерал!
– Попытайтесь, суммируя данные, перевести итоги анализа в плоскость географии, если можно так выразиться. Вы понимаете, что я имею в виду?
– Понимаю, товарищ генерал, – ответил Клюев, который и сам не раз об этом думал.
– Кое-что будет поступать к вам в качестве дополнения к вашему анализу. Некоторые разведывательные данные, например… некоторые сведения, почерпнутые из допросов пленных… Ну, и так далее.