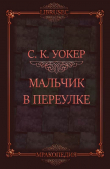Текст книги ""В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ""
Автор книги: Илья Эренбург
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Прахов усмехнулся:
– Совсем под Толстого работаете, а я думал – Сократ. Малиновый сироп! Только где вы видали таких сердобольных барышень и бескорыстных нищих?
Освальд Сигизмундович ничего не ответил. После едва заметного колебания он вынул из кармана маленькое колечко и показал его Прахову. Разыгралась немая сцена, полная неожиданного для обоих трагизма. Мог ли не узнать Прахов злополучного подношения? Он замер – перед ним стояла Таня: «Что это?…» Ему показывали страшную улику. Он крепко сжал руку старика, боясь, что тот попытается убежать.
– Ах, вот что!… Обчистил ее!… Убил!… Отвечай, убил?
Спокойно глядел Освальд Сигизмундович на Прахова серыми печальными глазами, глядел и молчал. А Прахов ждал. Несмотря на ярость, он почувствовал вдруг освобождение. Мысль о том, что Таню убил какой-то нищий, была ему приятной. Это снимало вину с него. Это и уничтожало надежды: «А вдруг жива?» Это закрывало тревожную историю всего месяца.
– Ну?… Убийца!
Тогда Освальд Сигизмундович резко встал, высвободил свою руку и высокомерно проговорил:
– Я не хочу с вами разговаривать. Вы можете позвать милицию, арестовать меня, вы можете меня убить на месте, но разговаривать с вами я не стану. Человек, способный на столь подлое подозрение, низок и недостоин человеческой речи. Я не ошибся, увидев ваши глаза. Такие глаза бывают только у преступников.
Прахов сидел согнувшись. Когда старик упомянул о его глазах, он инстинктивно закрыл глаза ладонью. Обладал ли голос Освальда Сигизмундовича непонятной силой над этим человеком, или он услышал вновь другой голос, своей совести? Не знаю. Только сидел он молча, не двигаясь, понурый, тусклый, ничтожный. А Освальд Сигизмундович ждал:
– Что же вы не зовете милицию?
Тогда Прахов осмелился взглянуть на старика. Он почувствовал острый стыд. До чего нелепо обвинение! Зачем бы убийца стал хранить кольцо, да еще показывать его чуть ли не первому встречному? То, что он называл «притчей»,– правда. Таня ушла из дома ночью, она решила покончить с собой, И последнее, что она сделала,– это вот нечаянный подарок спавшему нищему. Прощальная улыбка… Робко, заплетающимся голосом Прахов проговорил:
– Это вам Таня дала… Перед смертью… Я ее убил!…
Освальд Сигизмундович не позвал милицейского. Он не схватил Прахова. Он даже не отвернулся с вполне естественной брезгливостью. Нет, проведя рукой по своим слегка замутневшим глазам, он сказал:
– За всю мою жизнь только один раз, увидев в картузе это кольцо, я узнал, что значит женская нежность. Но возьмите его. Вы помните лицо этой девушки и руку, на которой был перстень. Вам остается еще долго жить, а мои дни сочтены. Вам эта память нужнее…
И, вложив в руку Прахова колечко, Освальд Сигизмундович вышел из комнаты.
15. НОЧЬЮ У МОСКВЫ РЕКИ
Горбат Проточный переулок. Наверху Смоленский, ларьки, чайные, воркотня папиросников, милицейские – жизнь наверху, а внизу Москва-река, значит, свежесть, отдых, спокойствие. Конечно, река у нас не бог весть какая, приезжие посмеиваются: «Море, берега не видать»,– и действительно, летом скудеет речонка, кажется, что ребята, засучив штанишки, добегут вброд до Дорогомилова, не пышное это зрелище. Однако, для Проточного здесь и красота, и умиление, и по-модному – «гигиена». На «гигиене» все помешались: живут кучей, некоторые не меняют рубахи от Рождества до Пасхи, так что рубаха копошится, а гигиену уважают. Даже закусочная, где в котле угрюмо ворочаются рубцы или щи, где тянут из чайников горькую, а дерутся до крови, но тихо, даже эта обжорка гордо именуется «Закусочная «Гигиена».
В воскресенье Проточный катится вниз к речке. Делопроизводитель принимает солнечные ванны, стараясь загореть всюду, даже под мышкой, а Панкратов, перекрестясь, степенно влезает в воду, окунается, фыркает, сплевывает, чешет спину; долго стоит он в воде, багровый, массивный, блистающий, как медный монумент. Вокруг пескарями вьются персюки, гражданка Лойтер кормит не то Осеньку, не то Илика крутыми яйцами, жулье, распустившись веером, картежничает, передергивает, бранится, но, защекоченное нежным ветерком, умолкает. Благодать! Сядешь здесь и задумаешься: над чем, дорогие друзья, вы смеетесь? Чем хуже эта мирная картина всяких Гурзуфов? Конечно, ни роз, ни магнолий здесь нет, если и цвел в церковном дворике курослеп, давно оборвали его ребятишки, но ведь это Проточный, своя дача, своя красота; подумайте только: после «Ивановки» – река с лодочкой! Не в богатстве ландшафта суть, в чувствах… Впрочем, не додумав, лезешь в воду: соблазнительно полощутся персюки.
А в будни здесь тихо. Ругается перевозчик – ему подсунули царский гривенник: хоть красивая птица орел, не летает он больше. Ребята прибегут, пошумят, выкупаются и – назад, на Смоленский, там веселей. Дрыхнет какой-нибудь гражданин, не добравшись с именин домой. Пусто, грустно. Плохие у лодочника дела: редко кто с того берега переедет сюда, спеша на рынок, идут мостом – «копейка рубль бережет». А к ночи и последние фигуры исчезают. Жулики – народ трусливый, своих же боятся: хоть ничего на человеке нет, кроме рваных портков, а вдруг с пьяных глаз пырнут… В безлунные ночи здесь темно, как будто это не Москва, а глушь. Только страсть иногда побеждает страх – женщины приводят сюда своих клиентов и, за неимением местечка поукромней, располагаются возле глухих заборов, на самом берегу. Дело это дешевое, скорое – «гости» не задерживаются, женщины тоже: получив полтинник, спешат наверх в «Гигиену» – пропить его. Так что никто здесь ночью не любуется Москвой-рекой. А жаль, вот когда бы ею любоваться!
Чего только с нами не делает ночь! Задумчиво мерцает вода, и кажется Москва-река большущей рекой, широкой, глубокой. Таинственно маячат огни Дорогомилова, не окраина это, где пыль, пивоваренный завод, сапожники, кладбище, а неведомый город. Может быть, там шумная жизнь, веселье, свет, музыка? А здесь только вода и звезды; каждый звук здесь неожидан и трогает сердце: торопливый шаг запоздавшего пешехода напоминает – «вот так и ты, застигнут ночью, далеко от крова и от счастья»,– а занесенный ветром визг гармошки доводит до слез: как умеют люди любить, как умеют они в трущобах Проточного находить для своих чувств такие пронзительные звуки! Но сильней всего волнует тишина. Всякий раз, приходя сюда, я забывал о своих невзгодах, об ущемленном самолюбии, о близкой старости, о соседях, о том, что живу в Проточном, обо всем забывал – открывалась простая правда: хорошо жить на земле, замечательно это выдумано – и река, и огни, и то, что дышишь!
Впрочем, не о своих вдоволь избитых чувствованиях я хочу сейчас рассказать. В тот вечер меня здесь и не было. Освальд Сигизмундович, искавший спокойного ночлега, удовлетворенно подумал: сегодня никого нет. Он поглядел на далекие огни, и тогда охватил его легкий испуг: огоньки удалялись, они как бы убегали от его глаз, один пропал, другой – темень. Старик прикрыл глаза рукой: вот и зрение ослабевает, сердце пошаливает, глуховат, совсем сносился бывший преподаватель латыни. Сколько ему еще жить? Год? Два? Все равно: он свое увидел. Тяжело умирать, когда тебя манит жизнь, корда все в ней внове, как в первом акте комедии. Завязывается интрига, неизвестно, кого полюбит героиня, как сложится судьба симпатичного героя. Но вот уже пятое действие – под шарканье нетерпеливых зрителей, спешащих в гардеробную, любимец автора, резонерствующий дядюшка, договаривает последний монолог. Смолоду кажется – как это можно жить, если знаешь, что умрешь, обязательно умрешь? А приближаясь к смерти, видишь – нестрашно. Редеет жизнь – нет больше друзей, сверстников. Другие зрители смотрят другие пьесы, твоя доиграна. Безразличие охватывает: кто там кого – все равно! Освальд Сигизмундович лег, потянулся.
Но не спалось ему: переутомился, весь день провел на ногах, болела рука,– верно, погода меняется – ревматизм. Если завтра будет дождь – беда, некуда укрыться. Противная боль в плече тянет, и сердце замирает. Спать привык он на боку, подложив руку под щеку, а пришлось лечь на спину: задыхался. Сон не шел. Он лежал и глядел на звезды. Звезды не убегали, как огни за речкой, но светлели, множились, обращая весь небосвод в одно печальное сияние. «Заманивают,– равнодушно подумал Освальд Сигизмундович,– а не все ли равно, здесь или там?… Надо попытаться уснуть на спине…»
С детьми было легче. Как смешно прыгал Журавка, когда стащил окорок. Почему здесь нет Журавки?… И тот, маленький – «Футурум». Он, наверное, будет разбойником. Или гением Когорты. При чем тут когорты?
Никогда Освальд Сигизмундович не тяготился так одиночеством, как в эту ночь. Подвал абрикосового домика казался ему уютной квартирой: была семья, детские голоса, смех. А сейчас никого. Только сердитые толчки сердца и звезды. Он хотел было встать, чтобы добраться до Смоленского – все же там люди,– но ноги отказывались идти. Хоть бы пришел сюда милицейский. Услышать крик, брань, все равно, только живой человеческий голос! Вот еще недавно он радовался безлюдью, а теперь все, кажется, отдал бы за трусливо озирающуюся парочку, из тех, кто ходит сюда «баловаться». Но нет, спят все – и гулящие женщины, и милицейские, и дети. Только звезды пристают к старику: «Это мы, светлые, вечные, непогасимые…»
Он начал, кажется, забываться, когда вдруг всего его передернуло, сердце забилось быстро, бестолково, то и дело останавливаясь, сильнее прежнего заныла рука. Он теперь громко стонал от боли и от страха. «Неужели я умираю? Нет, просто ревматизм. Теперь бы в тепло, и руку натереть бальзамом, все прошло бы. А может быть, это и есть смерть?… Без торжественности, без высоких мыслей: как шелудивая собака. Не хочу!» Да, оказалось, что он еще не готов, еще не хочет он. Бывают ли готовы к этому люди? Немного бы, год, ну, три месяца – до зимы! Куда-нибудь за город. Лес. С Журавкой. «Кхе-кхе! Живем…» Зачем звезды? Если лежать не двигаясь, легче. Отложите!… Слышите?…
Мысли путались. Не было в его голове ни сознания величественности часа, ни сожаления о былом, ни стройной картины прожитой жизни. Все мешалось. Почему мундир пахнет нафталином? Вы б его, Авдотья, проветрили. Поздно, голубчик! Теперь декреты. Старье! «Князь, свиное ухо видел?» Набавляй еще рубль. Глотков Сергей, вы не приготовили урока. «Игнис» на «ис», однако же мужского рода. Исключение. Вся суть в исключениях. Стыдно, гражданин, нищенствовать! Вот на Пречистенке хорошо подают. Возле Цекубу. Смотри, Журавка, не убережешь ты его! «Футурум». Стой! Необходима система…
Напрягаясь, старался Освальд Сигизмундович думать связно. Будь здесь горбатый скрипач, он сыграл бы реквием. В его комнате живет убийца. Значит, он простил убийцу. Да, самое главное – это уметь простить. Тогда-то слышишь музыку. А молодого человека жаль. У него не злые глаза. У него несчастные глаза. Он не похож на убийцу. Он знал ту девушку. Он ведь сказал, как ее звали. Ее звали Таня.
И, вспомнив о маленьком колечке, Освальд Сигизмундович собрал все свои силы, приподнялся, взглянул на Проточный – «вот там»,– улыбнулся. Огромная радость вошла в его сердце, и усталое сердце не выдержало. Оно просто остановилось. Не было здесь ни судороги, ни крика – только тихая улыбка, смягчившая суровость старческих черт, легкая, едва приметная улыбка. Никто этого не видел, кроме разве бесчувственных звезд. Спал Проточный, спали злодеи и дети, спала человеческая мелкота, и не догадывались люди, что покрыт теперь подлый переулок прекраснейшей улыбкой бывшего преподавателя Первой классической гимназии, старого нищего, «дедушки» беспризорных, Освальда Сигизмундовича Яншека.
16. ВАРЕНЬЕ НА СЛАВУ
Панкратова варила клубничное варенье. Жаль, не было при этом поэта: вот что воспеть бы – стародавнюю неторопливую работу хромой, но преуспевающей хозяйки, аромат ягод и жженого сахара, светло-алую окраску пенок, подобную фантастическому закату на далеком взморье. Браво, Панкратова! Не забыла ты высокого уменья сохранить цельной ягоду, чтобы она плавала в прозрачном сиропе, как звезды в небесах, не забыла его среди прочих житейских дел, среди засовывания кой-куда брошек перед обыском, среди раздобывания пшена на вокзалах (было и такое время), среди законопачивания похитителей окорока; да и тазик уцелел, не перелили его ни в пушку, ни в патриарший колокол, нет, остался тазик, осталась Панкратова, осталась даже вся премудрая иерархия: помельче – просто для повседневного употребления, а где сплошная каша – на кухню, в блинчики. Браво, Панкратова,– жива и живешь ты, добрый дух абрикосового домика, гордость Проточного переулка – ни у кого нет такого варенья! А без варенья – что же это за чай? А без чая – какая же это жизнь? Панкратовой – ура!
Шло все как по маслу в нижнем этаже благословенного домика: не только варенье удалось, «сам», слава богу, тоже преуспевал. Хотя писали собратья Прахова о каких-то «кризисах», помаленьку торговал Панкратов, приползали «червячки», знали свое место. Глупые страхи больше не тревожили почтенного сердца. А телеса цвели: купался, пил водочку, с Поленькой ездил в баню – бояться тут нечего, родственница, вроде как сестра.
Однако ревнива судьба, не может она вынести человеческого счастья. Чуть было не стряслась беда над бородой: ведь дойди дело до огласки, опозорили бы газетные пачкуны уважаемого всеми гражданина. Законы у нас шаткие – кто их знает, что теперь можно, а чего нельзя? Очень легко и в тюрьму попасть. Разве варила бы тогда варенье супруга? Словом, мог бы обратиться нежно-абрикосовый в юдоль стонов и слез.
Началось все преглупо: за кулебякой, причем кулебяка эта была вполне добротной – пышная, румяная, а фарш из свежей капусты с яйцами так и таял во рту… Ели, как всегда, сосредоточенно, молча. Вдруг вскочила Поленька и, бледная вся, выскочила в сени: ее вырвало. Конечно, не в кулебяке было дело. Прошло еще несколько дней, и хоть не отличалась Поленька догадливостью, поняла она, в чем дело. Еще шире распахнулся ее рот. Слезы не переставая лились из припухших глаз. Панкратова начала подозревать. Не знала только – кто.
– Слушай, Поля, ты думаешь, я не вижу? Все вижу. Дрянь ты, а не девушка! Комсомолка! Скажу я Алексеичу, он тебя поколотит, вот тебе слово мое, поколотит. Я бы выгнать тебя должна. А мне жалко. Сестры мы как-никак. Ты скажи мне, кто это постарался? Если хоть с деньгами человек, можно алименты ихние встребовать. А то ведь дура ты – с голоштанником могла спутаться. Ну, чего ты молчишь? Отвечай, чье это дело?…
Хоть настежь рот Поленьки, молчит она. Стыд какой!… Что ей ответить сестрице? Ведь она сама не знает, чье это дело. Кто из двух? Головой – как-никак, у нее голова, хоть не первый сорт – понимает: скорей всего «сам». Ванечка говорил: «Ты не бойся, я как в Европе…», а «сам» ничего не говорил, только мычал. Скорей всего «сам». Но сердце пробует робко спорить: а может, от Ванечки?… Вот счастье!… Не знает она, как ответить. Если сказать на Панкратова, убьет ее сестрица. А на Сахарова – грех, скандалить начнут, попрекать его, вот еще алименты взыщут, а у Ванечки и так денег нет, ходит он грустный. Может, болен? Бедненький! Нет, на Ванечку ни за что не скажет. Тогда…
– Что же ты, дрянь этакая, молчишь?…
Поленька шлепает губами, но не может слова вымолвить.
– Ну?… Да не бойся, не съем я тебя. Вместе обсудим. Две головы все-таки…
– Не скажу я, кто – духу не хватит.
– Это как же «не скажешь»? Не выпущу я тебя, пока толку не добьюсь.
– Я, сестрица, боюсь…
– Вот что! Поздно подумала. Отвечай, дрянь!
И она больно ударяет Поленьку по щеке. Поленька взвизгивает:
– Ой ты!… Не дерись! Я скажу тебе… Только убьешь ты меня. Пожалей меня, Анечка! Силой это он… Разве я пошла бы? Заставил он меня. Не бей! Он это – Петр Алексеич…
Тогда вскакивает Панкратова, хоть маленькая, хромая, сгребает толстушку Поленьку и хлещет ее салфеткой по лицу, долго хлещет. Слезы и крики сестры понемногу успокаивают ее. Не ревнует Панкратова: что здесь поделаешь, Алексеич мужик хоть куда. Но чтобы в своем доме, да родная сестра!… Вся злоба ее – на Поленьку. Мужа она и в душе не попрекает: занят весь день человек, где ему тут искать?… А эта…
– Вот тебе, получай! Еще! Еще!
Наконец, уморившись, она садится. Поленька лежит на полу, вся растерзанная, волосы распустились, раскрылась, блузка, лежит и всхлипывает.
– Замолчи ты, дура!
Теперь слезы Поленьки мешают Панкратовой думать, а она должна поразмыслить – как здесь быть? Ну, отлупила. Это хорошо. От этого на душе легче. А дальше? С соседями не посоветуешься. Алексеичу тоже не скажешь – убьет. Отослать сестру в Серпухов, к матери? Но ведь и там не отстанут: «С кого алименты требовать?» Значит, надо втихомолку со всем покончить.
Опомнившись, Поленька, еще вся в слезах, мечтает: «Нет, не от «самого»… Ну вот и сказала… И сошло. А родить – это дело пустое. Назову его Ванечкой. Будет он блондин и ходить в «Эрмитаж», там – Мараскины. Миленький!…»
Мечты ее прервал злобный шепот сестры:
– Ты – молчок. Завтра я тебя к Шрамченко отведу. Мигом сварганит. А потом в Серпухов уедешь, к мамаше, чтобы снова чего не вышло. Поняла?
Поленька прикладывает руку к груди и, нащупав там подвешенное сердечко, снова плачет: «Ванечка, милый мой, сынок!…»
Так и не узнал о семейном скандале никто, кроме гражданки Шрамченко. У гражданки Шрамченко много сомнительных свойств: сварливый нрав, утри на носу, да и весь нос неопрятный – нюхает табак по старинке,– если кричат бабы, она шипит: «Киш, девушка, с ним не кричала, так и у меня нишкни»,– в нос – понюшку – «апчхи» – словом, поганая женщина, но – могила, слова из нее не вытянешь. Тайна Поленьки в надежном месте.
«Сам» ни о чем не подозревал. Узнав от супружницы, что уезжает Поленька в Серпухов, насупился,– «где же такую сыщешь»,– отлупил хромую зонтиком, а потом успокоился – видно, любовный сезон миновал.
Ну а Ванечка?… Не до того было Сахарову. Печаль и запустенье овладели верхним этажом абрикосового. Даже заказчиц стало меньше – они чуяли неблагополучие и, хоть прилежно работала Наталья Генриховна, обижались: «Испортила баронесса шляпку, как-то не сидит на голове». Осела на Новинском мадам Шуконьяк; правда, у нее не было ни титула, ни «комильфо» – просто «шью и переделываю шляпы, а также из материала заказчиц», но франтихи Проточного шли к Шуконьяк, предпочитая веселую улыбочку угрюмым глазам баронессы. «Грызет ее,– говорили они о Наталье Генриховне,– не иначе как девушку по ночам видит…»
С Сахаровым Наталья Генриховна вовсе перестала разговаривать. Приходя, он кричал: «Обед, мамахен!» Молча приносила она миску. Слышно было, как глотают суп. Иногда, замечая на столе мелочь, сдачу с рубля,– Петька принес из лавки,– Сахаров раздраженно засовывал деньги в карман. Жена не возражала, но больше ему не давала. Как-то он попросил:
– Изволь выдать мне червонец… Ну, одолжи до конца месяца. Черт знает что! Пешком должен ходить, как мальчишка…
Она ответила:
– У меня теперь заказов мало. Петьке надо ботинки купить. Если я тебе дам, на жизнь не хватит.
Она не солгала: денег у нее не было. Но разве в былое время отказала бы она Ванечке? Как-нибудь выкрутилась бы. А теперь на нее нашла апатия. Если и продолжала она работать, то только ради Петьки, хоть чувствовала, что у нее нет сына. Петьку она потеряла. Работала она, может быть, и по привычке: так уж заведено, что кормит всех. О страшном видении она больше не вспоминала, о судьбе своей не думала. Дни проходили тихо и безразлично, как стежки, когда шьешь: еще один. Это спокойствие пугало Сахарова, он предпочел бы брань. С ума спятила? Или что-нибудь задумывает? Ах, если б деньги!… Разве остался бы он здесь лишний час?… Вся остановка за монетой. Он рыскал по городу и мечтал… Кто-то предложил ему продать привезенные из-за границы арифмометры. В последнюю минуту он струсил: поймают. Вот разве что с объявлениями «Госпароходства» выйдет. Тогда – двенадцать червонцев комиссии. Тогда он сейчас же переедет. Но куда?… Верочка? Дура, влюблена в него во как, глядит и не дышит. Морда у нее, откровенно говоря, препротивная, вся в прыщах. Зато – комната. Все равно! На морду можно не глядеть. Лишь бы отсюда вырваться. Здесь, может быть, такая каша заваривается… Поверьте носу Сахарова, у него чуткий нос.
Ну как же здесь было думать Сахарову о том, почему у дурочки Поленьки припухшие глаза? Одной ногой он уже был не в Проточном, а на Полянке, где проживала Верочка Муравьева. Денег у Поленьки нет, а для прочего теперь не время. Он забыл дорогу в каморку, где повернуться трудно и от подушек и от восторженного оханья.
Панкратова снарядила сестру быстро, та после визита к гражданке Шрамченко и оправиться не успела: «Прыток Алексеич, ох, как прыток!…» (Это она с гордостью думала: муж.)
Накануне отъезда Поленька зашла к баронессе проститься. Наталья Генриховна не знала, что сказать своей поверенной, молчала, ведь этого, нового никому не выскажешь, а о пустяках говорить не хотелось. Молчала и Поленька. Сдавалось ей, выколупнули из нее душу, только скорлупа осталась – грудь, волосы, рот, да, разумеется, рот, раскрытый настежь. Помявшись немного, она предложила:
– Я вам помогу, Наталья Генриховна.
И взяла, по привычке, шляпу. Работа шла хорошо, быстро. Но присутствие Натальи Генриховны смущало ее – все же она была единственной душой, которая не цыкала на Поленьку: «Дура, рот закрой». Сестра, «сам», даже Ванечка – кому бы из них вздумалось поделиться с Поленькой своими горестями? А Наталья Генриховна говорила с ней как с равной, душу раскрывала. Вот если б сказать ей все!… Про Ванечку, про серебряное сердечко, про то, что какая-то Шрамченко убила ее душу, взяла и убила, без долгих разговоров, с понюшкой в носу. Нет, не может она этого сказать. Не поверит Наталья Генриховна, чтобы Ваня, да с такой большеротой дурой… Никогда! А если поверит, еще хуже – возненавидит Поленьку. Господи, и как это в жизни устроено, что пожаловаться некому?…
Поленька заплакала. Отложила шляпку, чтобы не замочить ее слезами.
– Что с вами, Поленька?
Ласковый голос Натальи Генриховны еще сильнее потряс Поленьку. Она подбежала к баронессе и, приткнув голову к ее коленям, зашептала:
– Сон мне приснился, Наталья Генриховна, будто сыночек у меня от Ивана Игнатьевича. Красивый такой. Блондин, Ванечка. А вот проснулась, и нет ничего, никакого Ванечки, Страшно мне, Наталья Генриховна. Раскололи меня и сердце вынули. Как же я теперь жить буду?…
Внизу Панкратова варила варенье, и хоть год у нас безъягодный, хоть клубника скорее мелкая, даже виктория, не говоря уж о русской, на славу удалось варенье: важнее всего и в этом деле сноровка, терпение, душевный покой.