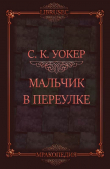Текст книги ""В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ""
Автор книги: Илья Эренбург
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
20. ПИСЬМО ТАНИ
Юзик! Дорогой Юзик! Вот удивитесь Вы! Посмотрите на надпись и плечами дожмете – письмо с того света. А может быть, и забыли совсем, кто это? «Какая Таня? Ах да, соседка! Еще приставала ко мне – перемените книги»… Не сердитесь, Юзик! Я и вправду боюсь, не забыли ли Вы меня? Мне ведь кажется, что прошло с того вечера десять лет,– может, и все сто. А на самом деле – сейчас сосчитаю – только пять месяцев, Как я изменилась с тех пор! Помните, я просила Вас достать морфий? Ведь я серьезно тогда думала о смерти. Я и утром из дому вышла – топиться, только струсила. Постояла на мосту и ушла. Ну, а теперь все мои горести в Проточном кажутся мне детскими. Разве так умирают? Трудно мне жилось там: как слепой котенок, тыкалась я куда попало,– а вот все-таки вспоминаю я то время с сожалением: первая молодость. Милый наш домик, ворчливые бабы, персюки, Лойтеры!… Знаете, даже к Прахову у меня нежность, хоть он чуть не погубил меня. Он в душе хороший, только сам себя не понимает – хочет быть обязательно грубым, как плакаты: «Время – деньги». Вы мне напишите обязательно, что с ним, разбогател? прославился? женился?
А Вас, Юзик, как вспомню, так захолонет все. Откуда бывают такие люди, скажите? С неба, что ли, падают, как метеоры? Иногда мне кажется, что все дело в людях. Это, правда, глубоко ненаучно, я сама понимаю, что главное – база. Но смотрю я на здешних каширских работников – и знание, и энергия, и линия выдержана, а в результате вот на прошлой неделе шесть комсомольцев изнасиловали Машу, нашу курьершу, и что же, никто из молодежи не возмущается. Старики, те все валят в одну кучу: «Вот вам и ваша революция». Опускаются руки. Вот если бы все были, как Вы, Юзик, тогда легче было бы сразу подойти к коммунизму. У мужа на все один ответ: «Это от нашей экономической отсталости». Он, конечно, прав. Но Вам я тихонько признаюсь: часто меня сомнения берут – пока не изменятся люди, ничего не изменится, кроме разве названий. Вы-то, наверное, поймете меня.
Вот и пишу Вам. Здесь поговорить мне решительно не с кем. Муж у меня умница, но очень чужой он. Да и времени у него нет, чтобы заниматься подобными глупостями. Он здесь один на себе выносит всю партработу, и по советской линии тоже перегружен. А с другими товарищами из Наробраза, где я теперь работаю, у меня нет ничего общего. Сплетничают, кляузничают друг на друга, рассказывают еврейские анекдоты. Ставили они в клубе пьесу Луначарского «Канцлер и слесарь», меня пригласили. Ничего они не понимают, зазубрили текст, и только. Все свелось к тому, что режиссер, пользуясь случаем, обнимал молоденьких женщин. Пошлость такая, что прямо слов нет! Недавно справляли девятую годовщину. Муж мой произнес серьезную речь, о ближайших наших задачах, хорошо очень говорил – сухо, без громких фраз, а потом другие перепились, и, конечно, танцевать будто бы «характерные танцы народностей», на самом деле обыкновенный фокстрот. Почему же не сказать прямо? Так во всем.
А сестра? – спросите Вы. Ну, с Шурой не разговоришься. Трое детей, муж больной, кухня, что ни день – постирушки. Переменилась она так, что не верится – Шура ли это? Только и знает, что цены на «огузок» или пересуды: кто сколько тратит на базаре, откуда деньги и так далее. Добрая она очень, меня встретила ласково – я ведь ей на голову свалилась со своими идиотскими трагедиями, а у нее как раз ребята корью хворали. Первые дни я еще пробовала ей рассказывать о своей московской жизни. И про то рассказала. Она расплакалась, стала умолять меня больше не говорить об этом никому: «Упаси Бог, узнает кто…» Подумайте, в двадцать шестом году! Ну, и все так: иконы, панихиды, вздохи – «когда-то они, окаянные, сдохнут». Меня жалела, и все на еду: «Ты, Танечка, еще пирога возьми»,– это в утешение. Когда она узнала, что я выхожу замуж за Соколовского,– в слезы. «Как? За большевика?…» Потом успокоилась: все-таки муж. Лучше, чем как в Москве (ведь она в душе убеждена, что там я просто занималась проституцией). Даже белье мне подарила. Только к нам не ходит, чтобы не встречаться с мужем.
Вот Вам моя жизнь. Как видите, Ваши пожелания исполнились: я замужем. Не знаю, что Вам еще сказать о муже. Он много старше меня – ему скоро сорок пять лет исполнится. Я бы могла быть, пожалуй, его дочкой. Большевиком он был до революции. Бритый. С проседью. Любит, когда выпадет свободный час, решать шахматные задачи (здесь для него нет подходящих партнеров). Прислали его сюда из центра. Мы с ним встретились в клубе: я в тот вечер была дежурной. Он начал расспрашивать о Москве. Я обрадовалась – ведь со здешними и говорить разучишься,– сразу ему рассказала обо всем: и о «Парижанке», и о том, что Мейерхольд сдал позиции, и о диспутах. Он засиделся. Неделю спустя снова пришел. Здесь начались сплетни: «роман» Соколовского! Я усмехалась – какой же это роман? Но говорить мне с ним правилось. Встречались мы у него. Вот он как-то и объявил мне: «Давайте, Таня, жить вместе…» Я растерялась: ведь перед этим ничего, ровно ничего не было. Спросила его: «Зачем вам это?» – «Понравились вы мне, а одному тоскливо». Вот уж три месяца прошло, а я и теперь готова спросить – зачем ему я? Он нежен очень, говорит, что рад: жена, ребенок будет. Но ведь у него даже порадоваться нет времени. Я – вначале еще это – рассказала про все московское: думала, если умолчу, нехорошо, обман. Он поморщился: «Зачем говорить о прошлом, это ведь со всяким может случиться. Теперь у тебя – я». И больше ни слова.
Как-то я все-таки спросила: «А если бы я теперь как в Москве?» – «Мне было бы очень больно». Я ему верю – он никогда не лжет. А все же не понимаю – почему больно? Ведь я совсем далеко – на десятом месте. Вот Прахов – решил купить меня на ночь за кольцо, но и тот, кажется, волновался. О стихах говорил. А Соколовский (знаете, Юзик, я мужа всегда по фамилии зову) никогда не выйдет из себя, ровен, спокоен. Человек ли?…
Впрочем, может быть, так и нужно. Я ведь теперь стала взрослой. Много работаю. Это успокаивает. Здесь я мужу если не друг, то товарищ. Хотела было с осени поехать в Москву на курсы социальной психологии. И муж настаивал. Но не вышло. Я жду ребенка. Значит, в лучшем случае, нужно отложить это на два года. И иногда я думаю, что вообще из этого ничего не выйдет. Через два года я буду, как Шура, с «огузком» и с компрессами. Что же, значит, не судьба…
Ребенку я радуюсь. И боюсь… Боюсь, что слишком много связываю с этим. А вдруг будет, как и с «любовью»?… В стихах – одно, в жизни – совсем другое. Видите, я еще недостаточно поумнела.
Я пишу вам прямо классное сочинение: «Как живет Евдокимова». Дома сейчас тихо. Муж – на заседании. Вечера здесь очень длинные. На окнах иней – звездочки. А там дальше – темнота, снег. Красивый городишко Кашира – много церквей, садов. Одна только улица, а то все дворы, как в деревне. И собаки лают.
Юзик, я рассказала Вам все, и я еще ничего не сказала Вам. Если б Вы были сейчас здесь, Вы сыграли бы мне какой-нибудь «комический кусочек», и я бы тихонько поплакала. Но Вы не думайте, что я несчастна. Нет. Плакать можно и не от горя. Мне очень жалко всех: и мужа – какой он большой, умный, одинокий, и Шуру, и всех здешних с их «Канцлером», и Прахова (не догадался он, а ведь все могло быть иначе). Вас мне не жалко: Вы самый счастливый человек, какого я только встречала. Вы ведь счастливы не от чего-нибудь, а просто. Вот такой я хотела бы быть! Далеко мне еще до этого, но многое я теперь понимаю.
Я здесь устроила отряд пионеров, и каждый раз, когда я вожусь с ними, всю тоску как рукой снимает. Мне почему-то кажется, что они будут жить лучше нашего. Мы не смогли, а они смогут. Может быть, так же думали наши родители? Тогда это просто старость. Не знаю. Только, когда я слышу: «Будь готов» (это их пароль), все во мне смеется от радости. Как будто готовятся они к другой, настоящей жизни.
Юзик, теперь я Вам признаюсь откровенно: я жду его с такой радостью, что порой кажется, сердце не выдержит, остановится. Пусть моей жизни здесь конец – ведь это все внешнее. Зато будет кого любить, за кого отдать себя.
А еще большая радость от ничего, вероятно, просто оттого, что дышу. В первый раз я почувствовала это летом, вскоре после того, как приехала сюда. Вышла я вечером в сад, в голове все гадкое – та история с кольцом, наставления сестры и мысль: зачем это я забралась сюда? Вспомнила я мост, воду внизу – как топиться хотела. Холодно стало. Страшно. И вдруг рассмеялась – живу! Пахнет душистый табак, звезды светят, огоньки в домах. Звонят к вечерне. Девчата наши поют «За веселый гуд…». Разве не все равно, что со мной случилось? Хорошо!…
Я живу только такими минутами. Это острова. Между ними служба, разговоры, каширский сон, затонуть можно, но вот подходит – и снова выплываю. Вы не глядите, что я слезами перепачкала всю страницу. Это но глупости. На что мне жаловаться? Не вышло. Как муж говорит: «Детский мат в три хода». А все-таки – снег, звезды, Вы вот, Юзик… Я Вам теперь все рассказала. Вижу, как Вы читаете это письмо и трясете головой: «Так, Татьяна Алексеевна, так». Милый мой, неуклюжий Юзик! Я Вас крепко-крепко целую и всю мою нежность хочу передать Проточному,– да, да, ведь там я узнала и горе, и радость,– всем его домишкам, церковному двору с желтыми цветами, Москве-реке, Прахову (не сердитесь – он хороший, я теперь только это поняла), а больше всего Вам, дорогой мой, старый друг!
Вот я и улыбнулась…
21. ЦВЕТЕТ ПРОТОЧНЫЙ
Вот и снова пришла зима, наросли сугробы, распластался над кряхтящими домишками синеватый дым, и, справляя первый добрый морозец, скатывались ребята на своих собственных вниз, к Москве-реке. Были за это время две облавы, так что кой-кого из «Ивановки» и повыслали, но жулье не редело, объявились другие: сущевские, сухаревские. Новая прачечная открылась возле Смоленского – китайская – «Свой труд». У делопроизводителя «Фанертреста» умерла жена от крупозного воспаления легких, две недели он с горя пил, а потом привел к себе востроносую девчонку и такой шум учинил, что даже в Проточном рот раскрыли: оказывается, это уроки танцев. Обогатился переулок и двумя новыми личностями: Корольков из краснопресненского нарсуда и Сорокин, ученый секретарь какой-то «фотоакадемии». Королькова сторонились – коммунист, да к тому же судейский, недаром зубы у него торчат, как у крысы,– ну а Сорокина, наоборот, жаловали: он ходил по переулку с большущим аппаратом – выискивал «типаж». Говорили, будто для заграничных журналов, и получает он за каждую «проточную» физиономию по пяти целковых (думаю, врали: кто же за такое добро платить станет?). А сняться, разумеется, каждому лестно. Панкратов, тот, издали завидев Сорокина, сейчас же принимал соответствующую позу, оправлялся: «Валяй, щелкай – нам не жалко…» Ну, а помимо этого, никаких особых перемен в Проточном не произошло. Все так же копошились в «Гигиене» щи, и пели цыганки про свою цыганскую любовь.
Но беспокойным оказался этот год для героев моего повествования. Расшвыряла их судьба кого куда, двое только и остались в Проточном: Юзик да Панкратов. А то: Таня – в Кашире, Сахаров купил комнату в Лялином переулке и благоденствует там, Прахов женился на Марковой (у них квартирка в Замоскворечье), ребята, верно, бродяжат где-то, если не погибли, а о Наталье Генриховне ни слуху ни духу, как ушла тогда с узелочком, так и сгинула. Правда, Лойтеры по-прежнему живут в квартире №6, но что можно сказать о Лойтерах? Пятого, кажется, пока не предвидится, и на том спасибо.
Панкратов – ничего, существует. Пережил он и горькие минуты: говорили, летит червонец, будет как с «лимонами»,– хоть стены оклеивай. Хотел было он выменять заветные пачки на царские десятки, конечно, с потерей, но – дай Бог «им» здоровья – вывезли,
Черт возьми – не разберешь «их» – то жмут, масло давят, и налоги, и сборы, и «борьба с частным капиталом», и «руки прочь от Китая», и «мировая», словом – привычные жидовские штучки, а то за ум-разум берутся, выручают Панкратова. Зачем на углу Проточного стоит милицейский, спросите вы? Охраняет мировую? Дудки! Стережет он десять пачек под цветочным горшком (начата теперь одиннадцатая).
Красным вишневым соком наливаются щеки «самого». Хромая даже содрогается: «Ты бы, Алексеич, банки поставил…» Глупости! Кровь, как и «червячки», украшает наше красное купечество. Вот Мухина оценила колер, оценила она и комплекцию, жар Панкратова. Вместо тщедушного сюсюканья: «Ах, люблю»,– тот сразу зарычал, красноглазый, вспененный, лютый, как здоровенный бык на случке.
Хозяйским глазом оглядывал Панкратов Проточный: все здесь свое. Не тронет его добра жулье, почтительно оно заламывает шапки: «Доброго вам здоровьица…» Тишина под домом – не сунутся туда малолетние бандиты, устрашенные рассказом о каких-то припрятанных трупиках. Посветлело и в квартире №6,– нет больше там ни сомнительной девчонки, ни газетного пискуна. Вот только горбатый жиденок, торчит он как бельмо на глазу. С чего он так поглядывает на Панкратова? Хорошо бы и его выжить из Проточного. «Жиды редко бесятся, как коты, народ это сметливый, осторожный, зато бешеный жид – чума, всех перекусает». Готов был Панкратов даже с «ними» войти в стачку, даже с судейской крысой, с Корольковым из шестнадцатого, только бы извести горбуна, чтобы не глядел он на великолепную бороду окаянными своими глазелками.
Чувства Панкратова многие теперь разделяли. Вероятно, Юзик и вправду сошел с ума. Взгляды его, повадки, разговоры пугали народ. Косился на него весь Проточный: что ж еще он выкинет – кого сдуру обнимет (этого-то жулика из «Ивановки»), на кого зашипит «брысь», какого оборванца зазовет к себе «чай пить»? Даже Лойтеров восстановил он против себя – вот этими приводами грабителей, бессвязными речами, назиданиями. Больше гражданка Лойтер не подпускала его к маленькой Розочке – боялась, чего доброго, задушит: ведь как же он белками ворочает, хрипит. Ребята пели теперь новенькую песенку:
Жид наклал себе в штаны
Чертовы орешины.
У него горб в пять пудов -
Оттого он бешеный.
Как-то не вытерпел Юзик:
– Почему вы меня истребляете, дети? Мой горб весит не пять пудов, он весит тысячу пудов, и я не могу больше его носить. Я могу только упасть и умереть…
Оттого он бешеный!…
Высунув языки, ребята кружились и пели. Юзик вышел из себя:
– Камни вы, а не дети! Прах!
Но тотчас же устыдился: кого он обидел? Детей? «Футурум»? Конец Юзику. Если он с невинными сердцами враждует,– значит, нет больше в Проточном философа. Кончилось счастье горбуна. Вот и гонят его все. Лойтеры ворчат: «Вы бы себе другое место подыскали для свиданий с вашими воришками, здесь честная семейная квартира». Выставили его из «Кино-Арса»: как-то, подбирая аккомпанемент, пустил он под похоронный марш прием Чичериным английской делегации. Один. А против него весь переулок.
Нарядный был день, белый, солнечный. Сверкал Проточный и снегом, и светом, сверкал, как витрина ювелира Гуревича, как сны беспризорных, как выдумка.
Зайдите-ка в такой день сюда, и не поверите вы ни в Панкратова, ни в жулье, ни в насекомых, что копошатся под овчинами, скажете: «Чем хуже Проточный Мертвого, или Левшинского, или других благообразных переулков?» Великолепный покров опускает зима на людскую мизерность. По Москве-реке скользят коньки, и доносятся оттуда чистые серебристые голоса детворы: «Эх, эх!» Все вычищено, вылощено. Для кого же задумала природа такой праздник? Какой трибун, какой полководец, какая прекрасная девушка должны промчаться сейчас по этому пушистому пути? Кого, друзья мои, ждет Проточный? Или зря вся эта пышность, только напоминание она, что всюду одна жизнь, и в Проточном и в Левшинском, что всюду черны дела, но бела, но светла, но нестерпимо светла заложенная в человеческом сердце радость?…
С почтальоном, морозным и веселым – трещит, кряхтит, смеется,– Юзик столкнулся в дверях, шел он, скрипка под мышкой, в какой-то танцкласс.
Он шел и читал письмо, шел, не видя, куда идет, обдаваемый криками: «Горбун-то, в рабкоры заделался!…» Потом он остановился, снова перечитал. Он не кивал головой, как думала Таня. Он только улыбался, сначала робко, недоверчиво – «вдруг шутка?» – потом радостно, вовсю – «жива!». Улыбается ему… Откуда-то из Каширы – где это? близко? далеко? – все равно – она улыбается Юзику. Замужем. Муж – умник. Наверное, как гомельский секретарь. Жалко! Сумасшедшие сочинители лучше умников – они умеют и плакать и смеяться. А умники умеют только говорить умные вещи. О Боре – правда. Они могли бы пожениться… Как глупо все вышло!… (Лицо Юзика стало теперь грустным.)
Поздно! У Прахова – Маркова. У Тани – умник. Дети из подвала Панкратовых пропали. Что может человек, если судьба против него? Они ведь любили друг друга. Юзик это знает. Теперь нельзя сказать Прахову, что Таня о нем вспоминает, нельзя даже сказать ему, что она жива. Чего доброго, он все бросит, уедет в Каширу. А что будет делать Маркова? Что будет делать этот умник? Разве можно из большого чужого горя выкроить себе маленькое счастье? Нет, Юзик не расскажет Прахову о письме. Пусть тихо живет на новой квартире. Пусть тащит свое. Сколько пудов в горбу человека? Пять? Тысяча? Миллион?
Но нет, не горевать должен Юзик,– радоваться. Таня теперь пишет, как неизвестный сочинитель. Она пишет об улыбке и роняет слезы на письмо. Она возносится и над Проточным, и над Каширой, она летает там, среди белых хлопьев и птиц. Она все знает. Это уж не Таня с Сейфуллиной и с губной помадой. Это та девушка, о которой говорил Юзику преподаватель латыни.
Почему она пишет, что Юзик мог забыть ее? Она ведь поняла теперь, что Прахов вовсе не злой человек. Почему же она не поняла, что Юзик ее любит? Разве горб мешает любить? Горб только мешает жить…
Юзик, опомнись! Мелкий, несчастный человек, как ты смеешь роптать? Это ты недавно обидел детей… Радуйся! Она жива. Она выходит из подземелья. Она улыбается.
И Юзик улыбается Тане. Он стоит теперь у ворот абрикосового и улыбается. Он хочет рассказать Проточному, что Таня с нежностью вспоминает этот переулок, что все ложь – и ссоры, и насмешки, и ночные драки, что светел и бел Проточный. Он вынимает из футляра скрипку. Он играет свой любимый «кусочек» – дорогое, самое благородное: Таня жива!
В пяти шагах от него застыл с кузовком в руках Панкратов. «Сам» не заходит в ворота. Злобно он глядит на горбуна. Наглость какая! У самого дома пиликает. Нет, здесь следует милицию позвать, пойти к Королькову, собрать подписи – пусть уберут прочь этого сумасшедшего! Не выдержав, он подходит к Юзику:
– Отходи отсюда, пакость этакая! Не то я милицию позову. Скандалист!
Юзик на минуту перестает играть.
– Почему вы злитесь, гражданин Панкратов? Лучше смейтесь, вот как я смеюсь. Она жива. И дети живы. И нельзя убить радости. Преподаватель латыни умер. Но он все рассказал мне перед смертью. Я знаю, вы хотели из-за какого-то дурацкого окорока убить их. Не бойтесь – я никому не расскажу об этом. Я только хочу вам сказать: они живы. Вы слышали звуки этой скрипки? Так радуйтесь со мной. Радуйтесь, что у вас ничего не вышло. Смейтесь! Танцуйте! Сойдите с ума! Или уйдите в ваш ужасный подвал, чтобы вас не было видно, потому что вся жизнь смеется, а вы умираете от вашей черной злобы…
И Юзик снова играет. Иззябшие пальцы весело водят смычком, и несутся нежные пронзительные звуки по Проточному, и расцветает переулок, распускаются золотые кочаны на вывеске «Закусочная «Гигиена», и распускаются желтые, сморщенные личики персюков, и горит снег, и бьются сердца женщин, и несется, подымая легкую пушистую пыль от Москвы-реки вверх к Смоленскому, как легкий ветерок, простая, большая, человеческая радость.
Сентябрь – ноябрь 1926
Париж