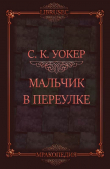Текст книги ""В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ""
Автор книги: Илья Эренбург
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
12. «ЯВИЛ ТАКУЮ МИЛОСТЬ»
Сахаровым мало занимались в тот день, а не мешало бы им заняться. Как-никак он был связан с Таней первым ее большим горем. Неловко же говорить о разных там Лойтерах, когда неизвестно, что происходит в сердце героя! Ах, если бы вовсе не говорить об этом сердце! Если б можно было обойти его, как обходят прохожие зловонные развалины на углу Панфиловского переулка. Но что делать – мы не выбираем жизнь по себе. Залез я в этот Проточный, и брезгать здесь не приходится. Сахарова со счетов не скинешь. Но как же мне не пожаловаться?… Всем нам в жизни приходится встречаться с такими жалкими людишками, разговаривать о том и о сем, часто и зависеть от них, однако, смотрю я, другие придут к себе домой, вымоют руки, раскроют какое-нибудь увлекательное повествование, и не помнят больше об этих паскудных встречах, умеют стряхивать с себя жалкие воспоминания, как дорожную пыль. А я никак не могу избавиться от Назойливой памяти. Даже в тишине моей комнаты они мне досаждают, все эти Панкратовы и Сахаровы, требуют понимания, чуть ли не участия. Черт бы вас взял, унылые видения моих ночей! Доколе мне суждено жить с вами? Вот встретилась Таня, только успел я ей улыбнуться, вспомнить для нее Хорошие слова, пусть и старомодные, не ко двору, но чистые, благородные слова, как уже нет Тани. К абрикосовому домику подходят жизнерадостные усики. Что же мне остается? Как Юзик, я глупо бормочу возле раскрытой двери: «Она вернется…»
О загадочном исчезновении Тани Сахаров узнал позже всех: его не было в Проточном – он продавал колечко, мало давали, жулики! На лестнице его остановила Поленька, неживая от страха.
– Что-то теперь будет, Иван Игнатьевич?…
– Что будет? Ничего не будет! Шиш с маслом. Надоела ты мне до смерти!
– Да я не о себе, Иван Игнатьевич. Разве вы не слыхали? Ваша-то милаша пропала.
Сахаров ответил равнодушно:
– Вот что!…
Мысли его были заняты другим: как бы помириться с Натальей Генриховной? Видно, без нее этих двадцати червонцев не выколотишь. Таня пропала? Ну и шут с ней! Все равно после последнего объяснения Сахаров о ней и не думал: дрянная девчонка, развратная, наглая.
– И потом, что значит «пропала»? Нашла, верно, какого-нибудь гуся и закатилась с ним…
Хладнокровие его не передавалось Поленьке. Ее по-прежнему знобило. Показывая рукой наверх, еле-еле она пролепетала:
– А не она ли это, Иван Игнатьевич?…
Сахарова всего передернуло. Дурак! Как он раньше не подумал? Вот так переплет! Что, если вправду она? Ведь это значит скандал, тюрьма, конец всему. На Поленьку он только прикрикнул:
– Ты что болтаешь? Совсем обалдела, идиотка!
Но в комнату Натальи Генриховны Сахаров вошел запинаясь, он принудил себя войти, поджилки тряслись, как будто лежал там труп зарезанной Тани. Увидав спокойную улыбку жены, он совсем растерялся: что это все значит? Сидит и шьет. Ведь за ней могут сейчас прийти. Нет, не она это! Просто Поленька мелет вздор. И как он поверил?! Понемногу Сахаров успокаивался, он уже закурил папиросу и начал прикидывать, как бы заговорить о двадцати червонцах, но вдруг Наталья Генриховна, до этого не проронившая ни одного слова, кинулась к нему, обняла его и разразилась буйным истерическим смехом.
Сахаров ее оттолкнул. Он забился в угол. Никогда прежде не видел он Наталью Генриховну такой возбужденной.
– Ванечка, заживем мы теперь с тобой!… Милый мой!…
И, думая подкупить его, как избалованного ребенка:
– Знаешь, я сегодня получила с двух заказчиц, так что теперь выкупим твой костюм. Пофрантишь ты у меня, Ванечка!
Еще четверть часа тому назад эти слова сделали бы Сахарова счастливым. Но сейчас он даже не обрадовался каштановому костюму. Каждое слово Натальи Генриховны подтверждало правильность догадок Поленьки. С чего это она смеется? С чего, скажите, радуется? С чего раскошелилась? Нечисто здесь! Пронюхала, что он вчера утром заходил к Тане, и сдержала слово. Могла заманить куда-нибудь и – колуном. Или в Москву-реку кинуть. Как та, в Ленинграде… Конечно, она! Но тогда сейчас – конец. Раз дура Поленька догадалась, значит, все знают. Припутают и его. Объясняй потом. Вот уже, кажется, стучат внизу…
Сахаров, ни слова не говоря, выбежал из дому. Опасливо оглядел он переулок. Как будто никого… Бежать! Но тотчас он сдержал себя: увидят! Нужно принять беспечный вид, как будто он прогуливается. Улыбаясь, даже насвистывая «Кирпичики», он медленно пошел к Смоленскому. Мысли его мчались взапуски, трусливые, ерундовские мысли. Вчера ее прикончила. Где он был вчера? На службе, потом в «Мосэкусте». Потом? Потом в «Кино-Арсе». Это легко установить. Да, но с пяти до семи – пропуск. Просто он шлялся по бульварам. Вдруг Таня исчезла именно в это время? Тогда у него нет никаких доказательств невиновности. Правда, можно ответить: она – из ревности! Я, наоборот, пострадавший, я – жертва, я так любил покойницу! Я… И вдруг Сахаров вспомнил: кольцо! Страшная улика у него в кармане. Как странно, что его еще не схватили. Схватят сейчас…
Он стоял на углу Смоленского. Он больше не напевал, не улыбался, он готов был упасть на мостовую и завизжать: «Все равно, вяжите скорей, только не пытайте!…» Через минуту он, однако, собрался с мыслями. Выкинуть. Но как? Вдруг заметят? Кто знает – вдруг у какого-нибудь из раскрытых окошек стоит человек и наблюдает? Мало ли шалопаев? Крикнет: «Гражданин, обронили…» Или, еще хуже, выбежит, подберет, доставит в милицию.
На углу Проточного, прислонившись к забору, спал старенький нищий. Рядом с ним лежал картуз – для подаяния,– разумеется, пустой: кто же ночью кинет копеечку, да еще если спит нищий, не напоминая торопливым пешеходам: «Явите такую милость»? Опустить в картуз. Старик дрыхнет. А со стороны – кладет самым милосердным образом копеечку. И Сахаров решился. Новые судьбы открывались перед колечком «гранфасон».
Разделавшись с опасной уликой, Сахаров несколько воспрянул духом, он вытер мокрый лоб, облизал усики, усмехнулся: спит, старина, какое же предстоит ему сказочное пробуждение! Вот что значит – «явить такую»…
13. «ДУШЕГУБКА»
После беседы с Юзиком («морфий») следователь считал наиболее вероятной версией самоубийство. Однако Лойтеры упомянули о баронессе, и он счел долгом вызвать Сахаровых. Первой допросили Наталью Генриховну. Отвечала она подробно и вразумительно: да, ревновала, грозилась: «убью» – это верно. Какая же женщина не говорит такого в сердцах? Может быть, и вправду убила бы – не знает. Но судьба смилостивилась. Болтают пустое. После той встречи на улице Наталья Генриховна больше с ней не встречалась. В ночь, когда исчезла девушка, она работала до двух вместе с Поленькой – были срочные заказы,– потом легла спать. Голос Натальи Генриховны звучал искренне, некоторое волнение легко объяснялось как обстановкой, так и тяжестью посвящать постороннего не только в свою семейную жизнь, но и в тайные чувства. Особенно подействовали на следователя слова: «Могла бы убить», произнесенные с жаром и с горечью испепеленного сердца. Он сострадательно промычал: «Это, собственно говоря, к делу не относится…»
Пока допрашивали Наталью Генриховну, Сахаров переживал в мрачной прихожей неподдельные муки. Он вел себя, как вор-новичок, пойманный с поличным: обдумывал план защиты, даже помышлял о бегстве. Хорошо, что хоть от кольца избавился! Следователю Сахаров первым долгом заявил:
– Я здесь ни при чем. Я – жертва. Если и сделала жена такую пакость, то зачем же меня пытать? Я, наконец, могу развестись с ней.
Следователь насторожился, но никаких данных Сахаров ему не сообщил. Все же, если еще раза три вызывали и Наталью Генриховну, и Поленьку, и Юзика, если несколько раздобрело тощее «дело о пропаже Евдокимовой», то это его, Сахарова, вина. В словах его ясно чувствовалось, что он не сомневается в виновности своей жены. Говорил он не в злобе, напротив, с Натальей Генриховной он теперь помирился и щеголял наконец-то в знаменитом каштановом, нет, просто хотел себя застраховать.
Допросы ни к чему не привели. Прошло три недели. Пыль начала оседать на папку с «делом», да и на воспоминания о Тане. Другие события волновали Проточный – хотя бы кража у Сидурчика,– выкрали у человека среди бела дня новую «тройку» и часы. О баронессе вспоминали редко, но с гордостью: «Бой-баба, выкрутилась». Так думал и Сахаров: «Вот ведьма, все ей с рук сходит!» По-прежнему он был уверен, что исчезновение Тани на ее совести. Как же чисто она все обставила! Иногда разбирало его любопытство: куда она припрятала Таню? Закопала? Утопила? Заговорить с Натальей Генриховной о происшедшем он не решался. Он боялся, что она откроется, тогда поневоле Сахаров станет соучастником. Ведь кто знает – могут еще донюхаться, труп выудят или выползет откуда-нибудь запоздалый очевидец. Вернее всего молчать, не спрашивать, не знать.
Страх переменил весь склад жизни Сахарова. Куда делась его верткость?! Может, года это, обленился он, но вот место Тани так и осталось незанятым. Правда, прошмыгивал он время от времени в комнатушку Поленьки, но по привычке это, да и близко – почему бы не зайти? Стал он чуть ли не домоседом. Попьет вечером чаю и, вместо того чтобы нестись куда-нибудь в «Эрмитаж» или просто на Тверской бульвар, сядет у окошка, глядит, как чешутся собаки Проточного, как жмут местные хваты заказчиц баронессы, как помаленьку идет жизнь. Иногда вспоминал прошлое и вытаскивал балалайку, осыпая переулочек кудреватыми жалобами: «Погиб я, мальчишка…»
Казалось, не нарадоваться Наталье Генриховне: уничтожена соперница, отвоеван Ванечка, поглядеть со стороны – семья семьей, чем не Панкратовы? Но еще угрюмей стало ее лицо. Молчала и она, молчала оскорбленно, через силу, прикусывая губы, от напряжения ломая пальцы. Радость, так напугавшая Сахарова, быстро прошла, да и была эта радость от недодуманности, от той детскости, которая остается в нас, кажется, до самого гроба. Кругом тогда только и говорили что об убийстве, пальцем тыкали – «она!». А Наталья Генриховна, услышав шепот Поленьки: «Пропала»,– решила: чудо, волшебная палочка, было горе и сплыло. Кажется, она одна не видала ни крови, ни смерти. Сдавалось ей – поняла та чужая женщина слезы Натальи Генриховны, устыдилась, отступила. Может, и не злая она, так только, ветреница. Молодая, вся жизнь у нее впереди, найдет другое, не краденое счастье, а ведь Наталье Генриховне никуда уже не «пропасть», никуда не уйти от Ванечки, от Проточного. Да, в первый день Наталья Генриховна радовалась, она взволнованно встретила Сахарова, как возвращенного ей судьбой, пыталась сказать ему о своем умилении. Когда же увидала его перепуганные глазки, все в ней оборвалось. Начался искус невыносимого подчас молчания, и уж ничто не могло теперь ее обрадовать – ни конец ревности, колючей и неотвязной, как чахотка, ни улыбочки мужа. Лучше бы шел к той, чем так!…
Наконец Наталья Генриховна не выдержала, попробовала объясниться. Сдерживая себя, она тихо спросила:
– Ваня, ты что – о ней все думаешь?
Сахаров насторожился. У него хотят выкрасть спокойствие!
– Вот еще!… Мало, что ли, девочек на свете?… Она, говоря откровенно, страшная дрянь была. С кем только не путалась! Ну, да это дело прошлое. Я о ней и говорить не хочу. Гляди-ка, Панкратов индюшку тащит. Должно быть, к именинам.
– Нет, Ваня, ты мне одно скажи… Ты на меня думаешь?…
Здесь Сахаров вскочил, завизжал:
– Молчи! Слушать не хочу! Я тебе не судья! Но никаких объяснений. Скажешь слово – разведусь.
Не дожидаясь, что ответит Наталья Генриховна, он выбежал из комнаты. Весь вечер пропадал он – с горя дул пиво. А вернувшись под утро, опасливо взглянул на жену, как и в первый вечер, готовый сейчас же дать тягу. Но Наталья Генриховна не продолжала трагического объяснения. Чуть усмехнувшись, сказала она:
– Ты был прав, завтра именины Петра Алексеевича.
Уж больше она не сомневалась: муж считает ее убийцей. Он боится ее. Все произошло, как она сказала: «Убью, но тебя не отдам». Той нет больше, Ваня с ней. Что неповинна она – это случайность, и Сахаров в случайность не верит. Ведь она сказала следователю: «Могла бы убить…» В чем же дело? Почему невыносимы ей подозрения мужа? Почему лучше ревность, обиды, «мамахен», одиночество, нежели это семейное счастье, оплаченное даже не кровью, только мыслью о крови, выдуманным преступлением? На эти вопросы Наталья Генриховна не могла ответить. Она сама себя не понимала. С удивлением и отчаянием она чувствовала, что и Ваня для нее теперь не Ваня.
Тогда она кидалась к сыну. Но Петька вовсе отбился от рук. Где он только пропадает весь день? С матерью он разговаривать не хочет, даже «Бубика» теперь от него не добьешься. Пробовала Наталья Генриховна наказывать его, запирала в чуланчик, драла за уши, но тогда он рычал, как зверек, глазенки становились злыми и дикими, раз он укусил руку Натальи Генриховны. А отпустишь – только пятки мелькают. Видимо, завелись у него друзья, может быть, это они науськивали его на мать. «Нет у меня больше сына. Петька меня ненавидит…» А дочка? Дочки не будет, хоть и сидит Сахаров дома, хоть лирически тренькает на балалайке: залегла между ними тень Тани.
Был июньский вечер, душный, тошнотный, люди обижались – хоть бы чуть посвежело, никаким квасом не остудишь распаленного нутра, пыль, вонь; счастливцы, те на дачах, а вот извольте, помайтесь-ка такой вечерок здесь, в Проточном. Дома сидеть – не высидишь: духовка, а на улице тоже не легче. Полураздетые все, кто в капоте, кто в одних портках, идут, томно пошатываясь, выругаться как следует и то нет сил – так только, отплевываются. Ну, разумеется, разжива всем, кто с «прохладительным». Чем только не торгуют – и фисташковым мороженым на гривенник, и ананасовой водой, и хлебным квасом, и клюквенным, и какой-то там «фиалкой», и черт знает чем.
Сахаров хандрил у окошка. Выйти, что ли, погулять? Лень одолела. Поленька? Скучно. Уж очень рот у нее страшный: кажется, вот-вот проглотит. Тогда-то попалась ему на глаза Наталья Генриховна, именно «попалась на глаза», потому что давно он перестал замечать ее присутствие. Ну чем не баба?… Эта мысль рассмешила Сахарова. Он игриво потянулся, встал и обнял жену, обнял бесстыдно, вкрадчиво, как отпетый ловелас. Сначала Наталье Генриховне показалось, что он над ней насмехается. Но Сахарову затея понравилась, он перемежал сальные шуточки комплиментами, как будто не жена это, а барышня, которую надлежит заговорить. Наталья Генриховна отвыкла от всего этого, она теряла дыхание, не могла выговорить слова. Но когда Сахаров, среди прочих ласкательных – и «кисонька» здесь была, и «солнышко» – дунул ей в ухо: «Тусенька»,– она оттолкнула его и строго сказала:
– Не я это. Слышишь – не я… Отвечай – веришь?
Как Сахаров сразу не задал стрекача? Был он, видимо, чересчур увлечен придуманной игрой. На вопрос Натальи Генриховны он и не думал отвечать, он только ловил руками ее плечи: «Стой…» Но она не давалась. Отбежав в угол, так что между ней и Сахаровым оказался стол, она еще раз спросила:
– Не веришь? Если на меня думаешь – я тебе больше не жена…
Сахаров, возбужденный, осовелый, с трудом соображал, о чем это она говорит. Ах, вот как!… Он с ней по-хорошему, а она воспользовалась минутой, чтобы прикрутить его! В ярости он хотел ударить жену, но зацепился за край стола и упал. Он барахтался на полу, как жук. Хоть и неосторожно это было, он завизжал:
– Ух ты!… И чего ты кривляешься? Просто скажи – заколола или в реку кинула?
Но тотчас же спохватился: «Что я говорю?» Поспешно встал, оправился, хлопнул дверью.
Наталья Генриховна осталась одна. По-прежнему она стояла в углу, сложив на груди руки. Долго она так стояла; уж Сахаров добежал до Арбата, лил в себя теплое, кислое пиво, проклиная свою падкость на баб, а Наталья Генриховна все еще не могла собраться с мыслями – окаменела. Не от обид: давно к ним привыкла. Нет, она почувствовала сейчас, что мертво ее сердце, нет в нем больше любви к мужу, которая одна поддерживала ее эти годы, пусто стало, ненужно жить. Вот он обнимал ее, а ей было от этого стыдно и гадко. Как же он может, если думает, что она убила?… Ведь будь так, нельзя шить шляпки, тогда – муки, огонь, может быть, тюрьма, может быть, жестокое счастье – взяла на себя, но только не шуточки: «кисонька»…
Она подошла к окну: грязные тротуары, грязные люди, грязная жизнь. От жары у нее пошла кровь из носа. Увидев на платье красное пятнышко, она задрожала, как будто поднялась с мостовой Проточного кровь и затопила ее. Здесь же она подумала: «Хорошо, что он ушел!» Да, впервые она обрадовалась, что Сахарова нет с ней рядом. «Чужой он мне! Темный! Страшный! Вот как эти, под окнами… Надо приложить к носу мокрое полотенце. Они все думают, что я убила. Хотят меня потопить в крови. Зачем я забралась в этот проклятый переулок? Он посмел назвать меня «Тусенькой»! Он помнит, наверное, лестницу на Мойке. Но разве понимает он, о чем мечтала та девушка, которую звал он тогда вслед за другими «Тусей»? Почему в романах жизнь другая, другие страдания – высокая любовь, каторга, монастырь, баррикады, жертвы, подвиги, а Тусе, хоть было у нее горячее сердце, дали только жиденькие усики и шляпы «комильфо»? Ответьте, вы, с фисташковым!… А впрочем, все равно – не только романы прочитаны – прожита жизнь. Поздно начинать ее сызнова. У окна стоит старая, одинокая женщина. Жарко! Парит! Лето-то сухое – давно дождя не было. Ну, все равно… Пора спать. Завтра – шляпы. А сердце? Сердце – насмарку!…»
И вдруг она вспомнила – Петька! Скорей прижать его к себе, увидеть, что он жив, услышать это слово «мама». Мальчик крепко спал. Наталья Генриховна разбудила его. Как безумная, она покрывала поцелуями его руки. Она шептала: «Петенька, не гони ты меня! Один ты у меня остался!…» Спросонья Петька брыкался и плакал, а проснувшись как следует, сердито сказал:
– Уходи!
– Петенька! Пожалей меня! Мы с тобой уедем отсюда…
– Не хочу с тобой. Не люблю тебя.
– Что ты, Петенька?… Ведь я твоя мама…
– Не мама ты. Ты…
Петька запнулся, видимо, забыл кем-то сказанное слово, морщась, все хотел его припомнить. Как приговора ждала этого слова Наталья Генриховна; рукой прикрыла лицо, горели щеки, слышно было, как тяжело она дышит.
– Да, ты не мама. Я знаю, кто ты. Ты – душегубка!
И, выговорив это непонятное, страшное слово, Петька горько расплакался. Наталья Генриховна не плакала, она глядела перед собой мертвыми, невидящими глазами. Впервые как бы разверзся под ней пол, и увидела она детские личики, раскрытые жадно рты, задыхание, судорогу, смерть. Да, она убийца! Прав Петька, прав Сахаров, все правы. Она в крови. Отойдите от нее! Вот те тянутся, растут, хватают…
В беспамятстве свалилась она на пол.
14. ДАЕТСЯ ИЛИ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ?
Успокоился кое-как Прахов. Больше он не кричал по ночам, не помышлял об уничтожении Юзика. Соседи помирились, подружились. Юзик видел, что Прахову скверно, колечко «гранфасон» не сошло ему с рук. Он сумел простить этого никчемного человека, который разбил сдуру чужую жизнь – так вот чашку разбивают. Никогда не заговаривали они о прошлом, а так как горбуну нужно было с кем-нибудь нянчиться, он теперь нянчился с Праховым: отвлекал от черных мыслей своим комичным философствованием, играл различные «кусочки», поил чаем. Кто знает, на что человек способен? Если уж раскрыта дверь, кто поручится, что и этот не уйдет?…
Жилось туго обоим: Юзика выставили из «Электры», приходилось теперь играть за рубль-другой на дачах. Прахов тоже почти ничего не зарабатывал. Посудив, они продали за десять червонцев комнату Прахова, тот переехал к горбуну.
Пробовал было Прахов наладить жизнь. Видали его в редакциях, заглянул он как-то в «кружок». Но делал он это нехотя, по привычке. Прошел страх, прошло и раскаяние, едкие, однако, эти чувства, они вытравили из сердца Прахова вкус к жизни.
Какой же это Прахов, если он не рыщет весь день, где бы перехватить червонец, если не смотрит завидущими глазами на щеголей с Петровки, если ему не нужны ни актрисы «Студии», ни почет? Да, это уж не Прахов, нельзя его показывать провинциалам, утеряна одна из достопримечательностей Москвы. Завсегдатаи «кружка», увидав его, нахмурились: болен? или дурака валяет? Некоторые даже перестали раскланиваться. То, что Прахов начал походить на обыкновенного человека, оскорбляло всех: живописно уродство, скучно без него.
Впрочем, Прахов не обращал никакого внимания на шушуканья. Все реже и реже заходил он в редакции. Правда, завалил он комнатушку Юзика замаранными листами, но проку от этого не было. Как возврат болезни, проснулась в нем юношеская страсть к стихотворству. Писал он мучительно, не доверяя ни своим чувствам, ни словам, стихи получались тяжелые, угрюмые, без мелодии, без радости, немые стихи. Сам он чувствовал, что пишет плохо, хуже, чем в Аткарске, не дописав стихотворения, начинал другое. Никому он написанного не показывал, но когда становилось невмоготу, начинал читать свои стихи Юзику. Тот слушал насупившись: не понимал он ни этих слов, ни звуков. Чтобы утешить Прахова, Юзик все же говорил:
– Вы хорошо пишете. Боря. Это куда лучше ваших статеек. Я, конечно, ничего не понимаю, но это моя вина. Если бы вы прочли ваши стихи преподавателю латыни, он, наверное, понял бы. Пишите всегда стихи. Вот я получу место в кино, и мы заживем припеваючи. Только не пишите ваших «ста строк». Лучше, чтобы никто не понимал вас, чем чтобы понимал какой-нибудь Сахаров…
Зачем писал Прахов? Скорей всего, чтобы не думать. Рифмы заменяли водку, когда водки не было. Он пил теперь много, жестоко, запоем. О Тане Прахов вспоминал редко, боялся вспоминать, а чувствуя, что подступает – по внезапной грусти, по равнодушию к окружающему, по холодку в пальцах и нервной зевоте,– добывал рубль и напивался до бесчувствия.
Не кровь, не глупая уголовщина, не раскаянье мучили его, а сожаленье. Он видел младенческую, слабую, им же задушенную любовь. Он повторял слова Тани: «Что это? Грубая шутка?…» Как он тогда не понял? Как не понял, что и вся ночь, и мысли о Тане, и сквернота усмешек, и «Крыша», и колечко были только «грубой шуткой», потому что он любил ее, да, да, любил!…
А надеяться не на что. Месяц прошел. Умерла. Он уговаривал себя: «Слышишь, умерла…» Но это не помогало. Сначала с недоверием, потом со страхом, он наблюдал за ростом в сердце посмертной любви. Нелепое чувство, смешное вдовство! Вот она жила рядом, он преспокойно ездил к секретарше, волочился между прочим за Таней, закидывал удочку – еще одна, получил, обнимал, здесь же жевал севрюжку, наслаждаясь про себя – «шик какой», считал кредитки, балагурил, ценил ее в восемь червонцев – столько-то строк, и все тут. Ушел, завалился спать. А теперь, когда ее нет, ни синих глаз, ни вздернутого носика, ни взволнованного голоса, когда все это разлагается где-то на дне скверной речушки, он только и говорит о ней, для нее пишет бездарные стихи, бродит по жалким воспоминаниям одной коротенькой ночи, как по развалинам дивного города, что ни час, заново влюбляется в тень, в имя, в ничто.
В тот вечер, когда произошло решительное объяснение между Сахаровыми, а может, и не в тот – весь месяц стояла жаркая погода,– в вечер душный и нудный Прахов шел домой пьяный, мрачный. По дороге зашел он в лавку, купил еще бутылочку – боялся ночи, чувствовал, не уйти от Тани. Бред какой-то, вдруг кажется ему, что девушка жива, сейчас, за углом увидит ее. Что же здесь остается, как не тянуть горькую?…
Дома Прахов застал непрошеного гостя: сидел у него какой-то старикашка и читал. Это был Освальд Сигизмундович. После памятной ночи он водился с Юзиком, вместе они философствовали на бульварах, иногда и сюда заходил старик, хоть ворчали Лойтеры: «Юзик жулье к дому приучает». Прахов столкнулся с ним впервые.
– Вы, собственно говоря, гражданин, что здесь делаете?
– Вашего сожителя ожидаю. Его вызвали на экстренную работу. Если стесняю вас, могу удалиться.
Прахов угрюмо буркнул:
– Нет… чего там… Сидите… Хоть с виду вы вроде Сократа, можно и клюкнуть вместе. Кто это сказал, что Сократ водки не пил? Вы на меня с высоты не поглядывайте, пейте лучше. За здоровье всех мамаш!…
Освальд Сигизмундович церемонно поблагодарил и выпил одну рюмку.
– Благодарствую. Больше лета не позволяют.
– Что лета? Вздор! Мне вот только тридцать, а я вдвое больше вашего пережил. Разве вы жили? Так, чаепитие одно. Я хоть и нализался сегодня, но все понимаю. У нас один год – за десять ваших. Революция – это вам не кот наплакал. Вот и ничего от вас не осталось. Как в загадке – дыра от бублика. Вы, например, чем занимаетесь? Вот что. Ну, а до катавасии? Латынь? Детей, значит, мучили? Допустим. Теперь позвольте спросить вас – в Бога не верите?
Прахов был неприятен Освальду Сигизмундовичу, но все же старик серьезно ответил:
– Нет. В красоту Олимпа. И еще в исключения.
– Так. Теперь позвольте спросить вас, что же вы делали, когда дело дошло до пулеметиков? Фалды мундира задрали? Почему вы за этот самый Олимп не вступились? Ну, а проще говоря, если «подайте копеечку», так нечего на меня свысока смотреть. Пейте и помалкивайте.
Так всегда бывало с Праховым: тяжелый хмель, хочет сорвать на ком-нибудь сердце, унизить, оскорбить. Освальд Сигизмундович был приучен к попрекам прохожих. Спокойно отсел он в сторону и вновь принялся за чтение. Это еще больше раздражало Прахова: что здесь, библиотека? Задается Сократ! Он начал его задевать:
– Читаете? Думаете – пьяный пристает, а я, мол, знаток античных красот, пренебрегаю. Так… Но вот не противно ли вам собственное ремесло? Признайтесь – противно? Могли бы вы удрать за границу. Вы чех, что ли? Там у вас все на своем месте. Вместо паршивой водки нечто благоуханное. Бенедиктинчик. Стояли бы вы на кафедре. Оно, знаете, лестно, не то что руку протягивать. Вот я вас прошу – ответьте мне искренне, как же вы можете так жить?
Освальд Сигизмундович пожал плечами, грустно улыбнулся:
– Я мог бы вам вовсе не отвечать. Прежде всего, вы пьяны. Однако не в том суть. Вы, наверное, и в трезвом виде лишены благородства. У вас уклончивые глаза. Я пришел к вашему сожителю. Вас я не знаю. Но я привык говорить с тупыми и заносчивыми детьми. Вместо ответа я прочту вам цитату из этой книги. Это не учебник латыни и не жизнеописание Сократа. Это перевод с французского. Некто аббат Дюкло описывает путешествия по Центральной Африке. Книга эта старая, подобрал я ее на Смоленском, да и по правде сказать – глупая книга. Но редко мне приходится теперь читать, поэтому каждая строка останавливает внимание. Перед тем как вы пришли, я прочел следующее:
«Области, лежащие по ту сторону этой реки, заселены племенем, которого еще не коснулось благотворное влияние нашей цивилизации. Заблуждения туземцев способны вызвать у просвещенного читателя снисходительную улыбку. Так, например, они утверждают, что человек, разоряясь, обогащается. Год падежа скота почитается у них за праздничный, и они поздравляют погорельцев, как существ, отмеченных милостью судьбы…»
Читал Освальд Сигизмундович медленно, назидательно, а кончив чтение, будто это в гимназии, спросил Прахова:
– Поняли? Тот опешил:
– Как будто… Вы что же… сектант?
– Я уже сказал вам, я – нищий, самый вульгарный нищий. А прочитанного мною вы не поняли. Пьяны или не доросли.
Здесь Прахов обиделся:
– То есть как это «не понял»? Тут и понимать нечего. Болтовня! И потом, то вы под Сократа работаете, то под Толстого. Не годится! Граф, конечно, хорошо писал. Но устарело это. Для Толстого у вас и борода мала. Я вам прямо скажу – мне противно такую белиберду слушать. Вы не сердитесь, если я вас обидел. Это не я – сорок градусов в ней. Но вот, говоря серьезно, борются люди за свое счастье, побеждают, проигрывают, а вы губами шевелите. Ведь я не злой человек – спросите Юзика, а от вашего спокойствия у меня все внутри закипает…
– И вы на меня не сердитесь,– примирительно ответил старик,– я не хотел осудить вас. Просто стар я, за вами мне не угнаться. Если это успокоит вас, я с вами выпью еще одну рюмку. А насчет счастья, увольте, не верю. Вы вот бегаете, суетитесь, а может быть, счастье у вас под ногами валяется. Иногда оно дается, но уж никогда не завоевывается.
Сам того не зная, Освальд Сигизмундович попал в точку. Ведь это он о Тане!… Прахов подбежал к окну. Духота какая! «Валяется под ногами»!… Из белесоватой мглы выступило лицо Тани, горестное и нежное, такой видел ее Прахов утром, когда она спросила о колечке.
Внизу барахтались обитатели Проточного. Странно дышат люди в такую жару, как рыбы, и глаза у них становятся рыбьими – маленькие, мутненькие, не жизнь – живорыбный садок. Прахов разомлел, осовел, приткнулся в углу. Жарища! И захотелось ему лирики, жалоб, участия. Он уже не нападал, а хныкал:
– Мне-то что делать? Вам хорошо, старику! А я жить должен. Кидаюсь туда-сюда. В казино играл. Выиграл – прокутил. Даже не заметил. Скучно! Мне вот одна женщина нравилась. Кривляться нечего – я, кажется, не скопец. И что же? Прозевал. Перехватил ее какой-то фрукт. Сунулся – поздно. Я с ней до стихов дошел. А она взяла и сбежала. Просто, как шоколад. Вот и пью водку. А вы мне еще о счастье говорите. Нет никакого счастья! Так только – слово в лексиконе, для детей дошкольного возраста.
– Жалко мне вас, молодой человек. Спорить с вами я не стану. Знаете, что такое притча? Так вот я расскажу вам поучительную притчу. Ночь. На улице сидит бездомный старик. Никто не дал ему даже пятака на хлеб. Он голоден и очень печален. Он готов усомниться в человеческом сердце. Он засыпает, и ему снятся нехорошие сны: попреки, облава, тюрьма, одиночество, грубая, торопливая смерть. И вот мимо него проходит молоденькая женщина. Она останавливается. Нищий спит. Состраданье, большое, как звездное небо, в ее глазах. Она смотрит в сумочку – у нее нет ничего. Женщина эта тоже бедна. Тогда она снимает с руки кольцо. Может быть, это память о ее покойной матери или подарок возлюбленного. Тихо кладет она кольцо в шапку нищего и тихо, боясь потревожить его сон, уходит. Никогда старик не узнает ни ее имени, ни черт ее лица. Он просыпается, он находит перед собой нечаянное богатство. Он голоден. Он может продать этот перстень и купить на него много хлеба. Но он не хочет расстаться с никчемной безделушкой. Он глядит на нее. Он больше не чувствует ни голода, ни старости, ни одиночества. Он знает, что не ошибался, когда верил в человеческое сердце. Вот, молодой человек, что случается с жалким нищим в темном переулке. От вас ушла любимая девушка. Вы не смогли завоевать счастье. Вы кричите, и вы клянете мир. Кто знает, быть может, это она дала старику последнюю его радость?…