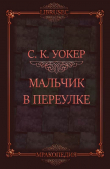Текст книги ""В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ""
Автор книги: Илья Эренбург
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
И. Эренбург
«В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ»
1. В НЕЖНО-АБРИКОСОВОМ
– Отдай Бубика!
Мальчик лет пяти ревел вовсю. Заикаясь, повторял он имя какого-то «Бубика» – котенка или, может быть, куклы. Девочка, чуть постарше, дразнила его:
– Бубубубика! Говорить не умеешь!…
– Это я нарочно. Отдай Бубика!
Из окна выглянула женщина. Лишения и пудра мешали определить ее возраст. Руки, чересчур узкие, изъеденные кухонной золой, казались прекрасными и жалкими, как побеги трактирной пальмы. Чувствовались проглоченные слезы, памятные всем даты, титул пышный и вздорный, как бенгальский огонь, льняное масло, шляпная мастерская, муж-бабник, вот этот Петька-заика,– словом, жизнь хоть и вдоволь уплотненная, но призрачная, приснившаяся. Услыхав лопотанье сына, женщина раздраженно крикнула:
– Не ври! Никакого Бубика у него не было. Это он все придумал. Не ребенок, а наказанье божье! Может быть, Поленька правду говорит – мяса тебе давать не следует. Что из тебя только вырастет? Ну, откуда ты взял этого Бубика?
Мальчик перестал на минуту плакать. Он задумался. Глаза его ныряли в безличную синеву неба. Наконец он показал на сточную канаву, где ничего, кроме грязной водицы, отливавшей, как полагается, радугой, не было:
– Отсюда.
Нелепое создание! Что из тебя, вправду, вырастет? Поэт или же поганый краснобай? Наивна ложь – в Проточном переулке не может быть никакого «Бубика». Это подтвердят все ответственные съемщики. Здесь только мелкие номера домов и душонок. Я жил в том угольном доме. Я знаю, как здесь пахнет весна и как здесь бьют людей, лениво, бескорыстно,– так вот в других переулках выбивают ковры.
Глядел я как-то из окошка на такое избиение. Бил мастеровой женщину, бил кирпичом по голове, со степенностью, не жалея ни времени, ни сердечной печали. А кругом стояли незадачливые обыватели Проточного, или, как извозчики говорят, «Протёчного». Они, видимо, ждали, кому скорее надоест это: мастеровому, им или бабе, у которой если нет души, то все же имеется «пар», облачко на жестоком морозе. Забредший ко мне приятель, тот только позавидовал:
– Вид у вас из окна хороший…
В знаменитой «Ивановке» живет жулье, самое что ни на есть откровенное: форточники, перепродавцы краденого, из грабителей те, что потише. Рядом же, в анонимных домах, проживают анонимные людишки: торговцы со Смоленского рынка, персюки, занятые то галантереей, то поножовщиной, кое-кто из «аристократии», например, делопроизводитель «Фанертреста», гармонист и драчун, секретарь «Союза ассирийцев» – он же чистильщик сапог на Свердловской площади. Все это копошится, сопит, чешется, пахнет, особенно пахнет. Переулок полнится древнейшим запахом кошачьей мочи и ангельского терпения.
Иногда заходят цыганки. Тогда из окон вывешиваются мечтательные души, и не отличить, где головы затравленных переулком сумасбродок, а где растянутые для просушки подштанники. Поют цыганки все больше о любви, и хоть нет ее здесь, в Проточном, хоть это подозрительный «Бубик», за которого Петька получит изрядный подшлепник, все же женщины зарывают под подушки головы, выбеленные годами, а медяки падают, как пудовые слезы.
Чаще поют сами – штопая носки и беременея, поют «Кирпичики». Звучит это здесь беспросветно, как будто «по кирпичику, по кирпичику» раскладывают человеческую жизнь.
Развалившийся дом на углу Панфиловского воняет вот уж который год. Сюда ходят до ветру, беспризорные режутся в железку, здесь прошлой весной дезертир Карнаухов упрятал труп прирезанной им свояченицы, здесь же, в глубоком погребе, мороженщики набирают летом рыжий снег. Стоит здесь только порыться судебному следователю или досужему фантазеру, как объедки этажей, напоминания о доисторических кухнях и спальнях, никуда не ведущие лестницы заселятся призраками: жена сбежала с полотером, Сергеенко стащил дрова, чего доброго – набавят на отопление, «врешь, не девятка у тебя, а туз», «батюшки, режут!…».
Порою выйдешь под утро, скользко и от накатанного детворой снега, и от сугубой тишины, ста шагов не пройдешь – начинается. Крикнет один – «сшибай», даст подножку, и все высыпают, как на цыганские страсти. Чуть оттает снег под проломанным носом, и снова свернется – его не проберешь, как и душу Проточного, ведь это наш добротный русский снег.
Таков переулочек, и не зря стоит в нем дом Панкратова, где помимо хозяев помещается упомянутое мною шляпное заведение. Дом этот построен отцом нынешнего Панкратова – два этажа, сени, кладовки, русские печи; сохранил он свою первоначальную окраску. Трудно понять это: чем грязнее, чем гнуснее переулочек, тем больше в нем таких нежно-абрикосовых домиков, как будто здесь цветут яблони и влюбляются девушки. А на самом деле, отодрав ставню, можно увидеть, как сам Панкратов, в честь сорокаградусной, лупит драным зонтиком хромую супругу или же мирно купает в изюмном соусе к голубцам свое волосатое рыло.
Это, конечно, по праздникам. В Проточном уважают всякие праздники – и «наши» и «ваши». В Троицу «Ивановка» нежно зеленеет. Жулье умащает маслицем полосы, а потаскухи, промышляющие внизу, на самом берегу Москвы-реки, трогательно шелестят юбками, как березки. Грохочет поп, и все, скажем прямо, благоухает. Но и советские праздники не в обиде – гармошка, вино, даже танцы, то есть безысходное топтание на одном месте: здесь живу, здесь и сдохну.
Панкратов так же пляшет и пьет и такой же с лица. Однако это не форточник, а почтенный гражданин, владелец солидного ларька на Смоленском: колбаса, монпансье «Красный Октябрь», огурчики. Крепкое нутро, холера не берет. Конечно, был абрикосовый дом национализирован: реквизировали, обмерили площадь,– словом, всячески пытались пронять Панкратова. Стоит только вспомнить, как один ушастый еврейчик, обнаружив под периной бороду, вытащил ее на свет божий и увез сгребать снег. Панкратов все выдержал, нужно было молчать – молчал, нужно было на того же еврейчика глядеть с «неподдельным энтузиазмом» – глядел. Отдали дом. Появились, так и не обнаруженные разными ушастиками, «излишки». От этого недалеко до ларька.
Панкратов читает плакаты: «Иди в рабкооп»,– и в рифму бормочет: «штоб…». Далее следует непечатное. Смеется он осторожно, про себя, в тех тайниках отечественной сметливости, где Калита сколачивал из курных изб государство, а отец Панкратова – из медных копеечек «рупь». Домашние хорошо знают, что такое «червячков разводить», и хоть далеко червонцу до империала – ни звона в нем, ни благоговения,– седьмая сотня приятно дышит, крупнеет, улыбается. Траты весьма ограничены: водка и бутылочка мадеры к празднику, новые занавески по случаю, раз в год молебен. Жена, та до сих пор перекраивает, перелицовывает, перешивает добросовестную рвань довоенного времени. На события у Панкратова взгляд философический: «Живем». Вывесить флаг ничего не стоит, а вот насчет налогов следует подумать. Конечно, «жиды – жидами», но главное – «чего Господа гневить? Живем…» Главное – «червячки». Чуть свет – Панкратов на ногах. Услышит, что на Благуше дешево продают ящик подмоченной карамели, сейчас же бегом на Благушу.
Жена, хоть и хромая, не отстает. Могла бы она, разумеется, сидеть дома, но нет, не такая семья. Панкратова с вечера печет пирожки, а утром продает их на Смоленском. У нее и патент есть. Червонец лишний всегда пригодится. На озорство мужа она не обижается: ведь это в праздничек, это от избытка чувств, от роста пачек под цветочным горшком. Она и сама бы не прочь «съездить» – сил не хватает. Подслащенная семейным счастьем и мадерой, Панкратова идет на кухню и шваброй дразнит кота. Кот шипит, сверкает, как фейерверк в Нескучном саду. Детей бог не послал – это и к лучшему. С детьми в такие времена беда. Денег на них не напасешься, а потом – кто знает – может дитя поддаться, сбежать в комсомол, отца родного ограбить. Думая о таких ужасах, Панкратова не без благодарности гладит свой полный живот.
Сестра тоже не нахлебница. Ремесло – великое дело! Мужа теперь подыскать ох как трудно! Поспит, отберет наволочки да простынки – и развод: оказывается, «настроения» у него неподходящие. А баронесса аккуратно выплачивает Поле сорок рублей в месяц.
Посмотрите, как отливают щеки Панкратова багрянцем, как ширится и твердеет борода, готовая пожрать не только его лицо – весь мир; как он пышен и чуден, когда после трудового денька пробирается вниз по Проточному, с пачкой за пазухой и с селедочкой, грохоча, отсчитывая барыши, каламбуря: «А теперь не мешает заморить червячка червячком». Жулье из «Ивановки», дружественно осклабляясь, расступается. Это идет массивный дух Проточного.
Панкратову во всем везет. Повезло и с жильцами. Это дело тонкое, политическое, вроде флагов или сборов на разных китайцев. Могли ведь уплотнить, а если дома – не дома, если и у себя в абрикосовом следует озираться да помалкивать – какая же это жизнь? Сахаровы подвернулись вскоре после революции. Клад! Не жильцы – друзья закадычные. Поленьку пристроили. Потом, как только преткновения, Сахаров тотчас распускает хвост: здесь и удостоверение со службы, и профсоюзная книжка, и мандат 19-го года, и декреты, и «принцип сотрудничества», и даже абстрактные идеи, так что в комхозе полный конфуз: «Да вы, товарищ, не волнуйтесь, это недоразумение…» Баронессу Панкратов искренне уважает: за титул, хоть и утерянный, за манеры, за разговоры о заграницах – там, например, письма летят по трубе,– за сметку: не растерялась баба, хоть воспитана для заграниц, для «ох» и «ах», а вытянула и мужа, и себя, и дитя.
Да, можно не любить Наталью Генриховну, но уважать ее приходится. В наши дни все мельчает: и реки, и книги, и сердца. Наталья Генриховна – осколок давнего мира, где прожигались миллионы, грабили не кассы – города, в один присест пожирали целого гуся, любили, что называется, «до гробовой доски», ничем не гнушались: ослепить разлучницу, самой пойти по Владимирке или купить краденое счастье, как перекрашенного цыганом коня. Она и телом крупна, однако в меру – все как-то правильно разложено по местам, причем все это породистое, высшего качества: и щетки бровей, и большой нос с горбинкой, и высокая грудь. Узость рук заменяет уничтоженную графу паспорта: родителям Натальи Генриховны не приходилось возиться с шляпными гарнитурами.
Отец ее, барон фон Майнорт, служил при дворе, любил фехтование и ветлужских стерлядок, был вспыльчив, нежен и глуп, как апрельский денек, женился на дочери нижегородского лабазника, красавице с лукутинской табакерки, рано овдовел, а умер вовремя, то есть недели за три до Октября. Дочь Тусеньку он воспитывал по-мужски – взбалмошно, приступами,– то приставлял к ней строжайшую мисс, то тащил в Париж: «Надо же ей услышать Иветту Гильбер…» Туся слушала; слушала она и многое другое: стихи декадентов в «Бродячей собаке», диспуты о свободной любви, ссоры пьяных возле казенки, признания правоведов, жалобы горничной Насти – «любит, а загубил», вой балтийского ветра, который бился о чересчур высокие официальные окна помпезного особняка на Мойке. Говорят, что в то время не было больше девушек чистых и пламенных, что недаром сошли все эти «огарки» или «кошкодавы», что очередное поколение вошло в жизнь с червоточиной. Каким же чудом убереглась от этого жившая хоть в холе, но и в запустении дочь добродушного дурака с рапирой? Мальчишки, приготовлявшие для флирта свежие перчатки и стишок, списанный накануне из «Аполлона», шарахались в сторону – «курсистка», «шестидесятница» – так ее называли в сердцах, хоть она и не была вовсе на курсах, а тот же «Аполлон» читала с раскрытой душой, как читали подлинные шестидесятницы Чернышевского.
Полюбила Туся тоже «по старинке», хорошей, полнокровной любовью, без вывертов, без уверток,– «бери»; и так как жизнь ее дотоле была парадна и неуютна, вроде особняка на Мойке, любовь сразу заняла все, потребовала жертв, послушничества, душевного жара. Дело в том, что барон, увидев впервые Сахарова, сморщился, как будто ему поднесли вместо рейнвейна касторки, и бесповоротно заявил: «Лакей. Никогда!» Донельзя легкомысленный, со всеми «пятницами на неделе», он на этот раз проявил редкостное упорство. Здесь не помогли ни слезы, ни засвидетельствованная доктором анемия, ни глухое «кинусь в Неву». Было, видимо, во внешности Сахарова нечто, возмущавшее барона – жидкие усики? или чересчур расторопные глаза? Или, может быть, повадки, одновременно и трусливые и наглые, какого-то настоящего лакея, решившего шикануть в дорогом кафешантане?
Впрочем, легче понять эту брезгливость, нежели чувства Туси, доходившие до старомодного обожания. Мелко костный блондинчик, с лицом чрезмерно опрятным, как будто столько его мыли, что смыли все: и глаза, и улыбку, и чувствования,– больше о нем ничего не скажешь. Лакеем, разумеется, он никогда не был, а служил в Международном банке и, не обладая амбицией, знал – точка, жизнь предопределена. О том, что такая жизнь даже скромнику в тягость, знали только балалайка и дешевые проститутки, которым Сахаров за те же деньги врал вволю, говоря, будто он – то знаменитый писатель, то владелец сорока нефтяных вышек.
Теперь лишний раз разведите руками. За что женщины любят нас? Всячески объясняли это, доходили до того, что за беспомощность, за слабость, за дрянность, а правильней всего сказать просто – «приспичит – роди, да подай».
Борьба с отцом длилась долго, чуть ли не до его смерти. Конечно, Туся пренебрегла бы и отцовскими проклятиями, и «положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение, и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невесомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.
Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.
– Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.
– За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.
Вернувшись со службы, Сахаров нашел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал, Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно – отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.
Прошло восемь лет. Говорить о том, какие это были годы, не приходится, все мы только о них и думаем, хоть стараемся забыть их: дико и дивно жить на земле с такой памятью.
Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!» Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны – и усмехнуться.
Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!…» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпишет все Туське, как-никак дочь, тогда – цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим»,– как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.
Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб – эту поэзию Сухаревки – и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топотавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин, запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался вовсю: «Я им ответил…»
Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все белей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отвращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!», «Сядь на стул, ты пахнешь луком», «Я, дурак, думал, что женщина – это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»
Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петька. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.
Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. Шляпное заведение «Комильфо» сменило и музейные экскурсии, и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает…» Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?… Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма – котелок», «итальянский фетр» – прерывались икотой после снетковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переулка.
Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной – он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду – послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах,– словом, жил припеваючи. Когда он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потгясен»,– рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».
Живем мы и, чего прикидываться, любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Тусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару – продают дрожжи на Сенном рынке или, удрав в Париж, моют там трактирную посуду? Не в морщинах, впрочем, дело, не в правоведах. Незаметно оседают в душе нудная суета дней, брань соседей, жестокость и тупость близких, унылые видения Проточного и других переулков. Сначала кажется, что это только пылинки на прекрасной картине юношеских мечтаний: стоит подуть – и они улетят. Но проходят года, тускнеют краски, твердеет пыль, уже не смахнуть ее ничем. Не узнать никому во владелице шляпного заведения мнимой «шестидесятницы».
Сахаров, отдышавшись, перестал даже капризничать. Домой он приходил, когда вздумается, одаривал Поленьку плоскими анекдотцами и к домашним запахам – кухни, нафталина, Петькиных лекарств – примешивал чужой запах духов, которыми душились его часто сменявшиеся любовницы. Квартирант… Когда пробовала Наталья Генриховна жаловаться на Петькины болезни или на неисправность заказчиц: «Вот налог требуют, а денег нет»,– он пренебрежительно обрывал ее: «Неужели ты думаешь, что мне это интересно? С тобой и поговорить не о чем…» Он не кривил душой. Он и вправду забыл ту Тусю. Прикосновения жены раздражали его, как набитая до отказу площадка трамвая – «Гадость!… Отстань!…». Наталья Генриховна теряла голову. Она грозила ему: «Не дам денег». Он знал – даст. Она пыталась понравиться мужу: часами перешивала кружева на рубашке – он любит розовенькие,– пудрилась, причесывалась, вспоминала прежние манеры и, сидя в покойном кресле, надменная, становилась вдруг похожей не на Тусю, а на покойного барона, только рапиры недоставало. Иван Игнатьевич, однако, даже не замечал перемены – он не глядел на жену. Тогда Наталья Генриховна забывала о прошлом, о самолюбии, приниженно ползала вокруг жиденьких усиков, выклянчивала грошовую завалящую ласку, а ничего не выклянчив, накидывала на плечи платок и в нелепом вечернем платье с глубоким вырезом бежала к беззубой молдаванке, которая предсказывала судьбу обитательницам Проточного и знала, как «приворожить».
Петька, когтями отодранный от смерти, мог бы стать некоторым утешением, если бы не его загадочный характер. Дрожит, заикается, доктор говорит «нервозность», может быть, от этого все? Нельзя сказать про него – «лгунишка», это – чудак, выдумщик, карапуз-фантаст, которому уже тесно в Проточном. Вот и сейчас позвала его мать, чтобы отшлепать за рев: «Какой Бубик? Я папе пожалуюсь»,– а он предерзко ответил: «Никакого папы нет. Это ты выдумала». Наталья Генриховна хотела было рассердиться, но не смогла: почему-то вспомнилось ей далекое время, выпускные экзамены. Учебник истории. Ягелло. Ядвига… А кругом петербургская белая ночь. И вдруг – от усталости или от призрачного света, а может быть, от нежного девичества – все становится легким, невесомым, выдуманным. Сказочны и колонны особняков, и пепельная вода Мойки. Кажется, рядом скребется, как мышь, сумасшедший Ягелло из «шестнадцатого билета». Нет ни гимназии, ни «папа», ни рапир, а только грусть, но такая хорошая, такая удачная эта грусть, что Туся улыбается.
Наталья Генриховна разрыдалась громко, глупо, как Петька, вытолкав за дверь приятно озадаченную заказчицу, которая понеслась со свеженькой сплетней – «Сын-то у нее – не от Сахарова!…». С кем было поделиться Наталье Генриховне? Так уж устроен человек, растет боль, растет ожесточение, и вот нет больше сил – хоть прохожего остановить: «Слушай!» Имелась у Натальи Генриховны поверенная, всеприемлющая и немая, как ящик «для жалоб». В который раз слушала дурочка Поленька повесть о высоком горении юношеских лет, об обманутых надеждах, о трусливом, жестоком и злом герое, который все же герой, ибо не вычеркнешь из памяти таких чувств. Знала Поленька и позднюю мечту Натальи Генриховны, вынянчившей двух отщепенцев,– дочь, женщину, бабу. Петька, тот уже рвется прочь, рвется с маменькиных коленок в проклятый подвал панкратовского дома или еще дальше, бог весть куда, к каким-то Бубикам. Он уже чужой, как Ванечка. А дочь будет своей, в приниженности, в беде. Иван Игнатьевич и слышать об этом не хотел: «Плодить кретинов, вроде мамахен…» (Сахаров любил уязвить Наталью Генриховну немецкой кровью.) Все это Поленька знала в точности, вплоть до «мамахен». Обычно она сопровождала сетования Натальи Генриховны сердобольным «ой ты», но на этот раз, улыбнувшись до ушей, от чего лицо ее, и без того глупое, стало «нарочным», не то клоунским, не то блаженненьким, а потом зашептала:
– Мне от Ивана Игнатьевича сыночка хочется, Ванечку…
Наталья Генриховна вскочила и, без памяти, кинула в Поленьку подушечку с булавками.
– Дрянь! Не смеешь!… Убью!
Забившись в угол, Поленька испуганно блеяла. Через минуту Наталья Генриховна опомнилась:
– Вы, Поленька, не смейтесь надо мной. Грех это… Ведь я сама вам все выложила как на ладони…
И, вспомнив о своей последней опоре, вконец измученная, она закричала:
– Петя! Петенька! Иди сюда!
Но снизу раздался сиплый лай Панкратовой:
– Нет его. Опять в подвал залез. И не мальчик у вас, Наталья Генриховна, а совершенный бандит.