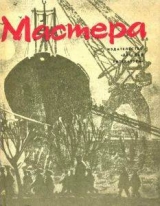
Текст книги "Мастера"
Автор книги: Илья Туричин
Соавторы: Лев Куклин,Илья Дворкин,Николай Григорьев,Надежда Полякова
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Далёкий Васильевский остров

– Так вот, живу я в Ленинграде, на далёком Васильевском острове. Ты, конечно, сразу скажешь: стоп! Да я и сам ленинградец, знаю, где Васильевский. Вот он – можно сказать, совсем рядом. На трамвай или на автобус сел – и через полчаса на Васильевском, в Гавани. Какой же это далёкий остров?
А это, братец ты мой, с которого конца смотреть… Ежели для ленинградского парнишки, – так тут ты кругом прав. Действительно, путь не дальний. Ну, а ежели твой ровесник во Владивостоке живёт? Померь-ка по карте, близко ли…
А индийские ребятишки? Они, может, диковинный фрукт манго или орехи кокосовые каждый день жуют, а наш белый снег для них – удивление. И уж Васильевский остров – самый дальний остров будет!
Ясное дело, кокосовых пальм да бананов на моём острове нет – климат не тот. Мой остров другим делом на целый белый свет славится. Чем? А ты сам прикинь-ка: живу я, значит, в приморском городе – Ленинграде, на проспекте имени морского адмирала Нахимова. Мне в окна морской ветерок задувает, гудки корабельные доносит, словно привет с кораблей передаёт… Почему? Да потому, что многие морские корабли-работяги на Васильевском острове построены, и здесь их родина… А по родине, по земле родной везде грустят, всюду её вспоминают – что корабли, что люди.
И есть на моём родном Васильевском острове место, которое я ни на какое другое место в мире не променяю. Стоит там, на Косой линии, здание. А над ним укреплены два ордена, и гордая надпись каждому видна издалека: «Балтийский завод». Самая моя родная надпись!
И каждое утро раскрываю я свой рабочий пропуск и прохожу сквозь проходную. Да меня, если честно сказать, и без пропуска каждый на заводе в лицо узнает, скажут только:
– С добрым утром, Фёдор Васильевич!
А сразу за проходной моя дорога лежит – ни длинная, ни короткая, а вся моя жизнь.
Главная дорога

Моя Главная дорога – это главная аллея Балтийского завода.
Аллея как аллея – ни узкая, ни широкая, не везде деревьями усажена, не везде цветами украшена. Ходят по ней мои товарищи по работе, ездят машины и автопогрузчики. По её сторонам стоят цеховые корпуса, и там тоже мои товарищи-корабелы работают.
А я иду каждое утро от проходной до своего стапеля. И шаги уже давно считать перестал. Когда торопишься – шаг пошире, не спешишь – короче. А в среднем около тысячи шагов выходит. Туда – тысяча, обратно – тысяча. Да…
И хожу я по этой своей главной аллее, как в сказке говорится, ровно тридцать лет и три года. И не было у меня в жизни другой дороги, и не было у меня в жизни другой работы! Каждый день, кроме выходных: туда и обратно. Туда и обратно.
Вот, вроде бы, я и не путешественник знаменитый. А ну-ка, если все мои шаги за тридцать-то три года в одну нитку вытянуть? Получится, я думаю, что земной шар я уже пешком обошёл. И не альпинист я, а ну-ка, если все мои метры сложить, что я на стапель, на борт за свои тридцать три наподымался, да высоту эту измерить? Прикинуть – уж не на одну самую высокую вершину я за свою жизнь вскарабкался…
Вроде бы – и приключений на мою жизнь никаких не выпадало: дорога прямая, знакомая, до камешка изученная, не тайга и не джунгли. А стоит опять спокойно рассудить – так ведь каждый мой корабль, что я начал да со стапеля спустил, – разве не приключение? Приключение, да ещё какое: каждый раз – новое, каждый раз – на особинку!
Вот и выходит: и путешествия, и восхождения, и приключения самые разные – всё укладывается в путь одной моей жизни, рабочей жизни – от проходной до стапеля, по главной аллее, по Главной моей дороге.
Тысяча шагов туда, тысяча обратно…
Краны над стапелем
Своё рабочее место я от проходной вижу сразу – над ним склонились подъёмные краны, как жирафы свои длинные шеи вытянули, и ждут. Весёлые краны, разноцветные. Я их наизусть знаю: вот синий – «десятка», вот жёлтый, спиной повернулся – это «девятка», а красный, на котором тётя Клава, крановщица, в кабинке сидит, – «двенадцатый».
Стоят пока краны, не двигаются, меня ждут. Ждут, потому что краны вместе со мной работают. Это – мои руки. И не только мои, а всех нас – судостроителей.
Корабли ведь на земле собирают, по частям, или, как мы говорим, по секциям. Есть такая игра детская, конструктор называется. Так там тоже из частей разных, из деталек можно что хочешь собрать. Ну, а наш корабельный «конструктор» – гигантский, словно игра для великанов. Кусочек корабля – это голое железо, махина весом тонн в двадцать, а то и в сорок. Попробуй-ка, подыми руками! То-то!
Вот краны и подымают. А мы уж на место ставим, какую секцию куда положено: днищевую – на дно, бортовые – на борты, палубные – на палубу. Каждую секцию надо с крана принять, да повернуть туда-сюда, да осадить, да поставить, да поднажать. Лишнее обрезаем, выравниваем. И ломом, и кувалдой, и домкратом работаем. Поставим, железный лист к другому электросваркой прихватим – так и растёт наш корабль.
Если со стороны на нашу работу взглянуть – так на стройку дома очень похоже. Видел, как дома строят?
Ну вот. У строителей краны, и у нас – краны, только посильнее, конечно. У строителей на доме – леса, и у нас корабль весь в лесах. И снаружи, и внутри. И домостроители дома из отдельных крупных блоков собирают, как мы – из секций.
И ещё сходство есть: для дома сначала фундамент делают, сваи железобетонные забивают. И у нас корабль на стапеле на подпорах стоит, на сваях деревянных.
Словом, стоит наш корабль на суше, словно дом, мирный такой, только без окон.
Комбайнёр со своего степного корабля всё поле видит, капитан с капитанского мостика – всё море, а я со стапеля – весь завод. Стапель на заводе – самое высокое место!
И моя работа у всех на виду. Каждый, кто на главную аллею выходит, хочешь не хочешь – а первый взгляд на стапель кинет: растёт судно или простаивает? Сюда, к нам, работа всех цехов стекается. Стапель всем говорит – хорошо дела идут на заводе или так себе.
И я с кораблём каждый раз заново вырастаю – от самого днища до командной рубки. А что? У меня здесь – маршальский обзор. Стапель – самая командная высота!
Начало
Вообще-то мы воронежские. Речка там у нас – Ворона. Не шибко красивое название, верно. И кораблей, таких, как в Неве, понятно, я там не видывал. И не думал, что увижу, а уж что кораблестроителем стану – и во сне не снилось.
А отец мой ещё в середине тридцатых годов в Ленинград перебрался, стал на заводе работать. Большой был специалист по слесарному делу! Так что я в Ленинграде хоть и не родился, но с малолетства проживаю. А когда война началась – мне было тринадцать лет. Эвакуировали меня, как других блокадных ребятишек, по ладожскому льду, по Дороге жизни. Привезли в Кировскую область.
Леса там огромные, снежные. Тихие леса. Любой звук в снегу утопает. Порой от тишины страшно становилось. Ну, учили нас, кормили, как могли. Мать у меня померла в блокаду ленинградскую от голода, братишка тоже помер, думал – один я у отца остался, не знал, что сестра жива. Скучал я, тянуло домой – да куда двинешься? Война!
А как блокаду прорвали, тут я и вернулся, отца разыскал, поступил в школу ФЗО – фабрично-заводского обучения, вроде нынешних профессиональных училищ.
Ленинградские-то ребята, особенно кто всю блокаду пережил, – тощенькие, прозрачные. И росточком никто не вышел, из-за станка не видно, так ящики ухитрялись под ноги подставлять! И ничего – взрослую норму давали. Смекалистые!
– Ну, а я парнишка был биток, крепкий. Как тогда шутили, – в животе плечистый. Может, это мою судьбу и решило.
Приходит к нам однажды дядька важный такой, как сейчас помню – во френче с карманами и в белых высоких бурках. Ходил он ходил по школе нашей, ребят о жизни расспрашивал, допытывался, кто что умеет.
– Или вы всего только и можете, что за ложкой потеть?
А сам ко мне с приятелем моим – его Ваней звали, из-под Пскова был, – вижу, всё глазом пристреливается.
– Ну, как, орлы-орлята, – вдруг нас спрашивает, – пойдёте в сборщики?
Ваня – тот сразу наотрез.
– Нет уж, – говорит. – Я лучше у станка останусь.
Тут я спрашиваю:
– А где собирать-то? На улицах или как?
– Нет, милок! На славном Балтийском заводе, на стапеле.
Ну, я из любопытства и согласился. Так и оказался на Балтийском заводе.
Завод меня поразил – не просто большой, а огромный. Цехи – как футбольные поля! Винты корабельные – в два раза меня выше ростом! Валы для винтов – в добрую сосну размером, целые металлические блестящие брёвна! А мимо будущего своего стапеля я в первый раз прошёл – и внимания на него не обратил. И верно: когда на стапеле корабля нет, он в глаза не бросается: горка такая невысокая, пологая – хоть на санках катайся. Только разве что горка не простая, а бетонированная. На горке этой широкие полозья укреплены, на берегу начинаются и прямо под воду уходят. Тогда я и представить себе не мог, как корабль на стапеле собирают да по этим полозьям спускают на воду.
Корабли новые тогда не строились, только-только мы успевали тральщики, да военные катера, да иные военные корабли ремонтировать.
Приволокут тральщик, на мине подорванный, – как человека, его жаль, честное слово! По бортам или ещё где железо рваное лохмотьями свисает, не потонул – и то хорошо! Мы ему заплату на бок – и снова давай в дело! А через несколько дней его, может, снова на буксире притащат. Так и крутилась карусель, без выходных и отдыха. Какой уж тут отдых на военной работе!
Учился я корабельному делу, прямо скажу, не за страх, а за совесть. А как война кончилась – мне восемнадцать лет исполнилось, и вышел я на самостоятельную дорогу. А чуть позже – и бригадиром стал. Так с той поры тридцать лет и бригадирю!
Первый учитель

Но на всю жизнь запомнил я своего первого учителя – стапельного мастера Григория Георгиевича Рожнова. Великий был судосборщик и человек редкостный. Он меня под свою руку взял да со мной, как со щенком косолапым, и возился.
В первые-то дни не приучился я ещё со сваркой «на ты» обходиться, нет-нет, да без тёмных очков на пламя и посмотришь. «Зайчиков» и нахватаешь – это значит: в глазах резь, а в голове круги.
Подойдёт Георгич, руку на плечо положит.
– Ну, чего оробел, корабел? – скажет. – Шевелись, тогда не потонешь!
Присловье у него такое было, поговорка своя, профессиональная.
И никогда-то он зря не накричит, сгоряча не сорвётся, если я чего-нибудь в работе по неловкости или по незнанию напорчу. Подойдёт, постоит, глазом своим быстрым скользнёт по загубленному, сам кувалду или клин возьмёт в руки.
– Ты прикинь сначала, Федя, – негромко так скажет, – где тебе повыгодней «наварыш» поставить. Ты сначала – головой, потом – рукой.
Ну, а ежели ты и мог, да не захотел или поленился, – тут он словом, как резаком, лишнюю стружку с тебя снимет. Работать умел и говорить умел!
Бывало, и другой сборщик, поопытней меня, у самого, знаю, дети у него взрослые, – а перед ним стоит, с ноги на ногу переступает, мнётся, мнётся и не выдержит:
– Уж лучше бы мне перед тобой, Георгич, повиниться, как перед родным батькой! Чего при всём-то народе стыдить! Хватит словами меня в краску вгонять.
А Георгич на такого глянет с прищуром и скажет, как приварит:
– А человек-то не кувалда, это только она с двух концов тупая! Сам всё поймёшь, если думать будешь!
Случается на море чрезвычайное происшествие: человек за бортом! Ну, тут общий аврал! Специальный флаг подымают, на воду спускают шлюпку, колокола громкого боя дают, – словом, помогают человеку по заведённому порядку.
Ну, а на суше? Бывает – покатился, покатился иной парень по наклонной плоскости. И на берегу можно за бортом очутиться! А это расписанием не предусмотрено!
И тут всегда к Георгичу, как за спасательным кругом, бежали. Никогда он не отказывал, скажет только:
– Помогать человеку надо так, чтоб он твоей громкой помощи не пугался.
Но уж зато если кто только под себя гребёт, а до товарищей дела нет, или ещё хуже – просто подличает, тут у Рожнова разговор был короткий: вон со стапеля, и дело с концом!
И сейчас, вот уж сколько лет прошло, у себя в бригаде, если что стрясётся, я рожновский наказ соблюдаю: «За мелочь не казнить, а за крупное – не миловать…»
Световой луч
И ещё моему учителю спасибо: научил, какой в жизни меркой пользоваться.
Какой? А световым лучом!
Вот, скажем, небо тучами прикрыто, плотно так. То ли гроза собирается, то ли просто день насовсем портится. И вдруг в разрыв между тучами, в щёлочку маленькую и глянет солнечный луч! К земле прорвётся, радуется, на листьях да на воде играет. Видел такое? А?
Что на свете есть прямее солнечного луча? Ничего нет! Световой луч самую прямую дорогу прокладывает.
Корабелы это давно поняли. И свойством этим удивительным пользуются. И вот как.
Всякий раз перед закладкой нового судна под его днищем – как раз посередине стапеля – утепляют стойки – металлические столбики, а на каждой стойке – железная пластинка с дырочкой, словно щёлочка в туче!

Ставят эти стойки строго одна за одной в затылок, по всей длине стапеля. А сквозь дырочки в пластинках и пропускают световой луч. Только не от солнца, а от специальной яркой лампы. Так – из дырочки в дырочку – и пробивается тонкий и яркий световой лучик. И горит в темноте на стапеле светлая живая корабельная ось! А уж после по этому световому шнуру мерную проволоку натягивают, как тугую струну – чтобы звенела!
И при корабельном строительстве все размеры – что вверх, что в стороны – откладывают точными приборами от этого светового луча. Вот и получается – светлая и прямая мерка!
Красивый это обычай и правильный.
А Григорий Георгиевич красоту нашего дела очень хорошо понимал. И его верные слова я храню в своей памяти: «Жизнь свою надо так держать, чтобы была она прямой – как световой луч на корабельном стапеле!»
Корабли начинаются с имени

Мы, корабелы, не только строители. Мы ещё вроде как бы родители.
Когда в семьях прибавления ждут, ещё не знают, конечно, кто родится – мальчик или девочка, а имена им заранее готовят, выбирают. Целые военные советы с родными да друзьями устраивают: как мальчишку назвать – Вася или Игорь? В честь деда или футболиста знаменитого?! Или как девочку – то ли Евдокия, то ли Машенька?
Так и в нашем корабельном деле: корабль ещё в чертежах, а имя ему заранее приготовлено.
Если это, к примеру, крейсер военный, то и имя ему дадут смелое, боевое: «Отважный», или «Быстрый», или – «Стремительный».
А если судно мирное – танкер для нефти, или рудовоз, или сухогруз для пшеницы там или фруктов, – именем хорошего города его назовут: «Акмолинск» или «Якутск». Всю азбуку от «А» до «Я» перебрать можно!
А вот ещё названия, всем нам дорогие: танкеры «София», «Бухарест», «Будапешт», «Варшава» и «Прага». Не просто – города, а по всем морям и океанам нашу дружбу эти имена несут!
Есть корабли, которые именами учёных названы или известных революционеров. А самые крупные в мире научно-исследовательские суда, которые на нашем заводе построили, зовут именами героев космоса: «Космонавт Юрий Гагарин» и «Космонавт Владимир Комаров».
Бывает и по-другому. Мы ведь для многих стран мира корабли строим. Вот один судовладелец у нас целую партию рудовозов заказал, а названия его дочка придумала. Все суда по названиям опер окрестила: тут тебе и «Риголетто», и «Фигаро», и «Травиата»… Видно, большая любительница музыки!
Как интересно выходит: этот капиталист, может, оперу-то любит итальянскую или французскую, а рудовозы – наши, советские.
Понимает в качестве!
Да это ещё что! Строили мы сухогруз для одной далёкой заморской страны. Показали нам его название – мы так и ахнули: никто прочесть не может! Буквы на наши совсем не похожи – крючочки, червячки какие-то, паучки, а не буквы… Головоломка!
И мастер наш стапельный чуть не плачет. «Ну как, – говорит, – я работу проверять буду, если не знаю, где в названии конец, а где начало? Может, там у них и читают-то справа налево или сверху-вниз-наискосок?!»
И решили ребята из моей бригады над ним подшутить.
Принесли буквы – а они огромные, в полчеловеческого роста, из толстого железа в сантиметр толщиной, или, как мы говорим, – «десятка». И каждую букву надо на корме укрепить, и ещё две надписи-накладки сделать по левому и по правому борту. Таков морской порядок.
Ну, ставит наша бригада кормовую надпись. Прибегает мастер, красный весь, взволнованный.
– Как дела? – спрашивает.
– Всё в порядке, – отвечают ребята. – Приварили. Только небольшая промашка вышла: одна буква оказалась лишняя.
Мастер так и вскинулся.
– Как так лишняя?! – кричит, а сам весь пятнами пошёл. – Какая лишняя??
– А вот эта, – показывают.
Мастер наш в чертёж глядит – а прочесть не может. Затейная она, эта заморская вязь.
– Ну, а куда эту… букву-то… девали?
А сам платком мокрый лоб утирает.
– Да что с ней делать? В Неву выкинули.
Мастер повернулся – и бегом!
Три дня, не меньше, на всех стапелях хохот стоял…
Когда дело хорошо идёт, и шутка не грех. Да в серьёзном-то деле без шутки и вовсе нельзя. Шутка и печёт, и греет, и мыслям ход даёт!
А как надо мной в первые дни судосборщики подшутили – всю жизнь помнить буду! Совсем мальчишкой я на корабль попал, еле-еле шестнадцать лет сравнялось. Ещё, как говорится, тележного скрипа боялся, а тут на тебе – корабль, громада, железо, грохот… В ушах с непривычки звон стоит, а что делать – не знаю.
Мне один из помбригадиров и говорит:
– Ну, чего стоишь без дела? Подай-ка вон тот рым.
– Что за рым? – спрашиваю.
– А вон ту штуку железную.
И показывает. А рым – как скоба большая, с отверстием посерёдке. За неё тросы цепляют, когда надо краном поднять. Подхожу я к рыму, примерился, наклоняюсь. Поднатужился – да дёрнул. Спина трещит, а рым ни с места.
– Да ты его ломиком, ломиком, – серьёзно этак мне советует.
Я лом в ушко продел, поднатужился – поверишь ли, сгоряча лом в дугу согнул!
Только когда от хохота все на палубу повалились, я понял, что рым-то этот к палубе намертво приваренный!
А помбригадира ко мне подходит, улыбается.
– Ничего, – говорит, – силёнка есть, ума добудем.
Ну, тут и я со всеми засмеялся. Приняли меня, значит, в рабочую семью!
Порядок на борту!
Был у меня в бригаде лет этак двенадцать назад парень один, из флотских боцманов, демобилизованный. Человек он был аккуратный, работу не портил и себя соблюдал. Сказывалась дисциплина да флотская косточка.
Потом уехал, а по себе памятку оставил. Была у него такая шутливая привычка: утром я на судно подымаюсь, по железу грохочу – а он увидит меня, свистнет с переливом и кричит, как рапортует:
– Бригадир на трапе! Порядок на борту! С чего начнём, комиссар?
С тех пор ребята в бригаде меня «комиссаром» зовут. Молодая у меня бригада, все – комсомольцы, один я – коммунист, человек партийный. И хоть не в чёрной кожаной тужурке хожу, как в гражданскую войну комиссары ходили, и, конечно, без маузера на боку, и в такую же каску-безопаску одет, как и все, и в брезентовую куртку-спецовку, но то и дело спрашивают:
– Ну, как, комиссар? Что делать надо, комиссар?
И боцманское присловье осталось. Чуть что:
– Порядок на борту!
Живое железо
Работать с железом или с деревом – разница, конечно, большая. Дерево – оно мягкое, податливое, можно сказать – ласковое. Хороший столяр к дереву приспосабливается. А железо – гнёшь, железо подчинять надо. Кто по дереву работает – у того и руки другие, и повадка другая.
А железо-то, оно и само с характером, и человека тоже с характером требует.
Железо от огня не отделишь. Железо в огне родится, с огнём свою жизнь ведёт. И у нас на сборке: ежели сварка – так огненная сварка, ежели резка – опять же огненная резка. И у человека характер должен быть такой… Огнеупорный. Где сноровка, где смекалка, а где и сила нужна.
И не хочет железо, а гнётся, линию приобретает – красоту.
Маленький перекос – и весь твой труд пойдёт насмарку. В корабельном деле, знаешь, точность какая нужна? Ворочаем тонны, а каждый миллиметр ловим!
Красоту в железе не каждый видит. А корабль-то – он ведь живой! Он дышит! И это понимать надо. И красоту его угадать, на свет вытащить.
Был я как-то в мастерской у нашего известного скульптора. Большой человек, лауреат, тоже Герой Труда.
Ну, вот, гляжу я, как он лепит. Глина мягкая, подаётся легко, под пальцами тянется, мнётся как хочешь. Да… А в основе-то фигуры, в конструкции самой – что заложено? Железо, между прочим! Вроде арматуры под железобетон. И всю красоту человеческого тела железо на себе и держит… Соображаешь, к чему это я клоню? Мы, корабелы, тоже скульпторы.
А что, думаешь – не похоже?








