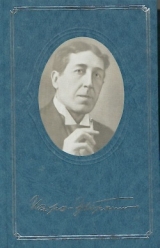
Текст книги "Том 5. Публицистика. Письма"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Рассказ моего знакомого
Одна наша очаровательная знакомая, обладательница не менее очаровательного автомобиля, как-то поинтересовалась узнать, почему N. так редко бывает в Ревеле, чем лишает ее большого удовольствия проводить совместно время. Вот что поведал ей N.
Я живу, как вам известно, в семи часах езды от столицы, в глухой деревушке. Ближайшая железнодорожная станция – в девяти верстах. Живу там потому, что люблю деревню, люблю с детства, да и дешевле жить в глуши, это бесспорно. Ежемесячно одно учреждение выдает мне прожиточный минимум в память моих былых заслуг. Этот «минимум» я называю пенсией Жалование платят за настоящее, пенсию – за прошлое… Поэтому я обозначаю эту сумму именно таким определением.
Что представляю я из себя в настоящем? Человека не сумевшего вовремя умереть. Не больше. Однако, не в этом дело. Дело в том, что, чтобы получить эту пенсию, я должен раз в месяц за нею ездить в Ревель– иначе не получишь. И не потому, чтобы в нашей местности не было почтового отделения. Оно существует, причем работает превосходно. Не было случая, кажется, чтобы пропала хотя бы открытка. Почтмейстер – человек пунктуальный, добросовестный. Вся беда в том, что, по нашей чудесной русской пословице, с глаз долой из сердца вон.
Так в данном случае и со мною. Не напомнишь – не получишь. Не получишь – не поешь. А у меня семья. На письма не отвечают: времени, вероятно, не имеют. А приедешь – изумятся, но дадут. Да еще приговаривают: «Напрасно беспокоились, лучше черкнули бы нам открыточку – мигом выслали бы вам». Изумишься в свою очередь, попробуешь вставить, что писал, дескать, не отвечаете. Не слушают, свое говорят. Теперь дальше.
Дорога до Ревеля, – я говорю про поезд, – стоит 250 марок, а на эти деньги мы с семьею два с половиной дня живы. Столько же обратно. В результате пять дней из месяца вычеркнуты, ибо пенсия предусмотрена ровно на 30, а не на 35 дней; в месяце же, к несчастью, их не меньше 30. Разве только один февраль на сутки покороче. Таким образом, пять дней в месяц – форменный голод. Ну да ладно, как-нибудь перебьемся летом: грибов насобираем, окуньков наловим. Зимою хуже значительно.
Как я уже сказал выше, до станции от деревни девять верст. Естественно, что «делать» их приходится пешком, так как лошадки у нас кусаются. Такая уж, знаете ли, порода лошадей распространена в наших краях. Кусаются, да и все тут, причем норовят укусить именно таких бедняков, как я. Богатым их укусы не опасны. Если бы я стал при своих путешествиях на станцию и обратно пользоваться этими скверными животными, нам с семьею пришлось бы поголодать еще дней пять в месяц. Итого – десять. Согласитесь, что это было бы немного вредно для здоровья. А так как оно у нас не ахти какое, приходится его по возможности беречь, тем более, что и 25 дней-то в месяц мы питаемся что называется, впроголодь, ибо наш минимум поистине минимален, и ни о каких разносолах даже грезить не приходится.
В хорошую погоду пройтись десяток верст беда не большая. Получается даже что-то вроде маленькой прогулки. Одно удовольствие… Но осенью – в грязь, в темноту, в дождь! Бр-р! Представляете ли вы, очаровательная горожанка в собственном автомобиле, что такое наша деревенская распутица? Дороги наши, очень приличные и укатанные, при малейшем дожде превращаются в нечто невообразимое. Но если дождь, что называется, из ведра, и идет он несколько дней подряд, невообразимость превращается просто-таки в ничто, в ноль, ибо дорог фактически не существует вовсе, полнейшее бездорожье, месиво какое-то сплошное. Ни серединки сухой, ни краюшки. Сплошь водяная грязь, полуаршинные выбоины, наполненные грязно-молочного цвета бурдою, напоминающею по цвету и густоте корм для свиней.
И вот по такому беспутному пути приходится идти девять верст. И почти всегда во тьме кромешной, так как поезда проходят мимо нашей станции всегда ночью. На шаг перед собою вы ничего не увидите. Выбирать место посуше безнадежно: ничего не видно, да его и нет. Поэтому приходится двигаться наудалую, напролом. Надо ли пояснять, во что превращается путник при таких милых условиях передвижения? На нем нет сухого места. Пальто, брюки, пиджак, даже белье можно выжимать. Ботинки превращаются в тесто. Подметки отстают. Вода вливается во все щели. С размаха нога проваливается в выбоину с шумом, напоминающим всплеск восьмифунтовой щуки. Холодная, липкая, грязная ванна за ванной. Ноги начинают стыть.
В таком виде являетесь на станцию, ждете час-другой поезда, садитесь в него, напоминая собою вынутого из воды тюленя. Пассажиры в страхе мечутся от вас, а вы, дрожа всем телом и не попадая зубом на зуб, едете в «дивном» настроении и наряде в столицу, куда и прибываете через семь часов в полубольном, в полупомешанном от кошмарной дороги и бессонной ночи состоянии. Получаете свой «минимум» и мгновенно же, с первым поездом несетесь назад, вступая в новую фазу ужаса, физического и морального страдания.
И вы еще спрашиваете, почему редко я езжу в город?! – почти возмущенно заключил мой знакомый свое повествование. Очаровательная барынька села поудобнее на софе, затянулась тонкой папиросой и, щуря глаза, спросила меня не без кокетства: «Воображаю, как бы вы чувствовали в его положении?»
Но я решительно переменил тему.
1925
Тойла
В лодке по Россони
Из окна моего кабинета сияет осенняя Нарова, раздольная и стремительная. Все более светлеет с каждым днем и, возможно, на днях пойдет «шорох», как называют здесь первые крупные льдинки, тщетно пытающиеся стать уже настоящим зимним льдом. Надо пользоваться последними погожими днями, солнечными, лазурно-небесными, дивно-студеными и веселяще-прозрачными, хочется – и это так безудержно! – сесть в легкую и устремляющуюся в дали лодку и плыть в ней по глубокой и по-осеннему сонной Россони, впадающей в Нарову как раз против моих выходивших на восток окон.
Мы берем бело-синие весла, мы спускаемся к пристаньке, садимся в бело-синюю нашу «Дрину», названную так в честь ни с одной речкой не сравнимой малахитовой босанской реки, и, переплыв Нарову, скользим по водам ее дочери, извилистой и живописно-бережной. Правый берег в соснах и елях, левый – в рощах и лугах. Безмолвие, безлюдье, почти ни одной «встречи». Упоительно грести в студеный, бодрящий день, когда сам одет легко, но тепло, когда на руках рукавички и когда ежевзмашно сознаешь, что плыть тебе не 10–15 минут, а часа четыре!
А вот уже и «Соловьиный остров» с его уютно интимными зарослями и густо-красной калиной у самой воды, и сразу за ним два соседствующие поселка: направо село Вейкюла, налево – деревня Саркуль. Знакомые места… Еще бы! Весь прошлый год мы провели в Саркуле, деревне небольшой, но прелестной. Она между Россонью и Финским заливом. Всего три четверти километра отделяют речную от морской воды.
Вот уже возникает заброшенное в соснах гористое Саркульское кладбище, рядом с ним вплотную, – три необхватных тополя перед домом приятельствующего сo мною вдумчивого и ласкового сапожника Отто Денисовича, рядом вишневый сад «дяди Василия», девятидесятилетнего ветерана российского флота, вот резная часовенка – одним словом, вот он весь милый, радушный Саркуль, сегодня такой просолнечный и влекущий в себя. Мы сворачиваем в бухточку с узким и мелким проходом и пристаем к берегу, так много говорящему душе… Причаливаем лодку, взбегаем на горку, и на встречу к нам выходит из избы в окно завидевший нас ее хозяин.
Грустные глаза его выражают искреннюю обрадованность, и нам это приятно, и это нас трогает: немудрено – свои ведь приехали, не чужие… «Светлый день», – говорим мы ему, крепко и дружески пожимая руку. Смеясь и оживленно разговаривая, входим в избу с таким обвораживающим глаз видом на раздолье речное и луга противоположного берега, приветствуя его жену и бледную, тонкую и нервную Манечку. Впрочем они и все бледные, члены этой семьи, какие-то утонченно-обреченные. Мы не были здесь больше недели, когда они, будучи на базаре в Нарва-Иезу, заходили к нам погреться и попить чайку, поэтому у нас столько новых тем, столько вопросов, столько впечатлений.
Незаметно бежит время среди живых, примитивных, далеких культуре и, следовательно, незлобивых и облагороженных людей в лучшем смысле этого понятия. Река чарует через окно, у которого меня поят чаем, и наконец я заставляю себя охотно и неохотно подняться: и здесь хорошо, и дальний путь влечет, такой знакомый и нагребленный, вечно что-то сулящий, редко в посулах обманывающий, такой интересный, молодой, новый!
Выплываем «на простор речной волны» и поднимаемся вновь все выше и выше, за противоречивые друг другу извивы, за мечтательные, зачарованные затоны и спирально-крутящиеся, неторопливо и как бы гадаючи, омуты. А солнце все выше, и воздух все мягче. «Старая» речка вливается в Россонь… Не завернуть ли в нее, заманивающую в Тихое озеро? До него всего полтора километра. Можно проплыть по узкой по ней, въехать в озеро после округлого поворота и вдоль нагорно-хвойного берега, «взяв» все озеро, пристать у гостеприимного хутора веселоглазого Оскара, с которым тоже не виделись «целую вечность» – больше месяца… Но нет, мы не свернем, пожалуй, сегодня туда, – прельстительнее плыть, думается, прямо: вдали забежевели уже отвесные песчаные берега Кагеля, все в лесах неприкосновенных, и они, эти лесистые, как бы необитаемые берега так прекрасны своей совершенно безлюдной красотой, что так и тянут к себе, так и влекут неотразимо, а потому «плыви, мой челн, по воле волн!..»
Река делает подкову, и вместе с нею делает подкову этот изумительный, весь какой-то заколдованный берег плывем совсем под ним: чтобы видеть его вершину, нужно резко откидывать голову. Взмахи весел… Сто? Двести? Может быть – тысяча?.. Мы причаливаем, карабкаемся, поминутно срываясь и утопая в оползающем песке, к вышестоящим соснам, и какой вид оттуда, какое очарование! Внизу, под нами, совсем маленькая опустошенная «Дрина», – неужели в этой скорлупке приплыли мы сюда?
Посидим здесь, свесив ноги с обрыва, не будем никуда торопиться. Запечатлевайте, глаза, всю эту красоту: до весны вы ее не увидите, зимою она станет иною, ибо ее главная, основная прелесть в этой свободной, нескованной еще льдом, воде. Сколько раз мы бывали здесь каждое лето – ловили крупных подлещиков и окуней под песчаными оползнями, устраивали многолюдные, красоте и поэзии посвященные пикники, собирали в лесу этом белые грибы и горькушки, лакомились черникой и гоноболём, и вот не надоедают же эти места, не вызывают, как зачастую города, чувства безнадежности и смертельной скуки, чувства ужаса и отчаяния, мертвящего душу человеческую. Здесь все и всегда насыщено мечтою, благостью, верою в жизнь, добро и справедливость, во все то возвышенное и, увы, безвозвратно утерянное, что свойственно городам, преимущественно большим городам.
Вечная любовь, и вечная слава, и вечная жизнь благочестивой и мудрой бессловесной Природы, и да охранят ее Небеса от прикосновения с ней людей большого города. Пусть и впредь посещают ее, в особенности этот мой Кагель излюбленный, грибы и ягоды, птицы и рыбы, муравьи и стрекозы, сапожник Отто Денисович, почти столетний «дядя Василий», веселоглазый художник Оскар и я, скорбный и оскорбленный намечающимися путями взбесившегося человечества поэт, плоть от плоти и кровь от крови кагельской пичужки и деревенского сапожника!..
В ялике по морю
Уже восемь лет я мечтал приобрести себе лодку, Мне как рыболову она была совершенно необходима мне же как лирическому поэту, разумеется, не хватало на это средств. Поэтому полученные в дар от одного «искусствика» двадцать долларов я, отложив все остальные, весьма насущные, надобности, решил прежде всего осуществить на них одну из своих почти неосуществимых для прославленного поэта мечту – купить безотлагательно наидешевейший для рядового гражданина и наидорожайший для лирика ялик.
Попросив своего знакомого инженера-электротехника сопутствовать мне в поездке по покупке и выторговывании лодки – последнему поэты никак научиться не могут, – я выехал с ним рано утром в поезде на Нарву. Нарва от нашей пятая остановка, и поезд идет немногим более часа. До станции восемь верст, которые мы прошли, конечно, в видах экономии пешком.
Спутник мой не менее ярый рыболов, чем я сам, и покупка лодки весьма его заинтересовала. С вокзала мы прямым путем направились к пристани на реке Нарове. Кончался май. Деревья были в полном расцвете. Светило весеннее солнце. У пристани, под крутым багровым обрывом, стоял под парами пароход «Павел», готовившийся к отходу в Гунгербург.
Две крепости – Ивангородская и Шведская – расположенные по обоим берегам реки одна против другой, взносили свои башни в синее весеннее небо. Красива старая Нарва! Темный общественный сад, висящий над рекой, по вечерам кишащий гуляющей публикой, днем был совершенно пуст, и, проходя по его аллеям, ведущим к пристани, мы встретили одного из моих знакомых, седоусого Ивана Ивановича Ч., прогуливающегося перед завтраком в небрежно накинутом на плечи плаще. На голове его была мягкая фетровая шляпа.
Мы сообщили ему о цели своей поездки, прося совета, где можно дешевле и лучше приобрести лодку. «Да тут же внизу у пристани, – воскликнул он оживленно. – Мой приятель как раз вчера поручил мне продать совершенно новую шлюпку. Он заказал ее для своих топей, ему прислали ее мужички с верховий, да он забраковал ее: нашел слишком большой и плоской. Пойдем Осмотрим».
На песчаном берегу дном вверх лежала желтая неуклюжая лодка. Мы попробовали ее приподнять, – ни с места. «Но ведь это целая баржа», – сказал инженер неодобрительно. Я вполне согласился с ним. «Как хотите, – заметил Иван Иванович, – не неволю. Одно только могу сказать: лодка новая, крепкая, основательная. Да и цена сходная: 10 долларов». Но мы категорически отказались от этого «броненосца береговой обороны». Иван Иванович заторопился: «Пора в Русское собрание: адмиральский час часы в желудке показывают. Идем вместе?» – «Нет, мы сначала все устроим», – отказались мы, и бывший малиновый стрелок Его Величества величественно зашагал в гору.
У пристани стояло яликов пятнадцать. Были они все, как братья родные: красно-бело-синие, в меру длинные, в меру узкие, нумерованные, с креслами на корме. Легкие лодочки, приятные для глаза.
– Вот один из таких и взять бы, – сказал я. – Что вы на это скажете?
– Идеальный тип лодки, – согласился инженер. Худенькая барышня, сидя в одном из яликов, читала книжку.
– Продаете? – спросили мы у нее.
– Нет, – улыбнулась она, – напрокат даем.
– А вы продайте, – уговаривал ее инженер, – у вас их много ведь, а нам и одной хватит.
– Вот папа идет, поговорите с ним, – указала барышня на подходившего картузника.
– Лодочку хотца? На часок или на день? – заулыбался он издали.
– В собственность, – пояснили мы.
– Не продажные они у меня, господа хорошие, для себя надобны.
– Уступите одну, куда вам такую уйму?
– Одну, говорите? А и впрямь – одну, куда ни шло, пожалуй уступлю.
– Цена?
– Не дороже денег. Давайте 10 «ковриков».
– Хотите пять?
Сторговались за семь. Ковриками зовут здесь эстонские тысячи старого выпуска. Семь ковриков равняется двадцати долларам, немногим меньше – на доллар.
– Который же номер желаете? Выбирайте любой.
– Да давай поновее, – попросили мы.
– Тогда берите тринадцатый, – посоветовал купец: вторую только весну празднует.
Тщательно осмотрев все лодки, мы убедились сами что № 13 во всех отношениях лучше других. Решили тотчас же, не теряя времени, пуститься в обратный путь – двенадцать верст по реке вниз, да по морю около сорока. Узнав о наших планах, купец с дочерью пришли в ужас.
– На ялике по морю? Да вы шутить изволите.
– И не думаем, – засмеялись мы, рассаживаясь в лодке.
– Храни вас Бог, – вдохнул старик, крепко пожимая нам руки. Барышня пожертвовала нам жестянку для вычерпывания воды.
– На всякий случай, неровен час, – благожелательно шепнула она.
– Всего доброго! – закричал инженер, взявшись за весла. Я сел к рулю, и мы быстро поплыли. Мы выехали на середину широкой реки, и теченье, подхватив нас, понесло стремглав к морю. Вскоре Нарва осталась за поворотом реки. Виднелись еще долго крепостные башни и остроконечные шпили кирок. Грести почти не приходилось: сама река несла нас. Приблизительно через час на правом берегу обозначилась Смолка, излюбленное дачное место наровчан. Песчаный обрывистый берег. Сосны. Среди них дачки. Ничего особенного.
Перед нами лежал большой остров. Мы неслись левым проливом. Из-за поворота показался «Павел», шедший уже обратным рейсом из Гунгербурга. В четыре часа дня мы подплыли к устью. Синело вдали море. Северный ветер задул нам в лицо. В Гунгербурге мы причалили к берегу, и мой спутник пошел в таможню за пропуском в море. Минут через десять все формальности были закончены, и он вернулся с пропуском и кульком с едой.
– Придется обождать, когда стихнет или переменится ветер, – заявил он, подойдя к лодке. – Северный будет прибивать нас к берегу.
– Поедемте пока в Россонь, – предложил я, и мы направили нашу лодку в приток Наровы, впадающий в нее напротив Гунгербурга.
Выплыв в Россонь, мы остановились у подветренного берега и стали приготовлять захваченные из дома удочки. До шести часов проловили мы окуней, и к этому времени северный ветер сменился восточным, попутным нам. Улов был приличным: штук 12 средних окуней лежало под кормовым креслом. Мы выехали в море. Так как берег между Гунгербургом и нашей рыбачьей деревушкой Тойлой имеет вид вдавленной в сушу подковы, мы для сокращения пути взяли курс напрямик и, значит, долгое время отдалялись от берега. Вскоре мы были уже от него верстах в семи-восьми.
Море волновалось. Барашки кувыркались вокруг нас. Ялик качало немилосердно. Из пальто инженера и из наших удилищ мы соорудили подобье паруса, и по очереди, ровно по часу, гребли для усиления хода лодки. Вот уже Гунгербургский белый маяк остался далеко позади нас, вот исчезли из вида дачи Шмецке и Мерехольд. Самая высокая точка еле видного дальнего берега влекла нас к себе, ибо, знали мы, она была гористою рощею нашей Тойлы.
До самого Силламяе – половина пути – продолжала трепать наше суденышко качка. Около девяти часов белого майского вечера стал стихать ветер, и вторую половину пути мы плыли уже по лимонному зеркалу стихшего Финского залива. Очаровательною была поездка эта, и наш № 13, мысленно уже названный мною «Ингрид», быстро подвигался вперед. Дальняя роща постепенно все приближалась и росла, но только спустя шесть часов по отплытии из Гунгербурга мы закончили свое путешествие и вытащили лодку на камни Тойлы. В первом часу ночи было это, когда утренняя заря – Койт – целуется с вечерней – Эмарик, когда рыбаки собираются в море, и бледные, весною взволнованные лица приморских девушек соперничают в белизне с вешней белой ночью.
1927
Тойла
Блестки
(Афоризмы, софизмы, парадоксы)
1
Все можно оправдать, все простить. Нельзя оправдать лишь того, лишь того нельзя простить, кто не понимает, что все можно оправдать и все простить.
2
Я люблю ее от того, что ее трудно любить: она не дается любить.
3
Мое сердце подобно новому перу, твое – пеналу. Я кладу свое сердце в твое. От тебя зависит поставить пенал в сухое или сырое место. Если перо заржавеет, повинен в этом пенал.
4
Самое обыкновенное биение любимой женщины прекраснее окаменелости Венеры Милосской.
5
Самый идеальный вид любви – любовь без взаимности: такая любовь бескорыстна и истинно-мечтательна, ибо в ней нет удевлетворенности.
6
Женщина, рассказывающая посторонним о своей интимной жизни, способна выйти из дома без юбки.
7
Единственное мое убеждение – вовсе не иметь убеждений.
8
Неудачные последователи великого художника – злейшие враги его.
9
Если вы желаете меня оскорбить, подражайте мне.
10
Для того, чтобы хвалить меня, нужно быть или очень искренним, или равным мне, или трусом.
11
Плачьте слезами раскаяния: в них захлебнется Грех.
12
Открытый эгоизм есть истина. Тайный эгоизм – страшный порок.
13
Открытое преступление – редкая в наше время искренность.
14
Ничего никому не нужно, кроме физиологических отправлений. Искусство, наука, «идейность» – или поза, или выгода.
15
Не ждать от людей ничего хорошего – это значит не удивляться, получая от них гадости.
16
Внушать человеку свои мнения – это то же, что обучать попугая или метать бисер перед свиньями.
17
Спор есть спорт: развлечение и только. Но не для всякого: попробуйте-ка страдающего астмой заставить упражняться в беге.
18
Ударить любимую женщину – самоубийство. Просто женщину – самооплевание.
19
Считаться с человеком – не достаточно его презирать.
20
Ударить человека – считать его равным себе. Не оттого ли я никого не бил.
21
Я рад только тем, кто рад мне.
22
Если хочешь сохранить с человеком добрые отношения, приписывай ему то, что ему не свойственно.
23
Сознательная проституция – мудрое разуверение в любви.
24
Корыстная проституция – ассенизационный обоз.
25
Проституция из-за нужды – белая голубка с подрезанными крыльями.
26
Женщина, отдающаяся во имя существования, честнее так называемой «честной труженницы»: она получает от жизни больше, но и дороже расплачивается.
27
Нет ничего бесчестнее – сохраняя внешнюю честность, тяготиться ею.
28
Женщина, отдающаяся из-за нужды и упорно своих обладателей презирающая, обладает вкусом к жизни и содержит в себе зачатки истинной любви.
29
Женщина без прошлого – рыба без соли.
30
Человек, мечтающий весною об осени, а осенью – о весне, человек не безнадежный.
31
Я полюбил бы ее, если бы не боялся, что она дурно обо мне подумает, если я ее полюблю.
32
Красавица в плохом платье – это «Страдивариус» без футляра. Однако «Страдивариус» имеет смысл именно без футляра. Но чтобы его сохранить, футляр обязателен.
33
Женщина, презирающая людей, но любящая кокетничать с мужчинами, упивается воспоминаниями о своем исковерканном прошлом и мстит, подавая несбыточные надежды.
34
Женщина, побеждающая в себе потребность измены, невеста богов!
35
Женщина, не думающая вовсе об измене, или очень редкая, или очень тупая женщина.
1915 г.
Впервые опубликовано в газете «Старый Нарвский Листок» в 1925 году.
36
Бесцельно отдаваться каждому, не беря его, не грех, а наивысшая пакость.
37
Идеальная грядущая эпоха человечества – отмена законов за их ненадобностью.
38
Надобность законов – доказательство низкого культурного уровня человечества…
39
Утопия – счастливейшая страна мира: въезд в нее пошлякам строго воспрещен.
40
Желание быть оригинальным, не имея данных, самый гнусный вид пошлости.
41
Истинная оригинальность – отремонтированная простота.
42
Русская критика плохо воспитана: мною существует и меня же бранит!..
43
Как жаль, что я лишен возможности хотя бы один раз накормить на свой счет критиков: эти неудачники, наполнив свои вечно голодные желудки, принялись бы ругать меня еще больше!
44
Наши критики и факельщики похоронных процессий – это почти тождественные понятия: и те, и другие зарабатывают при похоронах.
45
У всякого великого художника есть свои шуты – это критики.
46
Наши критики – это никому не подсудные разбойники.
47
Мелкие «поэтики» – моль на шубе великого поэта.
48
Слушая или читая начинающих писателей, я ощущаю чувство неловкости перед собой, ибо я делаюсь сообщником в явно-непристойном деянии…
49
Страна, созидающая Распутиных, плохо следящая за собою страна.
50
Если Вы скажите при мне: «Распутин», я укажу Вам на непристойность Вашего поведения в моем присутствии.
51
Распутин! О, это из лексикона ломовых извозчиков!
52
Ходить в гости могут только глубоко разуверившиеся в себе люди.
53
Люди, уверяющие меня, что я похож на Оскара Уайльда, говорят мне дерзость: я очень люблю Уайльда, но с меня достаточно быть похожим на себя.
54
Если Вы в состоянии пережить любимого, остерегайтесь говорить о любви: Вы не были ее достойны.
55
Не то дорого, что вложено в нее, а то, что сердце в ней увидело мое.
56
Если Вы спасаете любимого, как Вы о себе заботитесь, как любите себя!
57
Человек, привыкший всегда ссылаться на то, что «так принято», не понимает того, как это выражение им глупо отдано…
58
Если Вы позволили читать мне нравоучения, это значит – Вы стали тяготиться моим обществом, и самое для Вас рациональное – избегать встречаться со мною.
59
Относясь к другому покровительственно, мы любуемся своим преимуществом.
60
Друзья существуют для того, чтобы смотря на них или их слушая, в смущении пытаться перед собою как-нибудь оправдать их.
61
Отказать себе в общении с людьми может или совсем невежественный или особо культурный человек.
62
Любезным называется человек, не говорящий в глаза правду.
63
Глава Екатерины Великой – великая глава русской истории.
64
Заступаться за слабого имеет право тот, кто сильнее неприятеля: защита озлобляет еще больше, и если защитник будет поражен, слабый пострадает вдвое.
65
Просто женщины с прошлым – очаровательны, но женщины-художницы с прошлым – плачевны.
66
Часто люди сходят с ума в тот момент, когда они прозревают тайну мироздания. Этим они лишаются возможности выдать ее.
67
Человечество лишено знания миростроения, дабы оно не контролировало Творца.
68
Лучше подчиняться любимому негодяю, чем ненавистному или безразличному образцовому человеку.
69
Подчиняться любимому – удовольствие.
70
Упрямство – синоним безнадежности.
71
Всеоправдание ни к чему не обязывает.
72
Долг оплачивается при избытке.
73
Нужда – честно устроенная жизнь, согласованная с общественным мнением.
74
Мы нуждаемся только оттого, что не желаем не нуждаться.
75
Государство, основанное на действительных принципах свободы, непобедимо.
76
Молодая крапива полезна. Старая – вредна, за исключением порки.
77
Истинная откровенность – привилегия людей, не дорожащих ничьим мнением.
78
Человек, во всем себе отказывающий, мудр, но полужив.
79
Женщина, отдающаяся по любви в первый раз, раньше уже отдававшаяся в силу обстоятельств, девственна.
80
Женщина общества, не подающая руки проститутке, сама предрасположена к проституции.
81
Ревнует или тот, кто небольшого о себе мнения, или же тот, кто, осознав свое превосходство, именно в силу этого, ждет каверз со стороны завистников.
82
Женщина, желающая сберечь для себя мужчину, не должна быть одинаковой.
83
Половые эксцессы – изысканная инструментовка симфонии «Чувственности».
84
Чистейшие традиции старинных фамилий часто приводят к грязнейшему прекращению фамилий этих.
85
Старуха, оставшаяся девой из боязни прогадать, омерзительна своей осторожностью.
Тойла. Лето 1915 г.
86
Русские издатели украли у меня все, кроме моего имени.
87
Плохой корректор – нож в горле автора.
88
Если поэт-миллионер жаден, он всегда нищ талантом.
89
Красный цвет – цвет свободы и произвола. В первом случае – кровь угнетателей, во втором – кровь угнетенных.
90
Люди, делающие из книг костры, вовсе не люди.
91
Есть, несомненно есть две породы людей, и когда-нибудь наука подтвердит этот взгляд.
92
Человек, поднимающий руку на Искусство, должен быть причислен к преступникам.
93
Дантес, убивший Пушкина, убил русскую мысль пушкинской эпохи: он не дал ей дозреть.
94
Я знал одну учительницу-поэтессу, которая гостя у меня в доме, запиралась от меня ночами. Надо ли пояснять, что она была бездарна, стара и уродлива?
95
Россия и Рассея– это большая разница. Это две страны, постоянно враждующих между собой.
96
Лунные чары – вещь очень хорошая, но не в комиссариате народного просвещения…
97
Раньше были «оне» и «они». При равноправии убита женственность.
98
Как все меняется! – раньше касторовое масло употреблялось для «изгнания» пищи, теперь оно способствует вкушению.
99
Как выразительна иногда аллитерация! – например: Россиявыросла россомахой…
100
Изысканность, это то, что мы потеряли навеки 19 июля 1914 года!.. Вернее: 25 октября 1917 г.
1919
Тойла





