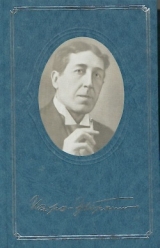
Текст книги "Том 5. Публицистика. Письма"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Цветы неувядные
(Лирика Фофанова)
Я беру с полки книжку, одну из тех немногих, которые захватил с собою, уезжая из Петербурга в 1918 году на дачу в Тойла. Книжка издана в 1887 году Германом Гоппе. Ее название: «Стихотворения К. М. Фофанова (1880–1887 гг.)». Это – первая книга поэта. Издана она в год моего появления на свет и в год смерти С. Надсона – даты знаменательные… Фофанов писал семь лет при жизни Надсона и был многим уже знаком до своей первой книги. И не странно ли: посредственный Надсон был божеством для молодежи, между тем как более чем талантливый Фофанов для большинства оставался чуждым.
Надсоном зачитывались, учили его наизусть, всячески «уважали» и чествовали, его появления на эстраде сопровождались овациями, «Литературный фонд», издававший в бесконечном количестве экземпляров его единственную книгу, разбогател на ней, а Фофанова почти не замечали. Я не говорю, конечно, о настоящих немногих ценителях искусства – я имею в виду так называемую «большую» публику. Объясняется, однако, все это очень просто: у Фофанова не было тенденции, обязательной для русского поэта той эпохи. Надсон же, писавший душещипательные элегии, насыщенные гражданской скорбью и стереотипной лирикой обывателя, отвечал как раз запросам времени.
Я убеждался неоднократно, что рядовой читатель, к сожалению, до сих пор плохо разбирается в вопросах стиля, и это – после извержения такой поэтической Этны, как Бальмонт, после офортов Брюсова и аллитерационной волшбы Сологуба!.. Немудрено, что в те времена, когда, прозевав Каролину Павлову, Баратынского и Тютчева, русский читатель зачитывался Некрасовым и Плещеевым, Надсон пришелся ему по вкусу и был принят им целиком. Какое могло быть дело публике до жалкого однообразия его размеров, вопиющего убожества затасканных глагольных рифм, маринованных метафор и консервированных эпитетов? Самое главное было налицо: «тоска по иному», все остальное не замечали, не хотели замечать и замечать не умели.
Здесь я делаю необходимую оговорку: воздавая Надсону глубокое уважение как человеку безукоризненной честности, и вполне сочувствуя его тяготению к иным формам затхлой жизни его эпохи, я абсолютно не принимаю его как поэта, для ухода из этой самой затхлости пользовавшегося затхлыми средствами в своем творчестве. Я не склонен и обвинять его за это, памятуя, что его одаренность была весьма ограниченной и не позволяла ему заняться изысканиями иных средств. Я только хочу ко нет а тировать прискорбный факт превознесения малодостойного за счет достойного вполне. Повторяю, я говорю только с точки зрения литературного, специального подхода, и ничего более.
Вот для этого-то я и достал с полки книжку Фофанова, современника Надсона, которого высоко ценил сам Надсон, чтобы сделать несколько знаменательных из нее выборок, могущих сказать сами за себя больше, нежели я стал бы пытаться прозой хвалить стихи! Но прежде, чем сделать это, припомню кстати эпизод, происшедший в 1912 году в Москве за ужином после моего концерта в «Эстетике». Присутствовавший на этом ужине ныне покойный профессор С. А. Венгеров, говоря о Надсоне, всячески его восхвалял и защищал от нападок моих и Валерия Брюсова, читавшего на моем вечере стихи, мне посвященные.
«Понимаете ли, – говорил Венгеров, – что, читая Надсона, чувствуешь не только тоску, но и ужас…» Тогда Брюсов саркастически заметил: «Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?..» Ясно: если Надсон не был художником, то «ужас» его был несколько иного порядка.
Я раскрываю томик Фофанова на первой странице, украшенной его автографом. Дата – 23 мая 1908 года, мыза Ивановка, на станции Пудость:
НА ПАМЯТЬ ИГОРЮ-СЕВЕРЯНИНУ
Это в юности всё было,
Прежде я не так любил.
И одно мне изменило,
Я другому изменил.
Эти струны, эта книжка —
Грезы юности былой…
Но теперь амур-мальчишка
Стал и взрослый и седой.
Потому-то сердцу больно,
Вьюга веет на душе,
И следы любви невольно
Я ищу на пороше.
Той любви своей юности искал престарелый поэт, гостя у меня на даче, когда на нашей «изношенной земле», под «золотой лазурью», «весною, в Божьи именины, тебе веселый праздник дан: в твоем саду цветут жасмины, в твоем саду журчит фонтан», когда над «огненной урной тюльпана» светит «молодая луна», когда
Весь заплакал сад зеленый,
Слезы смахивают клены
На подушки алых роз.
Порвана последней тучки
Легко-дымчатая ткань.
И в окно уносят ручки
Юной бабушкиной внучки
Орошенную герань…
когда
Едва-едва забрезжило весной,
Навстречу вешних дней мы выставили рамы.
В соседней комнате несмелою рукой
Моя сестра разучивала гаммы.
Духами веяло с подержанных страниц,—
И усики свинцово-серой пыли
В лучах заката реяли и плыли,
Как бледный рой усталых танцовщиц…
И не хотелось ли поэту, вспоминавшему свою молодость, заключенную в монастыре лет, сказать ей:
Быть может, тебя навестить я приду
Усталой признательной тенью
Весною, когда в монастырском саду
Запахнет миндальной сиренью?
Опечаленно вспоминает он дальше:
Тихо бредем мы четой молчаливой,
Сыростью дышат росистые кущи…
Пахнет укропом, и пахнет крапивой,
Влажные сумерки гуще и гуще…
…Верно, давно поджидает нас дома
Чай золотистый со свежею булкой.
Глупое счастье, а редким знакомо…
И не подумал ли он, смотря на осенеющий парк Ивановки:
Полураздетая дуброва,
Полуувядшие цветы,
Вы навеваете мне снова
Меланхоличные мечты.
О музе прежних дней, о которой он сказал когда-то:
Увы, ей верить невозможно,
Но и не верить ей нельзя.
О, молодость Фофанова, когда
Заслушалась роза тюльпана,
Жасмин приклонился клилее,
И эхо задумалось странно
В душистой аллее.
Теперь же
Время набожно сдувает
С могильных камней письмена.
Вспомнились и давние незабудки, не увядшие на. клумбе воспоминаний:
Не грели душу сны живые,
Лишь доцветали на окне
Две незабудки голубые,
Весною брошенные мне…
И в те ли дни встретился он впервые с любовью, которой сказал:
С тоской в груди и гневом смутным,
С волненьем, вспыхнувшим в крови,
Не повторяй друзьям минутным
Печаль осмеянной любви.
Им все равно: они от счастья
Не отрекутся своего,
Их равнодушное участье
Больней несчастья самого.
Не любил поэт города:
Столица бредила в чаду своей тоски,
Гонясь за куплей и продажей.
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей…
И он шел рассеянно, город его не волновал, мечты мчались туда, где
…серебро сверкающих озер,
Сережки вербы опушенной
И серых деревень заплаканный простор,
И в бледной дали лес зеленый…
И веяло в лицо мне запахом полей,
Смущало сердце вдохновенье,
И ангел родины незлобивой моей
Мне в душу слал благословенье.
И не за эту ли свою любовь к природе поэт всегда
Был встречаем природой знакомой,
Как нежною сестрою потерянный брат?..
Не одну существующую земную природу знал он, была хорошо знакома иная природа – природа фантастическая:
Я грезою в Эдем перенесен:
Меж мшистых скал легко гарцуют лани,
Цветет сирень, синеет небосклон,
И колибри трепещет на банане…
Это в эпоху-то Надсона!
Вы все-таки еще не согласны, господа, что красота выше пользы?..
1924
Озеро Uljaste
«Цветы розовой окраски…»
(О лирике Фофанова)
Перелистывая первую книгу Фофанова, вышедшую в свет в 1887 году, я нахожу, – среди массы раздражающих своим убогим шаблоном и ходячим клише стихов, мало говорящих об истинной индивидуальности автора и могущих быть приписанными любому выдающемуся стихотворцу той эпохи, если исключить их замечательную плавность, ему присущую, и редкую вдохновенность, постоянно его выручавшую в «несчастных случаях», – много изумительных строк, строф, а иногда – но это значительно реже – и стихотворений целиком.
Фофанову хорошо удавалась форма отрицания общепринятого. Так например, когда большинство – и большинство громадное – поэтов, описывая свидания влюбленных, привыкли говорить, что эти свидания происходят обыкновенно в «поэтической» обстановке: при «расцветающих розах», «поющих соловьях», «светящей луне» и иных, на их взгляд, неизбежных атрибутах любовных встреч, Фофанов позволял себе и встречаться с любимой, и эти встречи описывать несколько иначе, что, на мой взгляд, отнюдь не вредило ни этим свиданиям, ни этим стихам:
Не правда ль, всё дышало прозой,
Когда сходились мы с тобой?
Нам соловьи, пленившись розой,
Не пели гимны в тьме ночной.
И друг влюбленных – месяц ясный —
Нам не светил в вечерний час,
И ночь дремотой сладострастной
Не убаюкивала нас.
Как хотите, а я чувствую в приведенных двух лирических строфах несомненную иронию. Благодаря ей такие стереотипы, как «соловьи, плененные розой», «тьма ночная», «месяц ясный» и «сладости дремоты» здесь не только не шокируют слух, а положительно уместны и даже нужны. Но, несмотря на такую «несладострастную», безлунную, безрозную, бессоловейную обстановку, поэт все же торжествует:
А посмотри – в какие речи,
В какие краски я облек
И наши будничные встречи,
И наш укромный уголок!..
В них белопенные каскады
Шумят, свергаяся с холма;
В них гроты, полные прохлады,
И золотые терема.
В них ты – блистательная фея;
В них я – восторженный боец —
Тебя спасаю от злодея
И торжествую наконец.
Как уместен здесь, например, иронический стих «Тебя спасаю от злодея»! Все вместе взятое дает мне право назвать процитированное стихотворение удачным.
Бродя по городу, поэт умел видеть, как
Газовых рожков блестящие сердца
В зеркальных окнах трепетали…
B дубовой роще он примечал, как «выгнутые корни деревьев извивались серыми ужами». Смотря на тюльпан, нарисованный на оконном стекле художником Морозом, он мог думать о тюльпане живом такими стихами:
Даль окуталась туманом,
Молчаливо сад заснул,
И глазетовым тюльпаном
На стекле мороз блеснул.
Но душа не унывает, —
Знаю я, что в свой черед
На окне тюльпан растает,
А на клумбе зацветет.
Своеобразно смотрел он на мир:
Покуда я живу, вселенная сияет.
Умру – со мной умрет бестрепетно она…
Мой дух ее живит, живит и согревает,
И без него она ничтожна и темна.
Оригинально по мысли, хотя далеко не безупречно по форме, следующее стихотворение:
Чужой толпе, чужой природе,
Он жаждал бурь и шумных битв,
Не видел Бога в небосводе
И на земле не знал молитв.
Любви не ведая прекрасной,
Он людям зло свое принес.
И умер он… И труп безгласный
Зарыли ближние без слез.
Но над его могильным ложем,
В тени разросшихся кустов,
Весной душистою прохожим
Запели птицы про любовь.
Если бы в этом стихотворении не было «шумных битв», «прекрасных любовей», «безгласных трупов» и «душистых весен», оно несомненно много выиграло бы.
Выписываю еще одно стихотворение, очаровывающее против воли: в нем так много непосредственности, что невольно прощаешь и его, по выражению обывателя, «задушевность» и его несколько мещанскую тональность. Называется оно «Май»:
Бледный вечер весны и задумчив и тих,
Зарумянен вечерней зарею,
Грустно в окна глядит; и слагается стих,
И теснится мечта за мечтою.
Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.
Там, за душной чертою столичных громад,
На степях светозарной природы,
Звонко птицы поют, и плывет аромат,
И журчат сладкоструйные воды.
И дрожит под росою душистых полей
Бледный ландыш склоненным бокалом,—
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.
Дорогая моя! Если б встретиться нам
В звучном празднике юного мая—
И сиренью дышать, и внимать соловьям,
Мир любви и страстей обнимая!
О, как счастлив бы стал я любовью твоей,
Сколько грез в моем сердце усталом
Этот май-баловник, этот май-чародей
Разбудил бы своим опахалом!..
«Бледный вечер», «бледный ландыш», «душная черта», наконец, даже «светозарная природа» – вот что хочется похвалить в этих стихах. Но сколько в них «грустно глядящих в окна вечерних зорь», «усталых сердец», «звонко поющих птиц» и других банальностей!..
А как вам понравится такая вещица:
Ты пришла ко мне, малютка,
Ранним утром,
В час, когда душистей незабудка,
И блистают тучи перламутром.
Ты пришла и рассмеялась
Слишком звонко.
В этом смехе много мне сказалось:
В нем звучала хитрость не ребенка…
Понял я – вчера недаром
Ночью лунной
Ты, краснея и пылая жаром,
Вышла в сад походкою бесшумной!..
Мне она нравится определенно, несмотря на «туч блистающие перламутром» (у кого только их не на «бесшумные походки», «пыланье жаром»… В этой вещице есть что-то, что я могу обозначить поэзией.
Закончу я свой обзор приведением «Элегии» из цикла «Траурные песни»:
Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски:
Не все я выплакал мечты,
Не все поведал миру сказки.
Не допил я любовных снов
Благоуханную отраву,
И не допел своих стихов,
И не донес к сединам славу.
А как был ясен мой рассвет!
Как много чувств в душе таилось!
Но я страдал, я был поэт,
Во мне живое сердце билось.
И пал я жертвой суеты,
С безумной жаждой снов и ласки!
Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски!
Произведение это я нахожу пророческим: создано оно 29 августа 1886 года, т. е., когда автору было всего двадцать четыре года.
И что же? Все вышло так, как он говорит в нем: жажда любви и ласки, ожесточенный жизненными неудачами, подверженный страшному «виноградному пороку», пал он «жертвою тщеты», не доживи до серены славы, хотя расцвет его и был ясным, и обещал ему так много…
И вот, в результате настала для него ранняя осень, когда
…Коронками к земле склонились георгины,
Туманным саваном окутывалась даль,
И нити пыльные воздушной паутины
Белели меж ветвей алеющей рябины,
Как хмурой осени истлевшая вуаль…
1924
Озеро Uljaste
Встречи с Брюсовым
1
Осенью 1911 года – это было в Петербурге – cовершенно неожиданно, ибо я даже знаком с Брюсовым не был, я получил от него, жившего постоянно в Москве, чрезвычайно знаменательное письмо и целую кипу книг: три тома «Путей и перепутий», повесть «Огненный ангел» и переводы из Верлэна. На первом томе стихов была надпись: «Игорю Северянину в знак любви к его поэзии. Валерий Брюсов».
«Не знаю, любите ли вы мои стихи, – писал он, – но ваши мне положительно нравятся. Все мы подражаем друг другу: молодые старикам и старики молодежи, и это вполне естественно». В заключение он просил меня выслать ему все брошюры с моими стихами, т. к. он нигде не мог их приобрести. И не удивительно: брошюры мои, начиная с 1904 г. по 1912 г. включительно, выходили всего в ста экземплярах, и только две из тридцати пяти вышли: в двухстах – одна и в трехстах экземплярах другая. В письме ко мне Брюсова и в присылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное: юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достигший вершины славы, светило модернизма, общепризнанный мэтр, как сказал о нем как-то в одном из своих стихотворений Сергей Соловьев, – «великолепный Брюсов»! Очень обрадованный и гордый его обращением ко мне, я послал нашедшиеся у меня брошюрки и написал в ответ, что человек, создавший в поэзии эру, не может быть бездарным, что стихи его мне, в свою очередь, тоже не могут не нравиться, что ассонансы его волнующи и остры, и прочее.
Вскоре я получил от него первое послание в стихах, начинавшееся так: «Строя струны лиры клирной, братьев ты собрал на брань». В этих стихах он намекал на провозглашенный мною в ту пору Эго-футуризм. Я ответил ему стихами, начинавшимися: «Король на плахе. Королевство – уже республика». Под королем я подразумевал только что скончавшегося – 17 мая 1911 г. – К. М. Фофанова. На одной из брошюрок я сделал такую надпись: «Господину Президенту республики „Поэзия“ изнеможенный наследник сожженного короля».
С этих пор у нас с Брюсовым завязалась переписка, продолжавшаяся до первых месяцев 1914 года, когда появилась его заметка в «Русской мысли» о моей второй книге стихов – «Златолире». Но об этом в свое время. Как-то издатель «Петербургского глашатая» И. В. Игнатьев, приступая к набору альманаха «Орлы над пропастью», попросил меня написать Брюсову и предложить ему сотрудничество. Я исполнил просьбу Игнатьева, незамедлительно получив «Сонет-акростих Игорю Северянину»: «И ты стремишься в высь, где солнце вечно». Оба стихотворения Брюсова, ко мне обращенные, вошли впоследствии в его сборник «Семь цветов радуги».
2
Однажды зимой я только что зажег лампу, как кто-то позвонил к нам. «Брюсов», – доложила прислуга. Взволнованный до глубины души этим новым проявлением с его стороны ко мне исключительного опять-таки внимания, я поспешил встретить его. Быстро скинув меховую шубу и сбросив калоши, он вошел в мою комнату, служившую мне в то время одновременно и спальной, и кабинетом. Разговор наш длился около часа. Он настойчиво советовал мне подготовить к печати первый большой сборник стихов, повыбрав их из моих бесчисленных брошюр.
– Это совершенно необходимо, – говорил он. – На что можно рассчитывать при тираже в сто экземпляров, при объеме в 12–20 страниц? Да вдобавок, как вы сообщаете, брошюры ваши почти целиком расходятся по редакциям «для отзыва», и в продажу поступает, быть может, одна четверть издания.
Кстати будет заметить, что как раз в описываемое мною время ко мне стали являться артельщики то от Вольфа, то от Карбасникова, прося продать им на наличные безо всякой комиссии то ту, то другую брошюру. «Публика требует», – поясняли они. Они охотно платили мне обозначенную печатно на обложке цену: по рублю за… четыре страницы брошюры «Эпилог Эгофутуризма»! Уже прощаясь, Брюсов предложил мне выступить со стихами в Московском литературно-художественном кружке, где он состоял директором. Kроме того, он просил меня прочесть там же доклад об Эго-фут<уризме>. От последнего я мягко уклонился, стихи же обещал прочесть. Мы условились, что он напишет мне, когда я должен буду приехать в Москву.
3
Получив от Брюсова письменное приглашение деньги на дорогу, я поехал в Москву. Переодевшись в гостинице, я, как было уловлено, отправился к нему на Первую Мещанскую ул. 32. У него я застал профессора С. А. Венгерова, ныне уже тоже умершего. Валерий Яковлевич познакомил меня с Иоанной Матвеевной, своей женой, и мы прошли сначала в кабинет, очень просторный, все стены которого были обставлены книжными полками. Бросалась в глаза пустынность и предельная простота обстановки. На стене висел портрет хозяина изумительной работы Врубеля. Сначала разговор шел о литературе вообще, затем он перешел на предстоящее мое московское выступление «Я очень заинтересован вашим дебютом, – улыбнулся В. Я., – и хочу, чтобы он прошел блестяще. Не забудьте, что Москва капризна: часто то, что нравится и признано в Петербурге, здесь не имеет никакого успеха. В особенности это касается театра. Впрочем, это старая история, и вы, думается, неоднократно сами слышали об этом антагонизме. Главное, на что я считаю необходимым обратить ваше внимание, это чисто русское произношение слов иностранных: везде эоборотное читается как епростое. Например, сонэт произносите как сонет. Не улыбайтесь, не улыбайтесь, – поспешно заметил он, улыбкой отвечая на мою улыбку. – Здесь это очень много значит, уверяю вас».
Мне не хотелось обидеть его, я ему был признателен за дружеское предостережение, но все же совет его я отклонил довольно решительно. И мне не пришлось жалеть об этом…
– Читали ли вы когда-нибудь стихи Ал. Добролюбова? – спросил меня В. Я. – Ведь это был истый поэт. К сожалению, его мало знают. – И взяв с полки небольшую, скромно изданную книжку, он прочел нам с Венгеровым два-три любимых своих стиха. «Ну, как вам нравится?» – настойчиво спрашивал он. «Я не причисляю себя к поклонникам его творчества, – сдержанно возразил я, – я нахожу судьбу автора гораздо интереснее и значительнее его произведений». Разговаривая, мы перешли в столовую, где Иоанна Матвеевна разливала чай. Брюсов предложил нам джинджера, и мы пили его, закусывая бисквитом. Приветливое лицо некрасивой и молчаливой жены Брюсова дышало уютом и радушьем. Я встретил ее всего дважды: в этот вечер и спустя года два на своем вечере в Политехническом музее, когда она зашла ко мне в лекторскую передать привет от В. Я. и приглашение заехать к ним. К сожалению, этому мне что-то помешало.
4
Мой дебют в «Эстетике» при лит<ературно>-худ<ожественном> кружке, состоявшийся на другой день после описанного мною визита к Брюсову, собрал много избранной публики, среди которой вспоминаю художников Гончарову и Ларионова, проф. Венгерова и др. Я прочел около тридцати стихотворений и был хорошо принят. После меня выступил Брюсов, прочитав свои стихи, мне посвященные. Читал он резким, неприятным и высоким голосом, как-то выкрикивая окончанья строк. Но это было своеобразно, очень просто, и, конечно, исполненье его мне понравилось больше, чем замысловатое и пафосное чтение многих весьма именитых актрис и актеров, которого, откровенно говоря, я не выношу. После стихов дирекция кружка пригласила нас к ужину, во время которого мне пришлось быть объектом речей и тостов.
Моей дамой оказалась Софья Исааковна, первая жена Алексея Толстого, упорно уверявшая меня, постоянного петербуржца, что она чуть ли не ежедневно встречает меня в московских трамваях. Возможно, к концу ужина она и уверила меня в этом – теперь уже не помню. Во всяком случае, в Москве я не был перед этим лет девять, в трамваях же и петербургских ездить тщательно избегал.
Во время ужина В. Я., сидевший напротив меня, встал из-за стола и, подойдя ко мне и нагнувшись к уху, сказал, что две дамы просят разрешения меня поцеловать. Выслушав мое согласие, он провел меня в смежную гостиную, где познакомил меня с Н. Львовой, молодой поэтессой, подававшей большие надежды, вскоре покончившей жизнь самоубийством. Мы обменялись поцелуем с ней и ее спутницей, фамилии которой я не запомнил. Между нами не было сказано ни слова. Это была наша единственная встреча. Я теперь уже не помню лица ее, но у меня осталось впечатление, что Львова не была красивой.
Помню еще в этот вечер разговор Брюсова с Bенгеровым по поводу Надсона, двадцатипятилетие со дня смерти которого исполнялось вскоре. В. Я. нападал на
Надсона, обвиняя его в том, что его бездарность и безвкусье развратили целое поколение молодых стихотворцев. «Это не заслуга перед родной литературой, а преступление», – горячо доказывал он Венгерову, яростно защищавшему Надсона. Я был согласен с Брюсовым: мой выпад в ямбах против Надсона был только что прочитан в «Эстетике». «Понимаете ли вы, – говорил Венгеров, – что, читая Надсона, чувствуешь только тоску, но и ужас…»
Тогда Б. саркастически ответил:
– Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?..
Брюсов неоднократно давал в «Русской мысли» заметки о моих стихах. Общий тон этих рецензий был более чем благожелательный, и потому, когда появилась его заметка о моей «Златолире», явно, на мой взгляд, несправедливая и недобрая, я, откровенно говоря, очень обиделся и написал ему – нашумевшую в свое время – отповедь в стихах, так больно задевшую его, как это видно из его примечания к большой статье о моем творчестве, написанной специально для сборника Пашуканиса «Критика о творчестве Игоря Северянина».
Конечно, теперь, спустя чуть ли не тринадцать лет когда охладился пыл момента, я вижу, что я несколько погорячился, но в ту пору я не мог поступить иначе, больше всего опасаясь, что мое молчание могло бы быть истолковано как боязнь перед «авторитетом», что для меня, дерзкого в то время «новатора», как называла меня тогда некоторая часть отечественной критики было бы чрезвычайно неудобно…
Несомненно, некоторую долю в возникновении моего «бунтарского» стихотворения еще сыграла одна довольно известная, – увы, только в те годы – актриса, хорошо знавшая Брюсова и предупредившая меня не доверять всем его восторгам и комплиментам. «Берегитесь этого человека, – говорила она, – он жесток, бессердечен, завистлив и никогда ничего не делает без причины, без предвзятости, и, если он теперь хвалит вас и всячески обхаживает вокруг, это значит, ему так почему-то нужно и выгодно. Когда же для него в вас минет надобность, он начнет со спокойной совестью всячески вредить вам и никогда не простит вам вашего таланта. Он бросит вас, как надоевшую женщину».
И так как я совершенно не знал Брюсова как человека и вдобавок был целиком под чарами говорившей, я и припомнил ее слова, сказанные мне приблизительно за год до моего с Брюсовым конфликта. В результате – стихи, в которых я открыто обвинял В. Я. в зависти. Статья, написанная Брюсовым для сборника Пашуканиса, несмотря на все ее кажущееся беспристрастие и из ряда вон выходящие похвалы, – что же, тем тоньше она, – носит в себе следы глубочайшей, неумело скрытой обиды, и вся она создана под знаком ее.
В 1917 году, в феврале, за две недели до революции, заставшей меня в Харькове, я давал вечер стихов в Баку, возвращаясь из Кутаиса. По городу были расклеены афиши – Брюсов читал ряд лекций. Мне очень хотелось бы его повидать и примириться с ним, но я не знал, как бы сделать это лучше. Мне было известно, как мало в большой России истинных поэтов, поэтому я привык в душе свято чтить их – нас? – с детства. Что земные нелады перед небесным ладом душ наших?
Мы сидели в отдельном кабинете какого-то отеля (вероятно, это был «Бристоль» или «Астория», ибо в каком же уважающем пошлость, другими словами – себя, городе нет гостиницы с такими наименованиями?), мы сидели втроем: один именитый армянин города, Балкис Савская и я, когда вдруг неожиданно распахнулась дверь и без доклада, даже без стука, быстро вошел улыбающийся Брюсов. До сих пор не знаю, как это произошло и был ли он осведомлен о моем в кабинете присутствии или же он вошел, предполагая найти в комнате, может быть, знакомого ему армянина, но только я поднялся с места, сделал невольно встречный к нему шаг. Этого было достаточно, чтобы мы заключили друг друга в объятия и за рюмкой токайского вина повели вновь оживленную – в этот раз как-то особенно – беседу.
Чудесно начатое знакомство закончилось не менее чудесно, и я все-таки склонен больше верить оставшимся на всю жизнь в моих глазах благожелательным и восторженным последним глазам Брюсова, сердечным интонациям его последнего голоса, головокружительности его последних похвал по моему адресу там, в Баку, чем злостным предостережениям давно переставшей меня чаровать чаровницы, в сущности далекой искусству и его жрецам.
1927
Тойла





