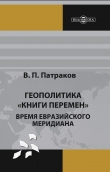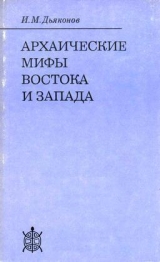
Текст книги "Архаические мифы Востока и Запада"
Автор книги: Игорь Дьяконов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Но когда мы стоим на пороге мифологии, все дело состоит в том, что мы не имеем выбора между рациональным и тропическим высказыванием: в архаическом языке отсутствуют (или крайне недостаточно присутствуют) слова для выражения абстрактных понятий. А ведь надо передавать феномены и их связи куда более сложные, чем вылет пчелы из улья за взятком. Поэтому архаическое мышление должно быть тропическим.
Такое мышление часто принято называть мифопоэтическим, имея в виду неразделенность в нем рационально-логического и образно-эмоционального начала. Этот термин звучит, однако, как обозначение сочетания не мысли с эмоцией, а мифа с поэзией. И, помимо того, он является неудачным переводом английского термина mythopoeic (из греческого), что значит не мифопоэтическое, a мифотворческое.
С точки зрения экспериментальной психологии и физиологии мозга словесное осмысление (вторая сигнальная система), в том числе и тропическое, заложено в совсем иных физиологических структурах, чем эмоциональные реакции. Участие разных структур мозга в процессе мышления – явление общечеловеческое; однако, хотя мифологическое мышление есть такое же мышление, как и наше, в суждениях древнего человека эмоция может соприсутствовать в гораздо большей степени, чем в нашем суждении. Хотя в нем каждый троп имеет интерпретативную функцию, но, будучи тропом, он непременно индуцирует и эмоцию. В мифологическом мышлении содержатся как зародыши дедуктивного, рационально-логического, научного мышления, направленного на объективное познание самого мира, так и зародыши художественного («поэтического»), образного мышления, направленного на познание нашего отношения к миру. [37]37
Ю. В. Андреев справедливо замечает, что «человек, мифологически мыслящий, вообще не заинтересован в познании своего отношения к миру, которое предполагает недоступный ему очень высокий уровень рефлексии». Вот почему на архаическом уровне и существует лишь мифологическое мышление и нет разделения на мышление научное, направленное на объект, и на мышление художественное, направленное на наше отношение к объекту (который в принципе может находиться и внутри нас). Ср.: Рунин Б. М.Вечный поиск. М., 1964. Далее Ю. В. Андреев цитирует мое замечание на с. 11: «Кроме некоторых специфических обстоятельств, практический характер реакции [первобытного человека], на внешние импульсы преобладал, и интерпретативная сторона восприятия была необходима лишь в пределах нужд жизненной практики – или, в лучшем случае, на ее периферии». При этом он задает мне вопрос: «Стало быть, дикарь-философ, дикарь-поэт должны раз и навсегда уступить место дикарю-практику (охотнику, земледельцу)?..» Однако из изложенного выше видно, что архаическое («мифологическое») мышление содержит в зародыше и философию и искусство.
[Закрыть]В области познания нашего отношения к миру (т. е. искусства) дедуктивное мышление не полностью приводит к цели в силу закона «шеррингтоновской воронки» (количество поступающих в центральную нервную систему импульсов превосходит возможности качественно отличных рефлекторных ответов). Поэтому вместо точного кодирования полученной эмоции мы можем создать только некоторый образ, индуцирующий эмоцию аналогичную и таким способом отражающую эмоцию начальную.
Английский физиолог Ч. С. Шеррингтон [38]38
Шеррингтон Ч. и др. Рефлекторная деятельность спинного мозга. М., 1932.
[Закрыть]впервые сформулировал «принцип воронки». Он анализировал обычные формы локомоторных рефлексов и не использовал свои результаты для трактовки словесного выражения эмоций. Речевое мышление и культурное поведение в психологии рассматривались Л. С. Выготским. [39]39
Наиболее ясно – в посмертной работе, доложенной Вяч. Вс. Ивановым на симпозиуме в 60-х годах, см.: Симпозиум по Структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1965. Ср. также: Выготский Л. С.Мышление и речь. М., 1934; он же. История развития высших психических функций. М., 1960; он же. Психология искусства. М., 1965.
[Закрыть]Более подробно вопрос о влиянии шеррингтоновской воронки на эмоциональные реакции человека и ее воздействие на искусство рассмотрел Л. С. Салямон. Он приходит к следующему принципиально важному суждению: «Простого объема слов недостаточно для выражения данного эмоционального состояния… Избыток раздражений, характеризующих эмоциональную корковую реакцию, приводит к дополнительным рефлективным ответам». [40]40
Салямон Л. С.О физиологии эмоционально-эстетических процессов. – Содружество наук и тайны творчества. Под ред. Р. С. Мейлаха. М., 1968; он же.Элементы физиологии и художественное восприятие. – Художественное восприятие. I. Под ред. Б. С. Мейлаха. М., 1971.
[Закрыть]Далее автор анализирует уже в численных величинах возможности человеческих реакций на изменение, к примеру, оттенков цвета, воспринимаемых и дискретно различимых нашим зрением. Как оказывается, число различимых вариантов цвета исчисляется миллиардами, в то время как число словесных отражений очень ограниченно. Даже наиболее грубое различение оттенков цвета требует прибегания к сравнениям: «цвет коричневый» (от корицы), «цвет лимонный», «цвет телесный» и т. п.; но и число таких обозначений составляет в лучшем случае несколько десятков, и их тем меньше, чем более архаичен язык. [41]41
Для примера возьмем литературный аккадский (ассиро-вавилонский) язык: он различал цвета «теневой» (черный или черно-зеленый, ṣalmu), «яично-белый» (peṣû), «кровавый» (темно-красный или коричневый, du'āmu), «сердоликовый» (или розовый, sâmu), «лазуритовый» (синий, иссиня-черный, uqnû), «травяной» (желтый или желто-зеленый, warqu), «серебристый» (ṣarpu). Заметим, однако, что число терминологически различаемых цветов соответствует практическим потребностям в их различении. Поэтому у эскимосов может различаться множество оттенков цвета снега и льда (У. Мазинг).
[Закрыть]Сравнение же есть один из видов тропа.
Но то же самое относится и к любым другим раздражителям из области мира феноменов: они всегда крайне разнообразны, и эмоциональная реакция на них может быть только тропической – образной, метонимической.
В данной книге мы возьмем за основу выводы Л. С. Салямона.
Принцип воронки полностью относится и к мифологическому мышлению. Неспособное к абстрактному обобщению, оно вынуждено передавать обобщения через тропы: количество поступающих в кору головного мозга сигналов превосходит возможность их полного словесного (или изобразительного) отражения. Это особенно касается такой информации, которая вовлекает в действие; сразу множество физиологических механизмов. Раз эмоции принципиально невозможно передать (словесно или изобразительно) путем их обобщения в абстрактных понятиях, то на долю мифотворчества (а позже – искусства) остается передавать обобщения ассоциативно через отдельное. Но это «отдельное» не есть единичное, а есть образ с неограниченным числом возможных эмоциональных ассоциаций. Образ «восполняет ограниченные возможности протокольно-рациональных форм сообщения и вызывает соответствующий или близкий эмоциональный резонанс у другого лица». [42]42
Салямон Л. С.О физиологии, с. 286 и сл.
[Закрыть]Речь идет не просто о собственной эмоции, а об индуцировании сходных эмоций у других. Здесь могут и должны образовываться тропы, т. е. приемы применения слова не в его обычном («прямом») значении, а в значении метонимическом, эмоционально выделяющем (с целью их обобщения) какие-то определенные признаки или эмоциональные ассоциации – это либо ассоциации с тем понятием, которое выражает данное слово в обычном употреблении, либо ассоциации со всем контекстом данного понятия. Такие тропы вследствие их широкой ассоциативности могут индуцировать дальнейшие тропы, образующие семантические ряды, пучки и целые семантические поля. [43]43
Господство эмоции на этапе мифологического мышления не абсолютно: в любом случае действуют оба полушария головного мозга, и хотя в мифологическом мышлении нет абстрактных понятий, однако общие понятия предметного характера есть. Поэтому и на мифологическом этапе в мышлении имеются элементы рационального анализа и со временем все более начинает играть роль не только тропический, но и рациональный синтез. С другой стороны, когда человеческое познание разделяется на научное (рациональное) познание объектов мира и на преимущественно эмоциональное познание нашего отношения к объектам мира, само научное, логическое мышление не освобождается полностью от элементов эмоции и от применения тропов.
[Закрыть]
По мере того как создаются средства для формальных логических обобщений, позволяющих возникнуть неэмоциональному научному познанию мира, ассоциативно-метонимическое мышление вытесняется в автономную область – область познания нашего эмоционального отношения к миру, область художественного мышления, искусства, и в том числе поэзии. [44]44
Ср.: Рунин Б. М.Вечный поиск. М., 1964.
[Закрыть]
Для суждения, выраженного не в абстрактных понятиях, а в тропах, всегда возможен большой, часто почти неограниченный их выбор. [45]45
Ср. Г. Франкфорта о «значимой непоследовательности» и «сверхизобилии воображения» в примеч. 7.
[Закрыть]Например, ту же информацию о пчеле можно передать и таким способом: «пчела, узница за восковой решеткой, бежит в поле, отнимая сладостное питание у богатых, пышно одетых его обладателей». И это будет, переведенное на язык рациональной информации, означать ровно то же самое. Воображение будет развиваться иначе, эмоции будут другие, и при таком написании стихотворения индуцирование другихэмоций входило бы в задачу стихотворца. [46]46
Об эмоциях ср. также, например: Кеннон В.Физиология эмоций. М., 1927; Moles A. L'analyse des structures du message poétique aux differents niveaux de la sensibilité. – Poetics. Warszawa, 1961; Симонов П. В.Что такое эмоции. М., 1966.
[Закрыть]
При создании мифа (обобщения в форме тропов) тропы могут варьировать весьма значительно, но информационное ядро (о котором будет речь в следующей главе) должно быть сходным. Впрочем, и эмоциональный элемент, при одинаковых социальных и социально-психологических условиях и установках, не должен быть существенно отличным: миф в любом случае предназначен для обобщения феноменов, в целом одинакововоздействующих на сознание человека; задачей обобщения является вызывать одинаковыеэмоциональные и практические реакции. Мифообразование отличается вариативностью, но в какой мере различные тропические описания вылета пчелы могут или не могут одинаково годиться для создания мифа, зависит от конкретных условий.
Постараемся это несколько разъяснить. На глубоком уровне первобытного мышления ассоциативные связи могут восприниматься как примерно эквивалентные. Связь по смежности, связь части и целого, связь названия с самим предметом, даже связь по сходству – все являлись метонимическими и потому не ощущались как неравно-ценные; более того, они могли даже ощущаться как равносильные причинно-следственной связи, особенно если коллективный опыт предков был недостаточен для обнаружения здесь их неравноценности. Это тоже можно видеть по фактам древних языков, где одно слово может обнимать целый семантический ряд: например, по-шумерски a (aia) означает вода; семя; родитель; наследникпо-аккадски napištu дышок, дыхание, душа, жизненна сила; сам;sumu имя; потомство, потомок, то, что создано,и т. д. [47]47
Так и в случае слов, начинающих уже приобретать абстрактное значение: еще во II в. до н. э. в библейской книге «Экклесиаст» встречаем: ṭôb хороший, добрый, благой, счастливый, приятный, удачный;rā' дурной, злой, больной, неприятный, тяжкий, злобный, несчастливыйи т. п. – Аккадское слово napištu (и шумерское zi) само по себе в значении кровьне засвидетельствовано, но такое значение засвидетельствовано в урартском для шумерограммы этого слова – ZIMEŠ.
[Закрыть]Это явление не следует называть полисемией (многозначностью) слов: их значения связаны по определенным, ассоциативно-психологически обусловленным семантическим рядам или пучкам и могут восприниматься как оттенки одного значения.
Неразличение иерархии логических связей можно видеть и на грамматических примерах из древних языков: так, в шумерском одно и то же грамматическое средство (в данном случае несамостоятельное спрягаемое слово-энклитика – àm) употребляется для выделения именного сказуемого (логического предиката): lú-bé dingir-àm человек этот – бог есть,но также для выделения определения (эпитета): NN lú-ngeštug-àm NN – человек разумный,букв. NN человек-ухо есть,и иногда даже для сравнения: NN dUtu-àm mu-gub NN как солнце встал,букв. NN солнце есть, встал.Выражение отождествления, эпитета и сравнения одними и теми же средствами показывает возможность пользоваться отождествлением, эпитетом и сравнением в качестве обобщения– либо по принципу метафоры(т. е. так, что одно явление сопоставляется = отождествляется с другим, хотя с ним и не связанным, но обладающим общим с ним признаком, с целью обобщения именно этого признака, например «солнце – птица» вместо «солнце парит в пространстве и движется по небу», «источник воды – глаз» вместо «круглый, блестящий»), либо по принципу метонимии, т. е. подмены одного понятия другим, связанным с ним в каком-то отношении, необязательно по линии причинно-следственной связи, например: шум. ngeštu(g)-sum-(m)a ухом наделенный(= мудрый, глубокомысленный); аккадск. šumam lubni'am имя построю себе(= «прославлюсь») šuma lā zakrū именем не названы(«не существуют»).
Явление эквивалентности сравнения и позитивного утверждения в их языковых выражениях встречается и в гораздо более развитых языках, чем шумерский или даже аккадский: санскр. matta iva пьяный словно(iva), но ср. и ita ivi отсюда именно(iva), kālam nā tīdirgham iva вреямя не слишком долгое совсем(iva). В ранней древнеиндийской литературе (особенно в эпосе) можно проследить, как поэтический троп (сравнение) лишь постепенно развивается из древнейшего мифологического уподоблеиния = отождествления. [48]48
Васильков Я. В., Невелева С. Л.Ранняя история эпического сравнения (на материале VIII книги «Махабхараты») (в печати).
[Закрыть]
Различие между метафорой и метонимией относительно. По определению, метафора может быть развернута в сравнение – по той причине, что в метафоре сопоставляемые явления ни в какой органической связи между собой не состоят и могут быть связаны толькосравнением; а метонимия в сравнение развернута быть не может по той причине, что сопоставляемые явления и так уже связаны между собой более прочными, объективными связями. [49]49
См.: Томашевский Б. В.Теория литературы. Поэтика. М.-Л., 1927, с. 30, 39 и сл.
[Закрыть]Однако такая классификация вполне пригодна лишь к приемам более или менее современной нам литературы, но неприменима без особых оговорок к древнему мифотворчеству или языкотворчеству – ведь то, что нам сейчас кажется непохожим, но зато связанным с сопоставляемым понятием логическою связью, могло ранее казаться похожим, и наоборот. Поэтому, для наших целей, вместо «метафора», «метонимия» целесообразнее говорить о семантических полях и семантических рядах, связанных ассоциативно-тропически и ассоциативно-эмоционально. В семантическое поле входят понятия, в данной исторической среде более или менее постоянно взаимозаменяемые или ассоциативно связываемые между собой в мифотворчестве и языкотворчестве. При этом обусловленность их связи, с нашей, современной точки зрения, может быть недостаточно очевидной, но в историческом плане раскрывается как «метафорическая» или одна из «метонимических» ассоциаций.
В одном конкретном языке редко можно проследить все возможные звенья семантического ряда, но почти всегда можно указать несколько звеньев такого ряда, который затем можно расширить, например, если показать семантические переходы между однокоренными словами в нескольких языках, имеющих общее происхождение. Возьмем, к примеру, семантические ряды, связанные с понятием «воды»: мы уже видели, что шум. a(ia) значит не только вода, но и семя,а также родительи наследник.Но есть и другой семантический ряд: «смерти – болезни – тьмы – ночи – холода – воды». Этот ряд, по-видимому, экологически обусловлен, поэтому в жарких и сухих регионах он обычно представлен не так (ряд шум. ngig охватывает только «болезнь – тьму – ночь»). С другой стороны, семитский корень *ḥay-/*ḥaw– означает жизнь,а *Ḥāуа («Эа») обозначает бог животворных подземных пресных вод(и вообще всего полезного и благоприятствующего человеку), однако *ḥayy-at– означает не только живое, животное,но и специально змей,которого мы встречаем в мифах хранителем вод и источников (может быть, через семантический пучок «вода – влага – змея – смерть»?). Ср. еще праиндоевропейское *(Н) k'mon камень,откуда санскр. aśman камень, скала; небосводи греч. ákmōn наковальня(небосвод мыслится твердым, стало быть, каменным или металлическим, и он же, по-видимому, наковальня для бога грома, молнии и дождя). Афразийское *samị обычно значит небо,а по-аккадски с абстрактным суффиксом – ût– ливень, дождь,только в чадских языках *samị даже и без суффикса специально значит дождь. [50]50
Приведенные нами случаи переходов значения по семантическим рядам лингвисты пока не проверяли строгими методами, и теоретическое обоснование сложения и существования таких переходов не сформулировано. Вопросы семантики, конечно, изучались философами и психологами (Шрёпфер, Оли, Гулькович и др.), но их выводы, как нам кажется, практически неизвестны лингвистам. Мы вполне готовы допустить, что всестороннее исследование проблемы семантических рядов и полей внесет в нее новое понимание, однако пока мы эмпирически исходим из обильного материала, собранного лингвистами-компаративистами.
[Закрыть]
На примере понятия «вода» мы видим, как вокруг одного понятия образуются не только ассоциативные семантические ряды, но и целые поля семантических ассоциаций. Эти поля, конечно, не имеют резких краев, так как ассоциации переплетаются и сменяются в зависимости от конкретных обстоятельств, местных природных условий и т. п. Разумеется, гораздо чаще мы находим в языке более очевидные (а часто позднейшие) семантические ассоциации; приведенные же примеры служат только для того, чтобы показать возможность неблизких – с нашей точки зрения, «метафорических» или «метонимических» – ассоциаций между явлениями. Такие метонимические ассоциации, при отсутствии в языке абстрактных средств для обобщения, неизбежно приводили к созданию мифов безо всякой потери убедительности такого, т. е. «тропического») или «мифического», осмысления этих явлений – по семантическим пучкам, рядам и полям. Отметим также, что эти ассоциации не только чрезвычайно образны, но и, неизбежно, эмоциональны. Это означает с физиологической точки зрения, что приводятся в действие не только участки коры головного мозга, заведующие речевой деятельностью и причинно-следственным осмыслением, но и ретикулярная формация мозга и гормональный аппарат. Заметим, что любые явления реального мира, произведшие впечатление на данное лицо, в результате известной защитно-тормозной деятельности мозга отражаются в области бессознательного (например, в сновидениях) разными «замещениями» [51]51
См.: Freud S.Die Traumdeutung. Wien. 1900. Во фрейдистской психоаналитической науке этому вопросу посвящено огромное множество исследований. Помимо оказавших большое влияние на художественную литературу сексуальных «замещений» важное место занимают и другие (например, замещения смерти).
[Закрыть]в пределах семантического поля (например, в сновидении умерший обычно является не полноценно живущим, но и не мертвым, а лежащим в темноте, или вымокшим от дождя, или больным, или уезжающим и т. п.). Это, конечно, тоже именно семантические ряды; появление их в подсознании указывает на их эмоциональный характер и происхождение.
Легко заметить, что приведенные семантические ассоциации весьма подобны возникающим в художественном творчестве, и не случайно, конечно, что мы не смогли избегнуть терминологии, заимствованной из области поэтики. В этом нет ничего удивительного: в искусстве, так же как в древнем языке и в мифе, обобщение достигается не через абстракцию, а через конкретное и отдельное, лишь бы оно было характерно и способствовало возникновению нужного обобщающего впечатления. Как наука, так и искусство – формы познания, однако наука пытается логически познать объект, а искусство – наше интуитивно-эмоциональное отношение к нему. В архаическом мышлении этого деления нет. [52]52
Разумеется, наука может изучать и отношение человека к объекту (искусствоведение, литературоведение), но тогда само это отношение есть объект, который не индуцирует или не должен индуцировать эмоций.
[Закрыть]
Надо напомнить, что вплоть до поздней древности иных мировоззрений, кроме религиозных – в конечном счете мифологических, – не существовало. [53]53
В данном случае и во всех подобных мы имеем в виду религию как содержание веры, как убеждение, основанное не на логическом рассуждении, а на свободной опоре на авторитет «древних» или «всех». Следует отличать от этого позднейшую нормативную, идеологизированную, а в дальнейшем – догматизированную религию.
[Закрыть]Нерелигиозные течения греческой и восточной философии возникают лишь на третьем-четвертом тысячелетии существования классового общества и государства, но и тогда имеют численно весьма небольшой круг приверженцев. Поэтому и в отношении любого раннего памятника искусства мы не можем ставить вопрос: «религиозный или нерелигиозный», но только: «используемый в институциализованном культе или неиспользуемый». Ясно, что в обоих случаях мифология является содержанием сюжетов и поэтических тропов. Наиболее характерны в этом отношении греческие (и римские) мифы: все из них, дошедшие до нас, переданы нам не через религиозную античную традицию, от которой сохранилось мало следов, а через художественную: через гомеровские поэмы, «гомеровские гимны», поэмы Гесиода, через греческих трагиков, Горация, Вергилия, Овидия и т. п., причем в отношении более поздних из этих авторов можно весьма сомневаться, верили ли они сами в собственных мифологических персонажей.
Нужно помнить, что хотя мы поневоле имеем дело с записанными повествованиями на мифологические сюжеты, однако миф и сам по себе сюжетен. Наиболее архаические повествовательные тексты, например шумерские протоэпосы, почти целиком следуют мифу.
Но в дальнейшем мифологические сюжеты, изложенные в художественной форме эпоса, трагедии, стихотворных посланий и т. п., становятся подчиненными задачам собственно художественного творчества. Часто (например, уже в вавилонском «Эпосе о Гильгамеше», восходящем к III–II тысячелетиям до н. э.) можно заметить, что древние мифологические сюжеты фрагментируются и их отдельные мотивы вставляются в общее художественное повествование с определенной эстетической или идейной целью, [54]54
Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). Пер., ст. и коммент. И. М. Дьяконова (Литературные памятники). М., 1961 (послесловие); Дьяконов И. М.Образ Гильгамеша (К вопросу об отношении мифа и эпической поэзии). – Труды Государственного Эрмитажа. 2. Л., 1958. с. 5–72.
[Закрыть]уже имеющей мало общего с первоначальным явлением, которое данный миф осмыслял. Следует иметь в виду, что, пока искусство (изобразительное и словесное) было одним из наследственных ремесел сохранение готовых сюжетов, мотивов (топосов), постоянных оборотов и эпитетов, независимо от их происхождения, было абсолютно необходимо художнику – для запоминания того, что ему еще предстояло передать, или для облегчения импровизации, а зрителям и слушателям – для сопереживания. У последних ритмические повторы вызывали экстатические эмоциональные состояния (как при восприятии рок-музыки). Выдумывание литературных сюжетов появилось в словесном искусстве поздно, а в изобразительном – еще позднее: для зрителя и слушателя было важнее не что, а как изображалось, важнее не неожиданность, а узнавание – и творческий талант художника или поэта заключался не столько в изображении нового, сколько в умении оперироватьготовыми приемами, мотивами и сюжетами; а они в большинстве своем были заданы мифологией, но в историческое время складывались и заново – иногда тоже по семантическим рядам. Мифологические повествованияотносятся не только к мифоведению (как сами мифы), но и к рассказоведению; типологически поздние мифологические повествования относятся уже целиком к рассказоведению.
Кажущаяся алогичность, произвольность мифологической фантазии, надо полагать, объясняется именно тем, что осмысление и обобщение явления мира происходят в мифе по семантическим эмоционально-ассоциативным рядам. Так, по семантическим рядам в египетском мифе Солнце, с одной стороны, золотая птица-сокол, парящая в небе, а с другой – глаз бога, охраняемый священной змеей (семантический ряд «глаз – источник – вода – змея», скрещивающийся с рядом «солнце – свет – зрение – глаз – источник»); точно так же, по иному семантическому ряду, хлеб вырастает из мертвого тела бога.
Очень наглядный пример приводит египтолог Р. Антес (МДМ, с. 57–60). Дабы выразить мысль, что небо представляет собой свод или кровлю, опирающуюся на четыре точки горизонта, и одновременно что оно – нечто каждый день рождающее солнце, а также звезды и луну, а в то же время и нечто такое, по чему солнце движется ежедневно из конца в конец, можно было сказать, что небо – корова на четырех ногах, женщина, рождающая солнце, и река, по которой плывет солнце. Это достаточно выражало представление, которое надо было передать, и никто не смущался тем, каким образом небо может быть одновременно коровой, женщиной и рекой, ибо все ясно чувствовали, что на самом деле небо – нечто иное, чем корова, женщина или река. Но в силу той же неразвитости абстрактных понятий не существовало и таких понятий, как «сравнение», «метафора», «толкование», и всего необходимого для того, чтобы выразить, что небо – все-таки не корова, не женщина и не река. Сравнение, толкование, само наименование предмета или явления воспринимались как нечто неразделимое и вещественное, например имя – как вещественная часть именуемого. Поэтому не нужно удивляться, что древний египтянин мог приносить небу жертвоприношения и как божественной корове, и как женщине (богине).
Против нашего понимания «Небесной Коровы» по Р. Антесу (а также и по Г. Франкфорту) выдвигается возражение такого рода: соответствующие изображения и тексты относятся уже к Новому царству Египта, т. е. ко времени уже несомненной идеологизации египетской религии, и сам факт совмещения разных мифов, кодирующих, в сущности, один и тот же феномен, может быть проявлением уже идеологизированного религиозного мышления.
На это можно возразить следующее: идеологизация религии не предполагает введения в нее элементов логического мышления (хотя они могут в ней появляться постепенно); сущность идеологизации составляет придание сознанию определенного направленияв ту или иную идеологически необходимую сторону. Сознание может быть направлено религией на утверждение божественности царской власти, на веру в воскресение праведников и искупление грехов верой, на соблюдение кастовой дхармы, на стремление к освобождению от уз бытия. Но аргументы, которыми оперируют идеологизированные религии, все же не лежат – в основном и главном – в сфере абстрактных логических построений, но в сфере эмоций, а тем самым опять же в сфере мифотворчества. Поэтому мы имели право использовать «корову-небо» для иллюстрации того, как строилисьмифы. Здесь нагромождение мотивов (когда-то сосуществовавших, как бы не конкурируя) может являться относительно поздним, но это не должно нас смущать – зато такое нагромождение тем более наглядно показывает независимость мифа от логики.
А чем глубже идеологизирована религия, тем легче дается всякая синкретизация мифологических образов: «нестандартные» древнейшие мифологические сюжеты могут теперь рассматриваться как «символы», как условные и необязательные знаки уже мифологизированных денотатов, как некие «толкования» наряду с другими возможными «толкованиями», почему и возможно ставить их рядом. В «Ригведе» [55]55
Здесь и ниже материал индийской мифологии изложен по Я. В. Василькову.
[Закрыть]встречается совмещение разных «космогонических гипотез» и мифов о творении, и это всегда очень поздние гимны, а миф здесь определенно понимается как «толкование». В более древних текстах два мифа, относящиеся к одному феномену, обычно никогда не сталкиваются – очевидно, древний человек избегал их сопоставлять именно потому, что не научился еще видеть в них «иносказания» и не мог объяснить себе, почему существуют различные мифологические «модели» [56]56
В книге нет первой кавычки. Возможно, она должна быть перед «мифлогические»… ( Прим. сканировщика).
[Закрыть]такого, например, события, как сотворение мира.
Наверное, у египтян в их мифологической архаике представления о небе как корове, рождающей солнце, [57]57
Матье М. Э.Древнеегипетские мифы. М.-Л., 1956, с. 54.
[Закрыть]и о небе как реке, по которой солнце плывет в ладье, существовали отдельно друг от друга. В архаической мифологии индоариев параллельно бытовали разные космогонические мифы: о битве Индры с Вртрой, об отделении Индрой неба от земли, о трех шагах Вишну, о порождении тварного мира от семени Праджапати, об изготовлении элементов мироздания богом-ремесленником Тваштаром, об «установлении» всего сущего богом-Установителем (Дхатар). Битва Индры с Вртрой и три шага Вишну представлялись параллельными актами, а деяния Праджапати и Дхатара – последовательными ступенями космогонии; но такие попытки «согласования» различных космогонических мифов встречаются, как сказано, в довольно поздних текстах. Прочие мифы о мироздании не осознавались ни противоречащими друг другу, ни как-либо согласованными.
Все эти разные мифы о творении уживались в сознании ведического индоария так же, как древний житель Ближнего Востока знал о существовании разных местных и племенных богов с одной и той же доминирующей функцией, причем, оказавшись в чужом городе, мог приносить жертвы местному богу (приравнивая его к собственному или же нет). Все это не значит, что они считали и своего бога, и чужого только «толкованиями», только разными ипостасями одного «неведомого бога» или вполне их отождествляли. Они верили, по-видимому, в существование и того и другого бога, в правду и того и другого мифа. Два разных мифа о творении или о природе неба, возможно имевшие разновременное происхождение или родившиеся в разных местах, друг другу не противоречили. Противоречащими друг другу могут быть два разных логических объяснения, а миф – не логическое объяснение и не подчинен закону исключенного третьего. Это, скорее, демонстрация существа феномена на модели образной (построенной по принципу тропа – скажем, метафоры). [58]58
См. рассуждения Г. Франкфорта, М. Элиаде и других авторов, цитированные выше, в примеч. 7. Мы вряд ли можем согласиться с определением Франкфортом архаического мышления как «спекулятивного», но в основном приведенные нами его заключения могут сейчас считаться принятыми в науке. Другое дело, однако, какие из этого делаются дальнейшие выводы. Так, мы не можем принять, концепцию Э. Хорнунга, видящего в мифологическом мышлении логику – отличную от аристотелевской, но все же именно логику своего рода; нам кажется недостаточной «теория функций» Ж. Дюмезиля; нам кажется недопустимым привязывать те или иные особенности архаической мифологии к культурам народов специфически той или иной семьи языков; что же касается структуралистской теории К. Леви-Стросса, то к ней мы вскоре вернемся. Не все в ней для нас приемлемо. Неприемлемы для нас и многие другие существующие толкования явления мифа. Как пример можно взять интересную книгу: Lana Troy.Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History. Uppsala, 1986. Согласно Лане Трой, в основе египетской религиозной и политической мысли лежит некая предсуществующая идея дуальности, проявляющаяся затем в виде символов на уровне космогонии, а затем уже – мифологии разных уровней, а также ритуала. С нашей точки зрения, архаическое мышление может раскрывать объективно существующую в мире бинарность, но идея (или символ) не может предшествовать прямому наблюдению.
[Закрыть]При этом обобщение, приводящее к представлению феномена в виде такой «метафорической модели» (например, к представлению феномена грозы как картины боя между громовержцем и драконом), производилось, надо думать, без всякой попытки логического осмысления в современном духе, тогда еще и невозможного. На уровне сознания сам феномен и его «метафорическая модель» не отделялись четко друг от друга; вернее считать, что отношения между ними – и троп в принципе – осознавались близкими к тождеству.
Надо полагать, что для египтян «небо-корова» и «небо-река» были именно сопоставлениями-отождествлениямис упором на последние, и всякое сомнение в этих «тождествах» в зародыше подавлялось «доверием к авторитету» («так говорили предки»). Этнографы свидетельствуют, что в обществах, чья культура осталась на стадии архаики, большинство людей понимало мифы «буквально», хотя некоторые старейшины и шаманы (но далеко не «все»!) видели в них «скорее иносказания».
Возвращаясь к синтетическому [59]59
А не синкретическому; синкретизм – это исторически новый этап в развитии восточных религий, которого мы здесь не можем касаться.
[Закрыть]образу «неба-коровы-реки», который приводит Р. Антес, отметим, что в нем выделяются, как заметил Я. В. Васильков, не три, а только два гетерогенных компонента («небо-корова» и «небо-река»). Что касается представлений о «небе-корове» и «небе – женщине, рождающей солнце», то они с самого начала были, по-видимому, отождествимы и взаимозаменяемы; как один и тот же образ в антропоморфном и зооморфном «кодах» они принадлежали к одному семантическому ряду – и к одному мифу. «Небо-корова» и «небо – женщина, рождающая солнце» совершенно сближаются, если учесть, что существовало представление о «небе – корове, рождающей золотого теленка (солнце)». Любопытную аналогию, быть может указывающую на афразийскую древность мифа, мы находим в изображении-«перевертыше» на печати III тысячелетия до н. э. с о-ва Файлака в Персидском заливе, [60]60
См.: Archaeological Investigations in the Island of Failaka 1958–1964. Kuwait, 1968, рис. 79.
[Закрыть]тесно связанного с шумеро-аккадской культурой: в центре круглой печати помещена голова коровы, несущей солнце между рогами. Но вся композиция указывает на возможность рассматривания изображения с двух противоположных сторон, и при перевертывании печати на 180 градусов на ней оказывается изображенной женщина, рождающая солнце.
При словесно-эмоциональном кодировании воздействующих на человека феноменов и реакций на них мы получаем, с одной стороны, достаточное типологическое однообразие для того, чтобы мы могли классифицировать мифы по типам плана содержания, и в то же время обнаруживаем большое разнообразие в конкретной подаче феноменологически родственных явлений и сюжетов. [61]61
Мы еще будем говорить о вариативности даже самых первичных мифов. Вызываемая мифологической интерпретацией широкая ассоциативность тропических построений возбуждает воображение, иногда почти безграничное, уводящее в конечном счета от интерпретативной функции мифа. Здесь уместно подчеркнуть что на протяжении всей этой книги мы говорим лишь о мифах собственно, в том смысле, как мы их определили на с. 9, 12, 28–34, 72, 84–85, 111. В популярных книгах, однако, по разряду «мифологии» зачисляются иной раз просто волшебные сказки (повествования с установкой на вымысел, лишь с некоторой мифологической окраской, вроде истории Леды и Лебедя или Данаи и Золотого дождя и многих других подобных, рассказываемых, например Овидием). Нам кажется, что подобные сюжеты к мифам в том понимании, которому мы следуем в этой книге, уже вовсе не относятся. Ср. выше, примеч: «Напротив того, сюжет сказки немифического содержания – занятный, хотя, быть может, и поучительный вымысел: „сказка ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок“. Конечно, сказка может и должна быть эмоциональной: эмоция не есть привилегия мифа; но миф и сказочный сюжет находятся в разных планах диахронии и различны по установке».
[Закрыть]
Школа мифологов К. Леви-Стросса концентрирует внимание на первой стороне – однородности существующих мифов в плане типологии. Леви-Стросс [62]62
Levi-Strauss С. Anthropologic structurale. P., 1958; он жеLa pensee sauvage. P., 1962.
[Закрыть]справедливо рассматривает мифологическое мышление как конкретно-чувственное и метафорическое и правильно считает, что «малые этнографически-пережиточные сообщества с устойчивой социальной структурой являются идеальным объектом анализа». Это действительно так, поскольку такие общества, естественно, сохраняют наиболее древнюю иерархию восприятия воздействий из внешнего мира и наиболее неосложненные анимальные (или витальные) реакции на них.
Леви-Стросс рассматривает мифологическое мышление как способное к обобщениям, классификации и логическому анализу и поэтому являющееся «интеллектуальной основой технического прогресса эпохи неолита»; в то же время это – мышление на чувственном уровне, конкретное и метафорическое. Для Леви-Стросса структура мифов как знаковая моделирующая система – это аспект естественного языка как идеального средства информации. Анализ мифов есть средство выявления первичных структур сознания, исконной «анатомии» человеческого ума. В семантике мифа ведущую роль у Леви-Стросса играют бинарные (двоичные) оппозиции (верх – низ, мужское – женское, сырое – вареное, жизнь – смерть и т. п.) и идея «посредничества» между оппозициями для преодоления фундаментальных противоречий человеческого сознания. [63]63
Такое посредничество обычно достигается по семантическому ряду, на противоположных концах которого могут находиться бинарно противопоставленные оппозиции: «жизнь —…[скажем] вода… – смерть». Посредничество, однако, необязательно: оппозиция «небо – земля» может превратиться в семантический ряд, скажем «земля – дерево – небо», но может остаться оппозицией, если она не воспринимается как противоречивая, а потому вызывающая дискомфорт.
[Закрыть]В изучении мифов упор им делается на структуру, а не на содержание сюжетов.
Структурный анализ мифов является мощным орудием для их стройного описания, внесения порядка в материал различнейших мифологий, который кажется бесконечно беспорядочным и разнообразным. Однако, как и другие исследовательские методы, структурный анализ имеет свои ограничения. Так, с одной стороны, совершенно верно, что древний человек по-своему анализировал явления мира. Однако назвать этот анализ логическим в нашем смысле нельзя, так как человек оперировал не общими понятиями, а только тропами и дедукция в собственном смысле ему была доступна лишь инстинктивно, образно. Нет сомнения, что и такой анализ приводит в достаточном количестве случаев к результатам, удовлетворительным для руководства деятельностью человека и поддержания его жизни. Но в то же время он дает громадные отходы ложных суждений. Если бинарность и дискретность мыслительного процесса, видимо, имеют физиологическую основу и автоматический характер, [64]64
См. также выше о ритме, с. 60.
[Закрыть]то с теми языковыми и мыслительными средствами, какие были в распоряжении первобытного человека, строить «концепции» было нельзя; такими понятиями, как «центр» и «периферия», «горизонталь» и «вертикаль», он пользоваться не мог. Семантические ряды, выстраивавшиеся в его мышлении (mentality), современный исследователь можетсвести к «центрам» и «перифериям», «горизонталям» и «вертикалям»; но, пользуясь структурным анализом по следам Леви-Стросса, следует учитывать, что в реальности первобытного мышления все эти структуры даны в форме образов, не обобщенных до степени абстрактных понятий. Постулируемая исследователем модель может быть либо психологически обусловленной, либо обобщением, наложенным нами самими на относительно разнородные феномены, только и существующие в действительности. Их внутренняя структурированность может отражать некоторую психофизиологическую общечеловеческую закономерность, подлежащую ведению психологин и формулирующуюся на базе восприятий пространства индивидуумом на сенсорно-перцептивном уровне. Эти восприятия не могли не обобщаться, но обобщались они в виде тропов. Однако постулируемая исследователем мифологическая модель может оказаться и результатом вторичного, научного осмысления, не присутствовавшего непосредственно в древнем сознании. Этот момент уже отмечался в литературе, в том числе и структуралистской. Кроме того, нам кажется, что Леви-Стросс и его последователи недостаточно обращают внимание на проблему исторической, а также экологической обусловленности выявляемых структур и на их историческую смену; следовало бы, далее, различать между суждениями, основанными непосредственно на наблюдениях, и умозаключениями чисто ассоциативно-метонимического характера. Пользуясь методами структурного анализа, желательно памятовать, что с его помощью мы не декодируем миф, раскрывая его социально-психологические (и в конечном счете психолого-физиологические) основы, а дополнительно кодируем его в терминах структурного анализа. Это, конечно, вносит упорядочение в бесконечно пестрый материал мифов, и при этом код, безусловно, адекватен денотату; но когда сам денотат является кодом (язык и миф кодируют феномены мира), то можно попытаться заглянуть глубже.