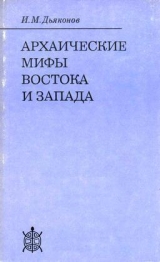
Текст книги "Архаические мифы Востока и Запада"
Автор книги: Игорь Дьяконов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Глава 1
Мифологическое мышление
Человеку с самых ранних времен приходилось реагировать на окружающее; целесообразнореагировать, иначе погиб бы индивид и, как и он, погиб бы и вид. Это означает, что человеку с самого начала надо было осмыслять воздействовавший на него мир и в отдельных его проявлениях, и как целое. «Осмыслить» в данном случае означает выявить органическую (динамическую) связь между явлениями: например, явление А вызовет (может вызвать) явление В – отвечай реакцией С. Но прежде чем начнется осмысление явления, возникает эмоция – первичная: комфорт – дискомфорт, более сложные – страх, гнев, радость. Поэтому практическая реакция непременно имеет и эмоциональную основу.
Такая реакция, конечно, доступна и животному. На уровне Homo sapiens нужно уже, так сказать, профилактически сопоставлять связи явлений, еще не имеющих прямого воздействия на меня (на нас), но несущих в себе возможность воздействия. Стало быть, человеку приходилось, воспринимая действующий на него мир, который всегда вызывал у него и определенные эмоции, – давать этому миру известное общее осознание. Человек должен был научиться делать вывод для себя и для своего социума, выделяя общее из отдельного, – короче говоря, обобщать и классифицировать, вырабатывая при этом речевые рефлексы, сигналы второй системы.
Осознание ведь предполагает не одни лишь прямые рефлексы. Мышление на уровне второй сигнальной системы предполагает речевое оформление мысли, а речь состоит не из одного называния, но предполагает и определенную грамматическую структуру, выражающую отношение к денотату: действует ли он (субъект ли он действия) или покоится (субъект состояния), из чего, с чем, на что он действует (каков его предикат), мой он, твой или ничей, или его вообще нет; а если это действие, то завершено оно или нет. Конечно, не следует сводить все эти грамматические категории к категориям формальной логики: сама структура архаичного языка отражает архаичность мышления, а в языке архаического человека могут отражаться категории, представляющиеся нам неважными, а зато не отражаются многие категории, без которых в наше время мы не можем составить высказывания, например нет категории времен и т. п.
Грамматический строй речи предполагает определенную мыслительную классификацию явлений мира и тем самым также определенную ступень их обобщения. И в архаическом словарном запасе тоже, конечно, проявляются обобщения своего рода.
Но при необходимости обобщать наблюдаемые явления – а без этого нельзя построить даже самого простого предложения – первобытный человек сталкивался по крайней мере с тремя главнейшими трудностями: нехваткой языковых средств для выражения общих понятий, [20]20
С этим сталкивается и современный мыслящий человек; но в отличие от первобытного человека он научился создавать новые выражения для вновь возникающих общих понятий.
[Закрыть]недостаточностью критериев для различения разной степени важности связей между явлениями и ограниченностью такой собственной жизненной практики, которая давала бы проверку как самих связей между явлениями, так и их иерархии.
Важно отметить, что языковые трудности первобытного человека отличаются от трудностей ребенка, впервые учащегося языку: ребенок выучивает первые слова со всей их взрослой – в том числе и «обобщающей» – семантической нагрузкой, первобытный же человек должен был сам выразить обнаруживаемое им общее с помощью готовых языковых средств, предназначенных, собственно, для частных, предметных явлений и для непосредственных реакций. [21]21
Здесь мы не будем касаться сложнейшего вопроса о происхождении слов языка. В период складывания исторических языков (куда мы относим и языки, лишь реконструируемые методами сравнительно-исторической лингвистики) сложилось явление, чрезвычайно важное для всего дальнейшего языкового и, шире, духовного развития человечества: чистая знаковость слова, отсутствие (или утеря) его органической и формальной связи с обозначаемым (денотатом). Язык превратился в обширный, гибкий, богатый знаковый фонд для обозначения явлений – в код окружающего мира. Однако язык – код особого рода; двоичный код ЭВМ кодирует цифры, цифры могут кодировать, скажем, буквы, буквы кодируют элементы слова, знаки семафора кодируют слова и целые предложения – но только язык кодирует безграничный мир феноменов.
[Закрыть]
В каждом слове любого древнего или современного языка заложена история как его формы, так и его семантики; техника сравнительного языкознания, примененная к древним и архаическим языкам, а затем и к надежно реконструируемым еще более ранним языковым состояниям, позволяет нам обнаруживать едва ли не уникальные в настоящее время данные о том, какие средства обобщения сведений об окружающем его мире имелись в распоряжении человечества на ранних этапах его развития. Всякое, даже самое логичное современное мнение относительно возможных причин образования мифов в существе своем недоказуемо, потому что мы, казалось бы, не можем экспериментально воссоздать мыслительный процесс древних людей. Но данные языка, с помощью которого только и могли создаваться обобщающие заключения о мире – какими, несомненно, являлись мифы, – эмпирически сравнительно более доступны [22]22
Словотворчество бессознательно, а потому мало зависит от идеологии сиюминутности, не проходя ни цензуры, ни даже, по большей части, автоцензуры.
[Закрыть]и к тому же хотя бы отчасти современны созданию изучаемых нами мифов. Именно изучение языка несомненно показывает нам, как могли строиться суждения в раннюю эпоху истории человечества. Язык же в своей целостности есть знаковая система, денотатом для знаков которой в принципе является все, что может быть предметом возможного человеческого опыта, что содержится в поле структур, данных в опыте, и является почвой как для мыслительных и эмоциональных обобщений, так и для практической деятельности – т. е. вся совокупность феноменов. Задача языка – кодирование всей этой безграничной и неорганизованной информации. Совершенно естественно, что язык, особенно в его ранних, неразработанных формах, – очень неточный, неоднозначный способ кодирования информации. В частности, для языка как знаковой системы не существует строгого правила: один знак – один денотат. [23]23
Поэтому часто говорят о полисемии (многозначности) древней лексики (см., например: Lewandowski Th. – Linguistisches Worterbuch, 2 3, 1959, с. 575: «Полисемия обычно считается… Центральным свойством лексических единиц и основной структурной чертой языка»). Некоторые переносят понятие полисемии и на грамматические структуры ( Muller Н.-Р.Polysemie im semitischen und hobraischen Konjugationssystem. – Orientalia. 55, 4. 1986, c. 365). Однако о полисемии древнего слова или грамматической категории можно говорить только относительно современных языковых систем; для древнего человека, например, латинское dominium с полисемическим значением класть, владение, господство, собственность, суверенитет —моносемично, ибо, с его точки зрения, «власть, владение, господство, собственность, суверенитет» – просто одно и то же. Тем более это относится к унитарным способам грамматического выражения того, что с точки зрения современных языков является различными вещами, например вид и время, различные типы модальности и мн. др. Речь идет не о полисемии, а об определенных ассоциативно связанных семантических пучках.
[Закрыть]
Чем глубже мы забираемся в архаичные языки, тем меньше находим в них средств для выражения общих абстрактных, т. е. непредметных, понятий; человек вынужден передавать общее через отдельное. Мышление первобытного человека принципиально не «теоретично», не дедуктивно, так как он не имеет возможности идти от абстрактного к конкретному, но должен сначала, путем неосознанного синтеза, найти общее из отдельного, абстрактное из конкретного. Это очень ясно видно на материале языка: человек не может сознавать то, что он не имеет средства выразить в языке. Нам справедливо говорят, что хотя мышление действительно может совершаться только на базе языка, но экспериментальные данные показывают, что осознание происходит и в ходе интуитивного анализа внешних явлений, и чувственного познания, в пределах которого реакция осуществляется в образах, памяти и воображении – не всегда в словесной форме; другими словами, что рефлексы вызываются не только второй, но и первой сигнальной системой. Отсюда следует также, что и теперь мышление человека вообще, а первобытного человека тем более, всегда связано со сферой эмоций (и не с одним каким-либо физиологическим механизмом, а с целой серией физиологических механизмов, ответственных за эмоции). Но это – то, что роднит человека с высшими животными; собственно человеческое сознание есть «форма неслышного лингвистического поведения».
То обстоятельство, что древний человек вынужден был в языке передавать общее через отдельное и не имел средств для выражения общих непредметных понятий, может считаться установленным. Если мы даже допустим (чего, впрочем, нельзя доказать), что человек мог «нутром», интуитивно чувствовать наличие обобщений, у него все равно не было средств выразить эту интуицию «общего» иначе как с помощью языкового знака для необщего феномена – т. е. с помощью тропа: метонимии, метафоры, омофонии и тому подобного.
Возьмем один из наиболее архаических известных нам языков (не только хронологически, но и типологически архаических), а именно шумерский III тысячелетия до н. э.: чтобы сказать «открыть», шумеры говорили ik-kid дверь толкнуть,даже когда речь шла, скажем, об открытии торгового пути от моря до моря; «ласково» было mí-dug. букв, женски говорить;чтобы сказать «убить», говорили sang-ngiš-rah, букв. голову палкой ударить,хотя бы речь шла об убиении каким-либо другим способом; «сверху» было ugu темя,«спереди» было igi глаз(оно же и лицо;а египтяне, желая сказать «спереди», говорили m b3ḥ, что означает in pene); «освобождение» было ama-r-gi 4 к матери возвращение;«имущество» было níg-šu вещь руки,«приданое» было níg-mí-ús-a вещь, женщине приставленная.«Царственность, царская власть» обозначалась как «судьба большого человека (хозяина)» (nam-lugal), а само слово «судьба» обозначалось иероглифом птицы.
В этом перечне мы встретили по крайней мере два абстрактных слова – «судьба» и «вещь». Мы не можем в настоящее время точно объяснить, почему «судьба» обозначалась «птицей» – за этим стоит все еще непонятый нами мифологический троп. Не вполне ясно обстоит дело и со словом «вещь», шум. níg иероглиф обозначает «миску», возможно, как хранилище какого-то имущества (как известно, в IV–III тысячелетиях до н. э. вся домашняя утварь месопотамца хранилась в глиняной посуде, например в больших глиняных чанах, но мелкие вещи могли храниться и в мисках или тазах). Однако скорее всего имелось в виду обычное содержаниемиски – каша! Сам иероглиф означает, кроме слова níg вещьтакже глагол ngar кластьи существительное ninda хлеб, чурек. [24]24
Так обычно переводят это слово ассириологи. Но аккадский эквивалент этого шумерского слова – aklu означает просто еда,и не более ли вероятно, что в мисках помещались не хлебы, а каша?
[Закрыть]Небезынтересно, как передавалось понятие «вещи» в других древних языках, отчасти менее архаичных, чем шумерский.
Возьмем несколько примеров из семитских языков.
По-аккадски «дело, вещь» обычно выражается словом 'awāt– с первичным значением говорение, речь, слово(но корень – *hwy, в западносемитских языках означающий являться, существовать, быть).
В древнееврейском обычное обозначение для «вещи» – dābār, букв, речь,также ḥēpäs желание; необходимость.
По-арабски «вещь» – šay'– нечто; вещь; дело,первоначально желаниеот глагола *šу' желать, хотеть;отсюда буква š как сокращение для нечто,в испанской транскрипции х(тогда еще читалось [š]) – отсюда «икс» в европейской математике.
Возьмем теперь более близкие к нам индоевропейские языки.
Прежде всего бросается в глаза, что общеиндоевропейского слова с абстрактным значением «вещь» нет – очевидно, оно вырабатывалось в отдельных индоевропейских языках уже после их выделения из их исходного диалектного континуума – «праязыка», т. е. после IV или даже III тысячелетия до н. э. Поэтому посмотрим, как это понятие передавалось в отдельных индоевропейских языках или ветвях языков.
Греч. ktêma свойство, качество; вещь,впервые у Платона, первоначально основанное, приобретенное; имущество, сокровище.
Греч. prâgma дело, действие; вещь,ср. у Аристотеля: «нечто есть (бывает), что дано в слове (lógos), совпадающее с вещью (tô’ prágmati)».
Греч. phainómenon явленное, видимое; представление(впервые у философов) – от phaínō светиться, являться.
Лат. rēs вещь, имущество; дело(например, общее дело); ср. reus сторона в процессе; обвиняемый(из и.-е. *reHị– имущество, ценность; дар).
Лат. causā причина; вещь(франц. chose вещьи т. д.). Неиндоевропейское слово, заимствовано из субстрата (ср. греч. aitía причинаот aitéō просить, требовать).
Герм. thing (англ. thing, нем. Ding) дело, предприятие; народный совет; владение, вещь;в готском theihs также время(как срок дела?).Сюда же, быть может, и.-е. *tек– простирать руку (получать, просить).
Герм.: готск. sakan спорить,др. – исл. sok дело [в суде], дело, причина;ср. – англ. sake вина; причина,нем. Sache дело(в том числе судебное); вещь.
Герм.: готск. waihts вещь,др. – исл. sök [сверхъестественное] существо; вещь;др. – верхненем. wiht существо;вероятно, из и.-е. ṷek w-ti говорение.
Слав. *weštǐ > рус. «вещь», от того же и.-е. корня. Ср. укр. «рiч» вещь,рус. «рЪчь» < и.-е.*(ṷ)rek– вещать, говорить, колдовать.
Мы видим, таким образом, что так привычное нам абстрактное понятие «вещи» расплывается в древних языках в иносказаниях (тропах): «имущество, дело (в смысле business или в смысле litigation in court)», «положенное (в пищу)», «явление», «видимое», «сказанное (названное)», «причина» и т. п. Понятия «вещь» сначала нет в языке, и первоначально оно не может быть выражено иначе как в виде тропа. Мы еще упрощаем дело, употребляя в переводе прилагательные; в большинстве архаических языков прилагательное формально пе отличается от существительного.
Рискуя утомить читателя, но учитывая важность проблемы для понимания мифа и его возникновения, решаемся привести еще одну группу примеров, тщательно разработанную А. Ю. Милитаревым на материале афразийских языков (включающих и семитские).
Как передается в этих языках абстрактное понятие «создавать, творить»? [25]25
Милитарев А. Ю.Происхождение корней со значением «творить, создавать» в афразийских языках. – Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока (ПППИКВ). XIX Годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). Ч. III. М., 1986, с. 63–79.
[Закрыть]
1. Араб., эфиоп, и др. *pṭr творить;первичные значения: прорываться(о воде), открываться, спасать, выходить, сорваться, освобождаться, открываться, распускаться, раскалываться; подуть с силой(о ветре).
2. Евр., арам., араб., сабейск. *br' создавать, творить;первичные значения: прорубать, открыть проход, извергнуть[ся] проделать отверстие; быть свободным, выходить; снаружи; появляться;в языке гуанче а-bora бог.
3. Аккадск. *ptq создавать(например, человека), лепить(из глины); первичное значение: разрываться, вскрывать, распарывать, освобождаться, отрывать, отщипывать.
4. Егип. (пóзднее) ptḥ творить, создавать,(раннее) Ptḥ бог-творец;первичные значения: открывать, развязывать, отпускать, выпускать.
5. Арам. gbl творить,араб. ğib творить,ğibl– творение как мир;первичные значения: илистая вода; месить глину (тесто), сгущать[ся], лепить, ваять, смешивать, замешивать, оседать, складывать.Ср. *gabūl– тур, межевой столб.
6. Евр. yṣr создать [человека из праха земного],Yōṣēr Создатель, Творец;первичное значение: чертить, рисовать на глине, лепить, формовать [горшки].
7. Араб. ṭyn создавать; лепить;финик. ṭn' воздвигать;первичное значение: лепить;ср. араб. tin– глина.
8. Эфиоп. iḥq w/k w лепить; творить,ləhək w--et творение:первичное значение: глина, глиняная [посуда].
9. Егип. qd создавать; создатель; форма, природа(в смысле «свойство»); первичные значения: ил, глина, строительный раствор, штукатурка; работать по гончарному делу.
10. Аморитск., угаритск. евр. qōnē Творец,араб. qny творить, изготавливать,сокотри qanίn (hin) Творец.
11. Общесемитский глагол wld рожатьшироко употребляется и в значении порождать, сотворять.
12. Египетский глагол (заставительная форма) s-nčy творить;первичное значение: заставить совокупиться, оплодотворить, сделать беременной.
13. Арам. (заставительная форма) '-hwy создавать;первичное (общесемитское заставительное) значение Iзаставить] быть, пожелать, [чтобы стало], пожелать, полюбить;но в аккадск. 'awā-t– речь, дело;awū, 'ewū (незаставительная форма) произносить, говорить; превращать, уподоблять.
14. Аккадск. (заставительная форма) š-bšy создавать,по-видимому, при первичном (незаставительном) значении корня bšy: совокупляться, зачинать;также быть способным что-либо сделать; порождение (ребенок);может быть, сюда же др. – евр. bōhû (< *buhw– < *bәšw-?) Хаос.
15. Общесемитск. bny строить, зачинать, создавать; первичные значения: строить, строение; столб(?), bn сын, дитя.
16-20. Опускаем несколько очевидных семантических переходов типа «строить, сооружать, делать» → «творить» в абстрактном смысле.
21. Араб. ḫlq творить, создавать;первичные значения; доля, надел; выделять участок, жребий (?), надел.
22. Егип. *s3 c> š3 (< *ĉṛ c) творить, создавать;первичное значение: [устанавливать] порядок, судебное решение, справедливость, обычай, запрети т. п.
Здесь мы также видим, что современное абстрактное понятие «создавать, творить» выражается тропами, причем прослеживается несколько метонимических и метафорических способов передать нужное понятие:
А. «зачинать (от семени)» [12, 14; 13?]; «рожать; рождаться» [11].
Б. «прорывать, проделывать отверстие» [1, 2, 3, 4]; «рожать» [11].
В. «говорить, называть» [13?]; «назначать порядок (словом)» [22]; «выделять долю» [21].
Г. «замешивать глину, лепить из глины, формовать» [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10?]; «строить» [15–20].
Ясно поэтому, что всякое сообщение о сотворении (космогонии, антропогонии), во-первых, обязательно принимает форму тропа (метонимии, метафоры); во-вторых, избранный троп может быть различным, но все равно будет равноценным (и входить в определенное семантическое поле). [26]26
В своей работе, не случайно включенной в сборник «До философии», Г. Франкфорт пишет: «Спекулятивное мышление стремится закрепить (underpin) хаос непосредственного опыта, чтобы обнаружить черты некоей структуры – порядок, взаимосвязанность и смысл» ( Frankfort U. and H. A. Myth and Reality. – Before Philosophy. Harmondsworth, 1949, c. 11); «Древнее мышление – мифотворческое, мифосозидающее мышление – допускало, одно наряду с другими, известные ограниченные прозрения (insights) которые одновременно считались действительными (valid), каждое в своем особом контексте, каждое в соответствии с определенным путем подхода (avenue of approach)» ( Frankfort H. Ancient Egyptian Religion. An Interpretation. N. Y., 1948, c. 4); «[Мифы] проявляют известную значимую непоследовательность (meaningful inconsistency) и не бедность, а, напротив, сверхизобилие воображения. Если мы станем рассматривать их как неудачи, как доказательство неспособности… достичь интеллектуального синтеза, мы попросту ложно поймем их задачу» (там же, с. 19).
Однако справедливые рассуждения Г. Франкфорта ослабляются тем, что он склонен считать бинарность в осмыслении мира специфической чертой хамитских народов, и в частности египетского ( Frankfort Н.Kingship and the Gods. Chicago, 1948, с. 350, примеч. 12). Более правильно говорит Лич, что «бинарные оппозиции свойственны человеческой мысли» ( Leach Е.Genesis as Myth. – Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Svmbolism. Ed. J. Middleton. Austin-London, 1967, с. 3; цит. no: Troy L.Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History. Uppsala, 1986).
Нечто аналогичное Г. Франкфорту говорит и М. Элиаде: «Через миф мир может быть воспринят как вполне членораздельный, постижимый и значимый космос» ( Eliade М.Myth and Reality. L., 1963, с. 145). Однако этому положению Элиаде дает экзистенциалистское истолкование, которое не представляется нам приемлемым.
Но, например, Хорнунг ищет в египетской мифологии философию: «Если применять к египетской философской и богословской мысли двустороннюю логику, основанную на различении А и не-А и закона исключенного среднего, то это немедленно приведет к неразрешимым противоречиям… Либо мы отождествляем подлинно логическую мысль с двухвалентной логикой, и тогда египетское мышление неоспоримо „алогично“ или „дологично“, либо мы должны признать возможность существования другого типа логики, которая может быть только „поливалентной“ логикой» ( Hornung Е.Der Eine und die Vielen. Darmstadt, 1971, с. 235 и сл.). Это рассуждение опровергается тем, что, как показывает сравнительное языкознание, архаический человек не умел создавать никаких общих непредметных понятий, и поэтому незакономерно реконструировать для него некую «особую» философию. Все его обобщения были вынужденно метонимически-ассоциативными или тропическими, а не абстрактными, и поэтому мифологическое мышление – вообще не философия. Поэтому Дж. Бейнз справедливо возражает Хорнунгу: «Термин „логика“ сам употребляется различным образом, что придает различные значения объекту исследования. Прежде всего понятие „логика“, описывающее нечто хорошо известное в западном обществе, несомненно, не универсально, и было бы неуместным искать параллель такому понятию в древнем Египте» ( Baines J. Interpretations of Religion: Logic. Discourse, Rationality. – Gottinger Miszellen. 76 [1984], c. 29; цит. пo: Troy L.Patterns of Queenship).
[Закрыть]
Это утверждение можно расширить следующим образом: всякое высказывание, содержащее в себе материал для абстрактных понятий, будет на уровне архаического общества и архаического языка неизбежно выражено только в форме тропа. [27]27
Если миф возможен лишь в виде тропа, то отсюда, конечно, не следует, что каждый троп должен являться мифом. Оставя далеко позади мифотворчество, мы продолжаем пользоваться тропами, так как без них невозможна не только мифология, но и искусство, да и вообще в повседневном и даже научном мышлении нам часто необходимо прибегать к тропам. Заметим, что троп закономерно теряет эмоциональность от частого употребления («ручка двери», «закат солнца» и т. п.).
[Закрыть]Сколько-нибудь событийно развернутое высказывание неизбежно должно будет принять форму мифа, т. е. высказывания, в котором общая мысль передается через частное, но такое частное, которое является выражением общего, т. е. через тропы определенного семантического поля либо, чаще, его части – семантического ряда или пучка. Одно и то же высказывание может быть выражено в форме разных тропов данного семантического ряда или пучка, и соответственно миф может варьироваться в его пределах.
Тропы эти не случайны, а базируются на объективно существующих в психологии вида «Человек разумный» эмоционально-мыслительных реакциях на внешние воздействия. Поэтому и слагающиеся мифы будут, с одной стороны, поражать нас своим разнообразием, а с другой – укладываться в ограниченное число типологичеких рамок.
Мы конечно, далеко ушли от того времени, когда миф рассматривался как сказка, игра воображения. Мы будем рассматривать миф или его структурное ядро, мифологему, как высказывание, содержащее в себе материал для мысленного и для эмоционального обобщения, в современных условиях подлежащих передаче, с одной стороны, в абстрактных понятиях, с другой – в художественных образах.
Конкретной целью высказываний может быть информационное или развлекательное повествование, предостережение, осмысление практически возникающей и поэтому жизненно важной реакции, осмысление места человека в мире, воздействие на этот мир в виде практической или (что для первобытного человека то же самое) ритуальной деятельности. Но в любом случае такое высказывание имеет своей общей целью осмысление феноменов внешнего мира или внутреннего мира человека. Сказать, что миф – это объяснение мира при недостатке знаний, что это простая ошибка художественного воображения, как не раз говорилось, было бы, конечно, совершенно неправильно. Но правильно (как мы постараемся показать), что в основе мифа в простейшем случае лежит эмоциональное и мыслительное, сюжетно оформленное (не зеркальное) отображение феноменов внешнего и внутреннего мира в условиях, когда абстрактное обобщение может быть передано только через троп. Миф, однако, нельзя приравнять просто к художественному сюжету потому, что функционально он на первичном этапе есть единственнаяформа познания, в то время как позже их две: научное познание стало противостоять художественному (как познание феномена – познанию нашего отношения к феномену) и взаимно дополнять друг друга. Но об этом у нас будет говориться ниже.
Здесь заложена самая большая трудность, с которой придется столкнуться в настоящей книге. Мы указали еще во введении, что первичные мифы, слагавшиеся у первобытного человека в эпохи палеолита, мезолита и неолита, нам недоступны: они не могли быть записаны. Автор этой книги – филолог и историк древних цивилизаций и не считает себя компетентным в чисто этнографическом материале. Мифы народов и племен из числа тех, что стояли на уровне неолита еще в недавнее время и которые этнографы отчасти успели записать, мы вынуждены оставить в стороне хотя бы потому, что их обработка потребовала бы учета культурной и экологической обстановки, в которой эти мифы и их создатели существовали, что для автора невыполнимо. Мы вынуждены пользоваться материалом, записанным в древности. В какой мере такие записанные мифы могут считаться архаическими? Нам кажется, что вычленение архаических мифов из древних письменных текстов возможно. Мы отметили во введении, что масса населения ранней древности – эпохи первой урбанизации и сложения первых классовых обществ – является прямым продолжением популяции первобытных обществ и в целом сохраняет характерное для них осознание мира. Мы старались исключить из рассмотрения те мифы, которые явным образом испытали воздействие классовых идеологий, в том числе идеологии царской власти, догматических учении и т. п.; при этом мы старались привлекать по возможности самые ранние для данной мифологии источники, сложившиеся до времен далеко зашедшей классовой стратификации. Изложенные в этих источниках мифы, если в них мы не можем усмотреть вторичных идеологических построений, мы будем условно называть архаическими мифами, и именно они будут предметом нашего рассмотрения в настоящей книге. [28]28
Отделение «идеологизированных» мифов от мифов первичных произведено нами, конечно, «на глазок» – эта операция нуждается в проверке и подкреплении текстологическим и историческим анализом.
[Закрыть]
Соответственно мы вынуждены ввести понятие архаического человека, архаического человечества. Под этим условным термином мы будем разуметь людей земледельческого и скотоводческого общества не ранее эпохи неолита и в течение всего того времени в истории развития человечества, пока классовая дифференциация охватывала лишь верхний слой элиты и самый нижний слой рабски эксплуатируемого населения, но основная человеческая масса внутри общества еще сохраняла социальные, бытовые и культурные черты позднепервобытной эпохи.
Миф как суждение предполагает попытку выявить некую суть действующего явления. Поэтому миф был поиском некоей правды. Он не может быть произвольным, отвлеченным от феноменов мира.
Здесь мы подходим к пилатовскому вопросу: что есть истина? За отсутствием божественного ответа на этот вопрос и не вдаваясь в споры философов, я поинтересовался тем, как этот вопрос бытует в обыденном сознании, и обратился к толковым словарям и энциклопедиям. Вот результат. [29]29
Заимствовано из: Словарь русского языка в четырех томах. 3-е изд., дополн. М., 1981–1984. Конечно, существуют философские разработки проблемы о том, что такое истина (например, как подсказывает нам Л. С. Салямон, такое определение: «Факт – это то, чего нельзя изменить никакими комбинациями мысли»). Но мы не будем вдаваться в сложности множащихся и часто взаимно противоречащих философских учений и здесь сознательно оперируем с понятиями, как они бытуют в нашем повседневном сознании.
[Закрыть]
Правда: то, что соответствует действительности; то, что есть на самом деле; истина.
Истина: то, что соответствует действительности; то, что есть на самом деле; реальность.
Действительность: то, что существует на самом деле, реальное существование чего-либо; реальность. Объективные условия жизни людей, окружающая обстановка.
Реальность: то, что существует на самом деле; действительность.
Мы, кажется, движемся по порочному кругу: правда есть истина; истина есть действительность; действительность есть то, что существует на самом деле; то, что есть на самом деле, есть истина; истина есть правда.
У нас остались еще «объективные условия жизни людей» (почему только жизни людей? А планет? А галактик?). Обратимся к объективности.
Объективный: существующий вне сознания и независимо от него. Я бы прибавил: но способный быть воспринятым сознанием, иначе это уже ноумен, вещь в себе, а мы, казалось, находились в области феноменов?
Феномен: тут нас словарь уже подводит, объясняя, что феномен бывает только в идеалистической философии и означает субъективное состояние нашего сознания, не отражающее объективной действительности (т. е. того, что существует вне этого сознания). Ну уж бог с вей, с идеалистической философией; словарь действительно прибавляет, что феномен – это «явление, постижимое в чувственном опыте». Вот на этом мы и остановимся и, исходя из того что термин «феномен» давно уже имеет право на жительство в нашей физике и других точных науках, дадим ему – для целей изложения в этой книжке – такое определение: это то, что существует независимо от нашего сознания и воли, но уже воспринято нашим сознанием. [30]30
Здесь можно было бы начать вдаваться в феноменологические и экзистенциалистские теории, от Э. Гуссерля и позже, но это завело бы нас далеко.
В настоящей книге мы исходим из следующего рассуждения. Восприятие объекта из внешнего мира создает в сознании некоторые образные представления, являющиеся субстратом для ассоциирующей деятельной реакции, а также и для воображения, т. е. для создания ассоциаций первоначально лишь внутри самого сознания. Необходимость целесообразно реагировать на объекты внешнего мира вынуждает к их обобщению, начиная от простейшего: «хорошо» – «плохо», «опасно» – «безопасно» и кончая много более сложными умозаключениями. Во второй сигнальной системе эти обобщения должны получать словесное оформление; но когда в языке отсутствуют обобщающие абстракции, оторванные от конкретной вещественности предмета, процесс обобщения, отходя от первичного конкретного образа, вызывает другие образы, ассоциативно связанные по тропическим рядам и создающие косвенное обобщение. Эти образы на известном, достаточно раннем этапе развития человека могут получать не только словесное кодирование, но и изобразительное отображение; последнее однако, строго говоря, еще нельзя назвать искусством, как и высказывание в словесно выраженных тропах нельзя назвать наукой.
В наше понимание этого процесса специалисты по теории познания, психологии и физиологии, возможно, внесут свои серьезные коррективы; однако представляется, что наше описание архаического познавательного процесса достаточно для целей, которые ставятся в настоящей книге.
[Закрыть]
Восприняв некий феномен, достигший нашего сознания из сферы непознанного, сознание, в силу заложенного в физиологии человека стимула поиска («что это?»), стремится его осмыслить, т. е. возможно более правильно установить его связи с внешним миром, и прежде всего «с нами». Поиски правды («того, что соответствует действительности») здесь жизненно необходимы: ошибка в не познанном мире может означать гибель. Сознание создает о данном феномене некоторое суждение. [31]31
Всякую информацию из внешнего мира древний человек получает либо непосредственно, либо через традицию. Если он получает ее непосредственно, тогда его реакция либо мгновенная и спонтанная, либо механическая (на основе собственного или группового опыта), либо требующая обдумывания. Обдумывание состоит в создании воображением ассоциаций с уже имеющейся информацией. Эта информация также может быть либо своя, т. е. уже бывшая у этого субъекта в ходу, либо опять-таки традированная. Информация традированная может быть либо случайной и потому менее ценной, либо типа «все говорят».
[Закрыть]Для тот чтобы субъект сознания не застыл в позе поиска и мог жить, он должен как можно скорее перейти от проблематического суждения: «возможно, это А» – к ассерторическому: «это – А». Ассерторическое суждение на самом деле не есть автоматически уже самая правда, так как субъект не имеет немедленной практической возможности установить, чем этот феномен является на самом деле, вне и независимо от нашего сознания. Он только допускает, что «попал в точку»: поэтому для него его ассерторическое суждение и есть правда. Если это первобытный человек, то выразить эту правду, как мы видели, он сможет только с помощью ряда метафор и метонимий. То есть, он создает миф.
Там, где место логического обобщения занимает метонимия, трудно выработать иерархию метонимических связей: [32]32
Однако же связь по сходству, видимо, ощущалась как низшая в иерархии: так, в языке нередко встречаются однокорневые и даже идентичные слова, обозначающие функционально сходные феномены (например, гиену и коршуна, разные красящие растения), но почти нет слов, одинаково обозначающих предметы, сопоставимые только по внешнему их сходству (например, обозначающих гиену и жирафу по принципу пятнистости). О выделении первобытным мышлением причинно-следственных связей см. в следующей главе.
[Закрыть]связь ли причинно-следственная, связь ли по смежности, связь ли по функции, связь ли части и целого (овладел пучком волос врага – можешь сжечь их: враг умрет), даже связь денотата и словесного обозначения. Латинское nomina sunt omina имена суть предзнаменования– лишь пережиток более древнего «название вещи есть сама вещь». Овладеть именем божества значит подчинить его себе. Называниеесть творение– в высшей степени обычная мифологема у всех народов (ср. с. 27, пункт 13).
Наша философия учит, что единственным критерием истины является практика: истинность формулы е=mс 2подтверждается атомной реакцией. Наблюдая, что феномен А в сочетании с феноменом В всегда (в пределах накопленных статистических повторяемостей) дает феномен С, я делаю аподиктическое суждение: А+В=C. Это уже не только предполагаемая, но и (в пределах личного опыта) самая подлинная правда. Но и она для архаического человека может быть передана только через тропы, через созданный миф. Этот миф, несмотря на его мнимохудожественные одеяния метонимий и метафор, примем за истину и мы, только выразив ее в более абстрактных словесных формулах.
Беда, однако, в том, что практика первобытного человека чрезвычайно ограниченна, а нужда в осмыслении феноменов огромна. Поэтому достаточной проверкой кажется суждение: «все так считают» (общее согласие, consensus). [33]33
«Любой человек, зависящий от кооперации с другими, становится особенно восприимчивым к их взглядам» ( Шибутани Т.Социальная психология, с. 80).
[Закрыть]
Можно обработать высказывание «все так считают» критически и превратить его в суждение проблематическое: «возможно, что это так». Но такой критический подход противоречит психофизиологическому побуждению «делай как все» и поэтому на практике встречается редко.
Мыслящая личность, т. е. та, с которой мы встречаемся как со слушателем и читателем произведений устного и письменного творчества древности, обычно не делает того, казалось бы, очевидного вывода, что высказывание «все говорят» заведомо ложно, так как не может субъект быть в контакте со всеми вообще. Но такая личность делает другую, ограничительную оговорку: не все, а авторитеты говорят.
Авторитетом должен быть уже непосредственный традент; а за конечный авторитет может почитаться божество, но утверждение о прямом соприкосновении с божеством было и в древности не очень частым явлением. Авторитетом, очевидно, является тот, кто либо соприкоснулся с божеством, либо стал к нему возможно ближе (древние люди, предки, лидеры, в известном типе примитивных обществ – шаманы).
Вопрос о традиции есть вопрос о доверии к авторитету традиции. Доверие к традиции свойственно вере. «Вера же, – как весьма точно утверждает евангельское „Послание к Евреям“, 11:1, – есть доверие к тому, на что уповаем, ручательство за вещи невидимые» (eínai dé hē pístis, elpizoménōn pepoíthēsis, bebaíōsis pragmátōn mēblepoménōn).
Доверие к авторитету мы и определяем как веру. Как бы он ни создался, но функционирование мифа как социального явления возможно только на основе веры. Вопрос, следовательно, в том, кому можно доверять.
Конечно, прежде всего «делай как все»: верь как все. А почему верят все? «От отцов». Ну, а уж отцы, очевидно, от нездешних сил, среди которых они ныне и обретаются. А как создается представление о нездешних силах – мы постараемся показать ниже.
Итак, миф – событийное высказывание об осмыслении внешнего и внутреннего мира, более эмоциональном, чем рассудочном. И это такое высказывание, которое делается в условиях, когда обобщение может быть передано только через троп. Мало того – миф еще и высказывание, хотя и основанное на практическом наблюдении за связью феноменов (не всегда правильно оцененной), но излагаемое и передаваемое из уст в уста на основе доверия к авторитетной традиционной интерпретации этих феноменов, – иначе говоря, на вере. [34]34
Я. В. Васильков замечает, что когда вера первобытная доверяет авторитетам, потому что просто не имеет противоречащих данных, то это еще не есть религиозная вера; последняя открыто выступает против логики (рассудка): credo, quia ineptum est, certum est quia impossibile est («верю, потому что нескладно, считаю несомненным, потому что невероятно»). Но такое утверждение религиозной веры предполагает уже наличие противостоящих ей логических средств познания, и тогда вера отстаивает свое право не считаться с ними: «Пускай наука утверждает что угодно (я знаю, что она не раз ошибалась), пусть опыт свидетельствует, что мертвые не воскресают, – я все же буду верить в уникальное воскресение Христа, потому что это дает мне смысл жизни и нравственные ориентиры». В первобытном обществе такой ситуации быть не может, она возникает только на грани поздней древности и средневековья. Однако верующий, конечно, и в первобытную эпоху постоянно отбрасывал предлагаемые более рациональные объяснения феноменов, но это происходило оттого, что вера опирается на коллективный авторитет предков, противостоящий домыслам пусть и логичным, но домыслам всего лишь отдельных лиц, а доминирует побуждение «делать как все». Кроме того, и в особых нравственных ориентирах, не заданных в самом социальном сознании, первобытное человечество нуждается в незначительной степени.
Заметим еще, что мы имеем все время дело с социальной психологией, внимание которой сосредоточено лишь на «тех закономерностях человеческого поведения, которые обусловлены фактом участия человека в социальной группе» ( Шибутани Т.Социальная психология, с. 23). Чувство взаимной общности (идентификация), возникновение групповой нормы обусловлено, конечно, не «коллективным разумом», оно базируется на своего рода взаимопонимании, на наличии у людей общей им всем картины мира (там же, с. 38).
[Закрыть]
Именно потому, что миф вне ограничений, налагаемых формальной логикой (поскольку он не логически-рационален, а образно-эмоционален), он есть предмет полнейшего доверия – веры; а потому для того, кто в него верит, – это правда. Миф – правда, потому что он – осмысление реальной и сейчас длящейся действительности, не ограниченной временем, принятое многими поколениями людей до нас. [35]35
Напротив того, сюжет сказки немифического содержания – занятный, хотя, быть может, и поучительный вымысел: «сказка ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок». Конечно, сказка может и должна быть эмоциональной: эмоция не есть привилегия мифа; но миф и сказочный сюжет находятся в разных планах диахронии и различны по установке.
[Закрыть]
Образность, эмоциональность мифа является еще одной его важнейшей чертой.
Если миф есть осмысление воздействий из внешнего мира и выражение реакций на них, то в наиболее первобытном, анимальном состоянии человека реакция на воздействие внешнего мира неизбежно эмоциональна. Нечто сходное мы наблюдаем при первом обучении матерью ребенка. Разница, конечно, состоит, между прочим, в том, что в распоряжении современной матери имеется гораздо более обобщающий словарный запас. Тем не менее обучение ребенка миру и речи состоит в привязывании слова к эмоции: можно обжечься – интонация остережения: «горячо», или «огонь», или «бо-бо будет»; «нельзя» произносится с резкой интонацией; одобрение выражается нежной интонацией и поглаживанием со словами «па-ай»; запоминание вызывается повторением «упал, упал». Каждой ситуации соответствует индуцирование внесловесными средствами определенной эмоции, а эмоция увязывается со словесным кодом. Словесный код, выражающий соприкосновения с внешним миром, не нейтрален (как буквы письма, точки и тире телеграфной передачи), а эмоционален.
Эмоция содержится в мифе потому, что выводимое обобщение дается не в виде эмоционально-нейтральных словесных обозначений общих понятий, а через троп. [36]36
Ю. В. Андреев замечает на это, что троп необязательно эмоционален, например в идиоматических выражениях. Справедливо, хотя тут в большинстве случаев идет речь о тропах стершихся, «лексикализованных». Но верно и то, что строго логическое, научное мышление не может или по крайней мере не должно быть эмоциональным.
[Закрыть]
Как, это происходит, мы можем рассмотреть на примере поэтического тропа, поскольку троп так же свойствен искусству, как и мифу, по причинам, которые мы рассмотрим ниже.
С точки зрения чистой информации высказывание «пчела летит из улья за взятком» нейтрально, но означающее точно то же самое высказывание «пчела из кельи восковой летит за данью полевой» эмоционально.
Наглядно это можно передать следующим образом:
Рациональное высказывание
| Пчела… | |
| из улья = | деревянного сооружения с небольшим отверстием (летком), содержащего восковые соты для меда… |
| летит = | передвигается в пространстве, не касаясь земли… |
| за взятком = | за отдельной порцией цветочных медовых выделений, забираемой пчелой-работницей в улей для превращения в мед. |
Тропическое (мифологическое) высказывание
| Пчела… | Пчела = | ||
| из кельи = | темного, замкнутого пространства для обитания монаха, -ини… | = из монастыря (укрепленного стеной), крепостного здания | монах, монахиня |
| восковой = | (возвращает ассоциацию к пчеле: воск делают пчелы… следовательно) из пчелиного монастыря | ||
| летит = | передвигается в пространстве, не касаясь земли (ангел?)… | ||
| за данью = | (дань ей причитается, она властвует над тем, что приносит дань)… | = князь, княгиня, царица | сборщик дани, воин, князь |
| полевой = | порожденной полем (ассоциации: лето, цветы, роскошное царство, с которого собирается дань). | ||
Мы видим, как вместе с тропическим высказыванием (а таковы же и мифологические высказывания) для нас создается целый пучок позитивных и негативных эмоциональных ассоциаций: пчела – это затворница в темной келье монастыря-замка, однако сотворенной из нежного воска; она вылетает, как монах-воин или царь-полководец, на добычу в светлое, покрытое цветами поле и возвращается со своей данью, приносимой святому монастырю. Сама сладость меда дает позитивную эмоциональную окраску тропу. Однако в смысле позитивной информации все это значит: «[С наступлением весны] пчелы начинают вылетать из улейных сотов и собирать с полевых цветов взяток для образования в своих сотах меда».






