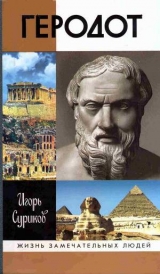
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
Кстати, есть даже некое созвучие между этими двумя парами: Гармодий и Аристогитон – Геродот и Паниасид. В обоих случаях из двух заговорщиков один – цветущий юноша, другой – мужчина средних лет.
Эта гипотеза не претендует на статус безусловной истины. Но если она имеет право на существование, мы можем сделать дальнейший вывод: время заговора, в котором участвовал Геродот, и его бегства на Самос определяется именно датой Евсевия. Никаких противоречащих этому фактов или аргументов нет. Более того, названная дата очень хорошо согласуется с хронологией вхождения Галикарнаса в Афинский морской союз: получается, что противники тирании начали действовать сразу после освобождения от персидского владычества.
Изгнанник на Самосе
Переселение Геродота на Самос стало в каком-то отношении переломным моментом всей его биографии. Именно оно, надо полагать, определило дальнейшую судьбу юноши и в конечном счете привело его на путь историописания.
Действительно, если бы заговор против Лигдамида оказался успешным, то Геродот остался бы в родном полисе и продолжил активно участвовать в политической жизни. Ведь именно политика однозначно считалась самым достойным занятием для граждан греческих государств. Геродот был молод, вся жизнь у него была впереди, и вполне возможно, что он стал бы со временем лидером Галикарнаса. Таким образом, мы имели бы политического деятеля Геродота – пусть даже крупного по меркам своего города, но в масштабах эллинского мира всего лишь одного из тысяч. Но тогда мы, скорее всего, не узнали бы историка Геродота – единственного и неповторимого. Государственная деятельность вряд ли оставила бы ему время для интеллектуальных штудий.
Некоторые древнегреческие историки являлись одновременно и политиками. Но к написанию своих исторических трудов они приступали в период вынужденного досуга, чаще всего тоже в годы изгнания. Фукидид – младший современник Геродота и следующий после него представитель античной исторической науки, непосредственный продолжатель «Отца истории» на этой стезе и в то же время его довольно жесткий критик – был представителем одного из знатнейших афинских аристократических родов – Филаидов. В молодости он начал политическую и военную деятельность, был избран стратегом и, командуя эскадрой кораблей в Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой, неудачно провел порученную ему операцию, в результате чего попал под суд и был приговорен к изгнанию из Афин. Именно в двадцатилетнем изгнании, не имея возможности непосредственно влиять на судьбы Греции, он и занялся описанием и вдумчивым анализом этих судеб. В IV веке до н. э. афинский политик Андротион, тоже вынужденный удалиться из полиса, написал «Аттиду» – исторический труд по истории Афин и Аттики с древнейших времен. А еще несколько десятилетий спустя сицилийский историк Тимей, напротив, написал свое пространное сочинение в пору многолетнего проживания в Афинах – тоже вдали от отечества. Примеры такого рода можно было бы множить и множить…
Почему нередко греки – причем, как правило, люди ярко выраженного политического темперамента – осваивали ремесло историка именно в подобных обстоятельствах? Да именно потому, что им не оставалось ничего иного: ведь политика для них была закрыта! Мы уже упоминали об этом последствии древнегреческого полисного партикуляризма: гражданин полиса пользовался всей полнотой политических прав только в этом полисе, а за его пределами он становился, в сущности, никем. Исключительно незавидной была судьба изгнанника, и не случайно в Элладе изгнание считалось вторым по тяжести наказанием после смертной казни.
Переселенец из одного полиса в другой в лучшем случае причислялся на новом месте жительства к сословию метеков. Таким людям хотя бы гарантировались безопасность, защита закона, дозволялось беспрепятственное проживание. Но метек, не располагая политическими правами, никак не мог участвовать в работе органов государственной власти. Если он пытался с помощью какой-нибудь хитрости принять такое участие (например, пробирался тайком на народное собрание), это расценивалось как очень серьезное преступление и могло привести даже к смертной казни. Метек не имел и имущественных прав, не мог приобрести участок земли и возделывать его, добывая себе хлеб насущный. Максимум, что ему позволялось, – арендовать дом в городе для своего проживания. Метеки ежегодно платили налог в государственную казну; граждане же регулярных налогов не платили, поскольку в Греции считалось, что высокое звание гражданина несовместимо с налогообложением. Лишь в чрезвычайных ситуациях с членов гражданского коллектива могли взыскать разовый экстренный налог – эйсфору.
Метек, поселяясь в полисе, был обязан найти гражданина, который согласился бы стать его «покровителем» (простатом). Простат как бы отвечал за метека перед полисом и в то же время представлял интересы своего подопечного в органах государственной власти. Ведь метек, будучи лицом неправоспособным, нe мог, в частности, выступать в суде – не важно, в качестве истца или ответчика.
Метек мог прожить в полисе сколь угодно долго, но гражданином от этого не становился. Более того, у метека могли родиться дети, у тех свои дети… Эти люди даже не видели своей настоящей родины и с самого момента своего появления на свет жили на территории чужого полиса, но гражданскими правами в нем они так и не пользовались.
Лишь в случае, если метек оказывал особо важную услугу государству – например, при серьезных финансовых затруднениях добровольно и неоднократно вносил в полисную казну крупную сумму из собственных средств, – в афинском народном собрании мог быть поставлен вопрос о том, чтобы в награду включить его в коллектив граждан. Но такие случаи в классическую эпоху были исключительно редкими. Принималось специальное постановление, касавшееся конкретного человека и не имевшее силы прецедента.
Принятие такого постановления было затруднено сложными процедурными препонами. Об этом рассказывается в речи одного из афинских ораторов IV века до н. э.: «Дарование афинского гражданства наш народ считает настолько прекрасной и важной наградой, что установил для себя законы, согласно которым такое право предоставляется – если народ захочет кого-либо сделать афинским гражданином… Прежде всего, у нашего народа есть закон, согласно которому разрешается даровать права афинского гражданства только тем, кто своими подвигами на благо народа афинян это звание заслужил. И даже после того, как народное собрание, убежденное в правильности своего решения, предоставит эту награду, закон не позволяет считать это решение правомочным, пока на следующем народном собрании не менее шести тысяч человек тайным голосованием (с помощью камешков-„бюллетеней“, которые опускали в урны. – И. С.) не проголосует за это решение… Затем закон предоставил право любому афинянину, кто только пожелает, выдвинуть обвинение против лица, получившего гражданские права, в незаконном получении такой награды. Явившись в суд, обвинитель имеет право изобличить это лицо как не достойное награды, ему предоставленной, доказывать, что это решение было принято в нарушение афинских законов, Это обвинение рассматривается судом и в случае, если лицо, получившее награду, признается недостойным ее, суд лишает его права афинского гражданства» ( Псевдо-Демосфен, LIX. 88–91).
Даже если метек и становился гражданином, то все-таки не до конца равноправным: ему запрещалось, например, выставлять свою кандидатуру на высшие в афинском полисе должности архонтов, а также быть жрецом.
В других древнегреческих государствах так же, как в Афинах, гражданство предоставлялось очень редко и с большими затруднениями. Свободные и полноправные граждане полисов абсолютно не были расположены делиться с кем бы то ни было своей свободой и полноправием.
Причем для человека, оказавшегося в другом городе, стать метеком было еще далеко не самым худшим вариантом. Ведь тем самым он, выражаясь современным языком, получал «вид на жительство». Часто приезжий считался просто «чужаком» (ксеном), к которому отношение было однозначным: сделал свои дела – и до свидания, не задерживайся.
Ныне граждан древнегреческих полисов нередко обвиняют в том, что они не предоставляли полноправия метекам и другим чужеземцам. В этой связи говорят об узости, ограниченности античной полисной демократии. Однако эти упреки лицемерны. Ведь и современные, вполне демократические государства относятся к людям, прибывшим из других стран, в сущности, точно так же. И в наши дни повсюду имеются свои метеки, только называют их мигрантами.
Покинув в юности родной Галикарнас, Геродот потом почти всю жизнь прожил на положении метека; следовательно, занятие активной политикой было для него исключено. Несомненно, чем дальше, тем больше ему приходилось задумываться над тем, какой деятельности посвятить себя.
Вопрос о том, как прокормиться, полагаем, перед Геродотом не вставал. Он, как мы знаем, был выходцем из знатной – а следовательно, и богатой – семьи. Неизвестно, был ли жив его отец на момент заговора против Лигдамида, а если был – переселился ли вместе с сыном на Самос или же остался на родине.
Впрочем, всё это не имеет принципиального значения. Если Лике покинул Галикарнас, то, конечно, захватил с собой свое денежное состояние или по крайней мере его часть. Если же он продолжал там жить и разлучился с сыном, оказавшимся на чужбине, то не приходится сомневаться, что он находил возможность помогать Геродоту. Наконец, если отец будущего историка умер раньше его эмиграции, то Геродот стал наследником его имущества (по крайней мере половины, поскольку у него был брат).
Одним словом, молодой человек не испытывал нужды. Тем не менее вопрос о выборе пути перед ним стоял: будучи одаренным и энергичным, он не мог, разумеется, провести столь бурно начавшуюся жизнь в безделье. Но круг деятельности был для него сильно ограничен ввиду положения изгнанника и метека: отпадала политика – а именно к ней он, скорее всего, обратился бы, если бы позволили обстоятельства.
Можно было стать морским торговцем или открыть ремесленную мастерскую. Эти занятия, сулившие выгоды, разрешались и метекам; многие из них именно таким образом обрели благосостояние. Некоторые ученые считают, что и Геродот поступил так же и предпринимал свои многочисленные путешествия именно в качестве купца, перевозя на корабле товары из города в город и из страны в страну. Но это крайне маловероятно: сам историк и словом не обмолвился о торговых целях своих странствий – напротив, повсюду подчеркивает, что совершал их из бескорыстного, чисто исследовательского интереса.
Приведем один пример. Будучи в Египте, Геродот столкнулся там с культом местного бога, которого греки отождествляли с Гераклом. Но мифы о «египетском Геракле» и о греческом герое сильно отличались друг от друга. В частности, египтяне считали своего «Геракла» одним из древних богов, а в эллинской мифологии Геракл, наоборот, едва ли не самый молодой обитатель Олимпа, вначале бывший человеком, а после смерти за свои многочисленные подвиги удостоившийся причисления к небожителям.
Разногласия между священными преданиями разных народов заинтриговали Геродота, и он решил изучить проблему специально. Сам он пишет: «Так вот, желая внести в этот вопрос сколь возможно больше ясности, я отплыл в Тир Финикийский, узнав, что там есть святилище Геракла. И я видел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. Среди прочих посвятительных приношений в нем было два столпа, один из чистого золота, а другой из смарагда, ярко сиявшего ночью. Мне пришлось также беседовать с жрецами бога, и я спросил их, давно ли воздвигнуто это святилище. И оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнения эллинов. Так, по их словам, святилище бога было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор, как они живут в Тире, прошло 2300 лет. Видел я в Тире и другой храм Геракла, которого называют Гераклом Фасийским. Ездил я также на Фасос и нашел там основанное финикиянами святилище Геракла, которые воздвигли его на своем пути, когда отправлялись на поиски Европы. И это было не менее чем за пять поколений до рождения в Элладе Амфитрионова сына Геракла. Эти наши изыскания ясно показывают, что Геракл – древний бог» (II. 44).
Описанные здесь передвижения менее всего напоминают стиль поведения купца, для которого главное – доставить товар по назначению, продать его, получить прибыль и отправиться обратно; он ни за что не отклонится от своего пути, если в том нет прямой необходимости. А Геродот, как видим, ехал туда, куда влекла его логика познания. Из Египта он прибыл в Финикию, а там узнал о религиозных связях финикийцев с островом Фасос в северной части Эгейского моря, поплыл на этот остров (очень неблизкий путь!) и не успокоился, пока не отыскал истину или то, что представлялось ему истиной.
Геродот, являясь аристократом по рождению, не мог быть торговцем или ремесленником, ведь эти занятия в классической Греции считались не слишком почтенными, плохо совместимыми с достоинством свободного человека. Гораздо более уважаемым мыслился сельскохозяйственный труд в своем поместье, но к нему галикарнасский изгнанник, как мы видели, доступа не имел – не позволял статус метека. Ему оставалось, в сущности, одно: обратиться на стезю интеллектуальной, культурной деятельности. Все данные для этого у Геродота были. Он получил, вне всякого сомнения, хорошее образование и едва ли не с детства общался с широко эрудированными людьми, такими как Паниасид.
Но какую именно отрасль обширного культурного поприща мог он избрать? Стать либо философом и ученым-естествоиспытателем (в начале классической эпохи эти две специальности еще не отделялись друг от друга), либо оратором, либо поэтом. В наше время в этот перечень добавилась бы еще возможность стать мастером искусства: скульптором, живописцем или архитектором. Но для человека Античности эти профессии отнюдь не пользовались высокой репутацией, считались ремесленническими, что для нас совсем уж необычно. Мы ценим поэта и художника примерно одинаково, эти слова стали даже отчасти взаимозаменяемы («поэт – художник слова» и т. п.). Для жителей Эллады поэт – боговдохновенный певец, общающийся с музами, а художник – всего лишь высококвалифицированный ремесленник. Почитались преимущественно те формы культуры, которые были связаны со словом, с идеей, так сказать, «бестелесные», не связанные с изготовлением материальных вещей. Поэзией или философией могли заниматься на досуге люди самого высокого положения. Но невозможно даже представить себе, чтобы аристократ увлекся, скажем, ваянием или начал писать картины.
Подобное отношение выражено в словах писателя-моралиста Плутарха: «Кто занимается лично низкими предметами, употребляя труд на дела бесполезные, тот этим свидетельствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе (знаменитую статую Зевса в Олимпии работы Фидия. – И. С.), не пожелал бы сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе – Поликлетом» ( Плутарх. Перикл. 2).
Философами Иония издавна была прославлена. Собственно, именно в ней – впервые в мировой истории – появилась философская мысль. И сразу же ионийские полисы родили целую когорту выдающихся мыслителей – Фалеса, Анаксимандра, Гераклита… Имелась влиятельная философская школа и на Самосе. Ее крупнейшим представителем являлся всем известный Пифагор. Есть мнение, что это именно он первым ввел в обиход сам термин «философия». Правда, основная деятельность Пифагора развернулась не на родном острове, а в населенной греками Южной Италии. Однако самосцы, конечно, хорошо помнили о своем знаменитом земляке. Упоминает о нем и Геродот, при этом называя Пифагора «величайшим эллинским мудрецом» (IV. 95). Разумеется, здесь историк передает самосскую точку зрения, с которой вряд ли согласились бы жители многих других греческих городов. Так, милетяне скорее признали бы мудрейшим из эллинов не Пифагора, а своего соотечественника Фалеса, афиняне – Солона, спартанцы – Хилона, лесбосцы – Питтака и т. д. В отличие от перечисленных лиц Пифагор даже не входил в число «семи мудрецов». Философы были на Самосе и после Пифагора; особенно на этом поприще прославился Мелисс, зарекомендовавший себя также крупным государственным деятелем и полководцем ( Плутарх. Перикл. 26–27). Мелисс жил и действовал в середине V века, то есть был современником Геродота. Весьма вероятно, что они были знакомы: в условиях древнегреческих полисов – очень небольших государств – все сколько-нибудь выдающиеся личности не могли не знать друг друга.
Впрочем, тому, что Геродот не вступил на путь философии, удивляться не приходится. Достаточно вчитаться в его труд, чтобы понять: этот человек не был рожден философом. Мышление его было не абстрактным – это необходимо, чтобы погружаться в философскую проблематику, – а, напротив, конкретным, образным. Его влекли к себе не идеи, а факты и события, прежде всего наиболее яркие и занимательные.
А что можно сказать о карьере оратора? Вот она, безусловно, пришлась бы Геродоту по плечу. Даром красноречия он, бесспорно, обладал. Ораторскому стилю присущи те черты, которые являются излишними для стиля философского: живость изложения, доходчивость, убедительность. В «Истории» Геродота всё это мы находим в избытке. Не случайно действующие лица трактата сплошь и рядом произносят речи – то краткие, то пространные. Раз Геродот составлял такие речи для своих персонажей, почему бы ему не писать их для себя самого?
Но в классической Греции ораторское искусство имело подчеркнуто политический характер. Ораторы, как правило, были крупными деятелями своих полисов, произносили речи в народном собрании и других органах власти, а тематикой этих речей были важнейшие вопросы государственной жизни. Геродоту же, с его статусом метека, выступать на эти темы никто бы не позволил. Правда, со временем в греческих полисах, особенно в Афинах, получила распространение профессия логографа. Тот, кто занимался ею, писал речи для других и получал от своего ремесла неплохие доходы. Известны случаи, когда логографами были метеки – например, Лисий, один из лучших представителей афинского красноречия. Но это было значительно позже и не встречалось во времена самосской юности Геродота.
Трудно ответить на вопрос, почему он не выбрал путь поэзии. Поэтическое творчество считалось в высшей степени подходящим для аристократа. Очень многие древнегреческие поэты – Солон, Алкей, Феогнид и другие – были выходцами из знати. А в случае с Геродотом к этому, казалось бы, располагали и все прочие обстоятельства: он вырос в общении с поэтами; крупнейший эпик эпохи, Паниасид, был его родственником и оказал на него большое влияние. Но почему-то в конечном счете Геродот не ступил на стезю Паниасида, а выбрал собственную.
Как это получилось? Приходится признать, что любой ответ может быть только предположительным, и ни доказать, ни опровергнуть его нет никакой возможности. Во-первых, не все люди обладают даром стихосложения – для этого необходим особый умственный и душевный склад. Вероятно, Геродоту гораздо легче работалось в прозе. Во-вторых, молодой человек обладал настолько ординальным самоощущением, что ему хотелось заняться чем-то совсем новым, редким, нетрадиционным. Философ, оратор, поэт – всё это были уже хорошо изведанные области интеллектуальной деятельности. Геродот же взялся за такую, в которой предшественников у него почти не было.
Итак, Геродот стал историком, и произошло это именно в пору его пребывания на Самосе. В словаре «Суда» сказано: «…На Самосе он и изучил ионийский диалект, и написал „Историю“ в 9 книгах».
Абсолютно верным это сообщение быть не может. Во-первых, с ионийским диалектом Геродот конечно же не мог не быть знаком еще до прибытия на Самос. Возможно, здесь имеется в виду «изучил его в совершенстве», чтобы владеть им свободно и писать как на родном. В любом случае тот диалект, на котором написана «История», – общеионийский, тогда как на Самосе был в ходу несколько отличавшийся вариант этого говора. Во-вторых, не вполне верно и утверждение, что труд Геродота был полностью написан на этом острове. Над своим сочинением историк работал всю жизнь, вплоть до кончины, то есть еще много времени спустя после того, как покинул Самос. Но зерно истины в цитированном свидетельстве, несомненно, все-таки есть. Научная работа Геродота началась на Самосе. А прожил он там, судя по всему, довольно долго – вполне возможно, что не менее двадцати лет. Разумеется, «Отец истории» отправлялся в свои многочисленные путешествия, но его основной резиденцией, судя по всему, вплоть до 444 года до н. э. оставался самосский полис.
В чем же заключался «толчок» к историческому творчеству, который Геродот получил здесь? Прежде всего в корне изменилось всё его окружение – стало более широким и многогранным. Из провинциального, несколько захолустного Галикарнаса юноша сразу очутился в одном из самых знаменитых центров античного мира, что, несомненно, произвело на него немалое впечатление. В одном месте его труда Самос назван даже «первым из эллинских и варварских городов» (III. 139)! Конечно, это преувеличение, но и оно говорит о том, что автор явно был восхищен местом, где ему теперь приходилось жить.
Думается, не случайно о Самосе и самосцах речь в труде «Отца истории» заходит несравненно чаще, чем о его родном городе. Собственно, значительную часть сведений о древней истории Самоса мы получаем именно от Геродота. Поэтому в своем рассказе мы будем активно привлекать его данные {20} .
Самос, крупный остров Эгеиды, лежит в восточной части моря, лишь узким проливом отделенный от побережья Малой Азии. Там, на материке, у самосцев тоже издавна были территориальные владения (так называемая Перея) с городком Аней.
Самос был заселен и освоен ионийцами на рубеже II–I тысячелетий – именно тогда, когда эта греческая племенная группа обосновалась в восточноэгейском ареале. Результатом колонизации стало появление области Иония, и Самос являлся ее неотъемлемой частью. Уже в начале архаической эпохи на нем сформировался полис, довольно быстро ставший одним из сильнейших эллинских городов-государств.
Основой могущества и процветания Самоса был его флот, весьма значительный по греческим меркам как в военной, так и в торговой составляющей. Военно-морские силы самосцев уже с VIII–VII веков позволяли им участвовать в вооруженных столкновениях даже в далекой от Ионии Балканской Греции. Так, в одном месте «Отец истории» мимоходом упоминает: «…самосцы помогали халкидянам против эретрийцев и милетян» (V. 99). Речь идет о Лелантской войне – едва ли не первом известном межполисном столкновении в истории греческого мира – вялотекущей и, как следствие, затяжной (с середины VIII до середины VII века). Постепенно в конфликт между соперничавшими Халкидой и Эретрией втянулся ряд других полисов, в том числе находившихся в отдалении от основного фронта военных действий. В числе союзников Халкиды были Самос и Коринф {21} , а Эретрию не случайно поддерживал Милет (милетяне и самосцы сами постоянно соперничали: их полисы находились неподалеку друг от друга, и им было что делить).
Именно к периоду Лелантской войны относится эпизод, о котором рассказывает другой великий историк – Фукидид: «По преданию, коринфяне первыми приступили к строительству кораблей способом, уже весьма похожим на современный, и в Коринфе были построены первые в Элладе триеры. Коринфский кораблестроитель Аминокл, который прибыл к самосцам приблизительно лет за триста до окончания этой войны [25]25
Здесь имеется в виду Пелопоннесская война, происходившая в конце V века до н. э. Следовательно, миссию Аминокла нужно отнести к концу VIII века, когда военные действия между Халкидой и Эретрией, поддерживаемыми многочисленными союзниками, шли полным ходом.
[Закрыть], построил им четыре корабля» ( Фукидид. История. I. 13. 2–3). Таким образом, благодаря дружбе с Коринфом самосцам удалось обзавестись лучшими к тому времени военными судами.
Не в первый раз у нас зашла речь о триерах; наверное, пора пояснить, что это такое. Триера была наиболее распространенным в античном греческом мире типом парусно-весельного судна. Впрочем, парусный такелаж на триере был предельно незамысловат и применялся редко, в основном же она двигалась на веслах, особенно во время морского боя. Весла по обоим бортам триеры располагались в три параллельных ряда (отсюда и название – «триера», «трехрядный» корабль). Весла были длинными и массивными, с каждым управлялся один гребец, а всего гребцов (и соответственно вёсел) на судне насчитывалось 150–170. Когда гребцы работали в полную силу, удавалось развивать скорость до десяти узлов [26]26
Морской узел – мера для измерения скорости судов; узел соответствует прохождению морской мили (1,85 километра) в час. Следовательно, триеры могли двигаться со скоростью до 12 километров в час. ( Прим. ред.)
[Закрыть]в сочетании с высокой маневренностью, что делало триеру мощной силой. Правда, обычно считается, что триера была изобретена лишь в VI веке до н. э., и это приходит в противоречие с приведенным выше свидетельством о том, что коринфянин Аминокл якобы уже гораздо раньше построил самосцам корабли такого типа. Может быть, применительно к эпохе Лелантской войны речь должна идти еще не о триерах, а о пентеконтерах – предыдущем типе военных кораблей, представлявших собой, в сущности, очень большие лодки с парусом и полусотней вёсел в один ряд. Известно, что и в дальнейшем основу самосского флота составляли не триеры, а пентеконтеры, более легкие и маневренные.
Как бы то ни было, флот Самоса был очень силен и осуществлял порой весьма дальние экспедиции. В то же время, когда шла Лелантская война, на юге Пелопоннеса Спарта покоряла соседнюю область Мессению. В Мессенских войнах самосцы также приняли участие – на стороне Спарты, которая и вышла победителем. Как пишет Геродот, спартанцы были признательны жителям Самоса, «так как самосцы прежде прислали им корабли на помощь против мессенцев» (III. 47). Правда, историк указывает, что здесь он передает точку зрения самих самосцев, без сомнения, ближе всего ему знакомую. Спартанцы же впоследствии придерживались иного мнения; впрочем, Спарта к началу классической эпохи всерьез переписала собственную историю, придав ей форму своеобразного «эгоцентрического мифа», и была отнюдь не склонна признавать свои долги перед кем бы то ни было.
Но более всего Самос прославился в период архаики торговым мореплаванием. Купцы, бороздившие на своих кораблях просторы Эгеиды, да и всего Средиземноморья, в те времена, как правило, были знатными аристократами. Ведь для того чтобы снарядить торговое судно, набрать экипаж, закупить партию товара для продажи на чужбине, нужен был изрядный начальный капитал, только богатые люди могли себе это позволить. А знатность и богатство в эллинском мире долго шли рука об руку.
Геродот рассказывает интересную историю об одном из таких самосских торговцев, по имени Колей, который установил связи с богатым царством Тартесс, располагавшимся на крайнем западе тогдашней ойкумены, в южной части Испании. Колей с товарищами отплыл с Самоса в Египет. «Однако восточным ветром их отнесло назад, и так как буря не стихала, то они, миновав Геракловы столпы, с божественной помощью прибыли в Тартесс. Эта торговая гавань была в то время еще не известна эллинам. Поэтому из всех эллинов самосцы получили от привезенных товаров по возвращении на родину (насколько у меня об этом есть достоверные сведения) больше всего прибыли… Самосцы посвятили богам десятую часть своей прибыли – 6 талантов» (IV. 152).
Следовательно, общий доход самосских купцов, посетивших Тартесс, составил 60 талантов, или 1560 килограммов серебра. И эта очень крупная сумма досталась самосцам в результате только одного плавания!
Жители Самоса приняли достаточно активное участие в Великой греческой колонизации. Есть даже мнение, что выходцы с острова поселились, в числе прочих мест, в такой периферийной «глубинке», как Северное Причерноморье, побережье Боспора Киммерийского (Керченского пролива), и были основателями расположенного там города Нимфей. Впрочем, этот вопрос однозначного ответа пока не нашел {22} .
Но совершенно точно известно, что самосцы участвовали в организации упоминавшейся выше общегреческой колонии-фактории Навкратис в Египте. Впрочем, в Навкратисе эти островитяне, насколько можно судить, держались особняком. Почти все остальные тамошние греки имели общее святилище – Эллений, а торговцы с Самоса воздвигли особый храм, посвященный Гере (II. 178).
Нужно заметить, что практически каждый древнегреческий полис имел собственное божество-покровителя из многочисленного эллинского пантеона. Античная религия была, как известно, подчеркнуто политеистической, но некоторая тяга к единобожию начала проявляться довольно рано, что выражалось и в выдвижении на первый план «отца бессмертных и смертных» – Зевса, и в культе божественных покровителей.
Скажем, жители Афин, конечно, прекрасно понимали, что верховный бог – Зевс, но больше любили и чтили всё же «свою» Афину. В ее честь были воздвигнуты главные афинские храмы, справлялись самые пышные и торжественные празднества полиса. Покровительницей Коринфа считалась Афродита, покровителем Милета – Аполлон и т. д. На Самосе же в этой роли выступала Гера, одна из самых могущественных древнегреческих богинь, сестра и супруга Зевса. Главное самосское святилище было посвящено Гере. Геродот по достоинству называет его одним из самых замечательных в греческом мире (II. 148).
Отношения Самоса с Египтом были добрыми. Фараон Амасис, пишет «Отец истории», подарил «в храм Геры на Самосе две свои портретные деревянные статуи, которые еще в мое время стояли в большом храме за порталом. Эти приношения на Самос царь сделал ради своей дружбы и гостеприимства с Поликратом, сыном Эака» (II. 182). Упомянутый здесь Поликрат – знаменитый самосский тиран, один из главных героев сочинения Геродота.
Сильный флот давал самосцам многие возможности. В частности, они не брезговали пиратством: их легкие, быстрые корабли позволяли им нападать на суда в Эгейском море и беззастенчиво грабить их. Подобного рода разбой стал одним из главных источников богатства самосской знати, считаясь в ее среде не зазорным, а скорее, наоборот, достойным делом. Одним из популярных имен у аристократов Самоса было имя Силосонт, которое может быть переведено как «грабитель, хранящий добычу». Геродот упоминает несколько случаев самосского пиратства.
В середине VI века спартанцы вступили в союз с лидийским царем Крезом и, приняв от него подарки в знак дружбы, решили сделать ответный дар. «Лакедемоняне изготовили медную чашу для смешивания вина, украшенную снаружи по краям всевозможными узорами, огромных размеров, вместимостью на 300 амфор [27]27
Стандартная вместимость амфоры составляла, в пересчете на современные меры, 40 литров. Соответственно, спартанский сосуд (кратер) был действительно огромным – вмещал около 12 тонн.
[Закрыть]. Впрочем, эта чаша так и не попала в Сарды по причинам, о которых рассказывают двояко. Лакедемоняне передают, что на пути в Сарды чаша оказалась у острова Самоса. Самосцы же, узнав об этом, подплыли на военных кораблях и похитили ее. Сами же самосцы, напротив, утверждают: лакедемоняне, везшие чашу, прибыли слишком поздно и по пути узнали, что Сарды взяты персами, а Крез пленен. Тогда они будто бы предложили продать эту чашу на Самосе, и несколько самосских граждан купили ее и посвятили в храм Геры. Возможно также, что люди, действительно продавшие чашу, по прибытии в Спарту объявили там, что их ограбили самосцы» (I. 70).








