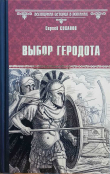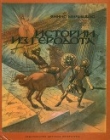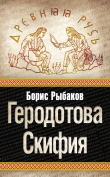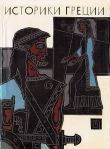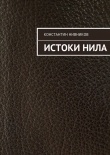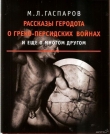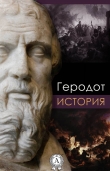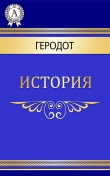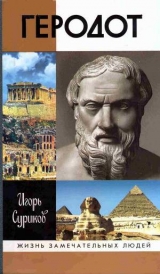
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Другой эпизод точно так же демонстрирует, что позиция оракула в вопросе о тиранах была скорее гибкой, нежели непреклонно-принципиальной. Когда с вопросом к Аполлону обратился Клисфен, тиран города Сикион, пифия дала ему оскорбительный ответ (V. 67). Но позже, когда Клисфен принял активное участие в так называемой Первой Священной войне (начало VI века до н. э.) за контроль над Дельфами и вступил победителем в священный город, позиция жречества резко изменилась в его пользу, и уже вскоре он победил в состязаниях колесниц на Пифийских играх, проводившихся в Дельфах ( Павсаний. Описание Эллады. X. 7. 6).
У Геродота есть примеры совсем уж недвусмысленного поощрения тиранов жрецами Аполлона. Когда в середине VII века коринфский аристократ Кипсел задумал стать тираном в родном городе, пифия возвестила ему:
Опираясь на полученную божественную санкцию, Кипсел установил свою тиранию, основав династию Кипселидов. Как и в случае с прорицанием, данным Аркесилаю III, коринфскому тирану власть была обещана, но при этом подчеркивалось, что их потомки ее утратят. Дельфы как бы позволяли ввести тиранический режим лишь на ограниченный срок – но всё же позволяли и даже фактически подталкивали к его установлению: кто, получив столь обнадеживающий ответ оракула, не соблазнился бы попыткой государственного переворота?
Известны и другие случаи подобного рода, но не из труда Геродота. От «Отца истории» дельфийские жрецы, когда они выступали его информаторами, большую часть этих примеров, чувствуется, скрыли.
Симпатия оракула к тиранам отнюдь не случайна. Ведь эти правители, придя к власти, скоро становились очень богатыми людьми: в их распоряжении оказывалась вся полисная казна, они взыскивали в свою пользу подати с граждан… Соответственно они имели больше возможности одаривать «срединный храм» обильными приношениями. И чем сильнее был тиран, тем легче это было ему делать; стало быть, тем активнее стремилось жречество Аполлона задобрить, «приручить» такого тирана.
В начале V века до н. э. могущественнейшим из представителей греческой тирании был Гелон из династии Дейноменидов. Он правил на Сицилии, в Сиракузах, а тираны многих эллинских городов острова стали его вассалами. В 480 году Гелон «отправил в Дельфы Кадма, сына Скифа, с острова Коса на трех пятидесятивесельных кораблях, нагруженных великими сокровищами» (VII. 163). Геродот приводит две версии. Первая, согласно которой Гелон решил сдаться Ксерксу, шедшему походом на Грецию, и отправил туда свои сокровища для передачи царю Персии, маловероятна, так как Гелон на своем очень отдаленном от Ахеменидской державы острове мог еще долго не опасаться нападения с востока. Реальная же угроза для него надвигалась, напротив, с запада: на Сицилии высадилось большое войско из Карфагена – населенного финикийцами города в Северной Африке, давно стремившегося подчинить себе плодородные сицилийские земли. Вторая версия явно гораздо ближе к истине: тиран просто спасал свое достояние, помещал его на время войны в безопасное место, куда руки карфагенян не могли дотянуться. Победив врагов, Гелон забрал свои сокровища из Дельф. Не приходится сомневаться, что если бы он потерпел поражение и погиб, то дельфийское жречество не замедлило бы прибрать его богатства к рукам.
Ко времени Геродота в Дельфах уже «стеснялись» своих былых близких отношений с тиранами. В эту эпоху тиранические режимы почти повсеместно в греческом мире были ликвидированы. Кое-где засидевшиеся их запоздалые представители, вроде галикарнасского Лигдамида, вовсе не определяли «политический климат» эпохи. Само слово «тиран» приобрело ранее не свойственный ему отчетливо негативный оттенок, какой сохраняет и по сей день, обозначая жестокого, кровавого правителя. В таких условиях от связей с тираниями, конечно, лучше было «откреститься». Так, сокровищницу, построенную в святилище тираном Коринфа Кипселом, переименовали просто в «сокровищницу коринфян» (I. 14).
К тому же на протяжении V века до н. э. всё более крепла дружба Дельф со Спартой. Эта дружба, особенно выгодная для жречества Аполлона, в свою очередь требовала от него определенных корректив политической линии. Ведь ярко выраженная неприязнь спартанцев к тирании доходила до того, что они не раз отправлялись свергать тиранов в различных городах Эллады.
Особые отношения между спартанским и дельфийским полисами выражались, например, в том, что в спартанском «дипломатическом корпусе» имелись особые должностные лица – пифии (единственное число – «пифий», то есть в мужском роде), послы, которые в случае надобности отправлялись в Дельфы (VI. 57). При этом в Спарте не существовало особых послов для поездок в Афины, Коринф или, скажем, в Персию…
Искренне благочестивые и в массе своей довольно простодушные, спартанцы были идеальным объектом для манипулирования с помощью религиозных аргументов, непревзойденными мастерами которого были дельфийские жрецы. Они, в сущности, во многом подчинили внешнюю политику самого сильного в Греции государства своим интересам. «Мечом Дельф» образно называет Спарту выдающийся русский ученый начала XX века Ф. Ф. Зелинский {41} . В Спарте прорицания оракулов воспринимались как непререкаемая истина, что позволяло обманывать спартанцев – например, с помощью сфабрикованных пророчеств убедить их свергнуть афинского тирана Гиппия и отстранить собственного царя Демарата.
Религиозность лакедемонян издавна способствовала теснейшим контактам с Дельфийским святилищем. Предание гласило, что именно по подсказке из Дельф на самой заре спартанской истории был введен уникальный институт двойной царской власти (VI. 52).
В архаическую эпоху, пока Спарта еще не стала гегемоном Греции, ее властям, случалось, приходили от пифии двусмысленные речения. Они обратились к оракулу с вопросом, удастся ли захватить соседнюю область Аркадию. Ответ был следующим:
Просишь Аркадию всю? Не дам тебе: многого хочешь!
Желудоядцев-мужей обитает в Аркадии много,
Кои стоят на пути. Но похода все же не возбраняю.
Дам лишь Тегею тебе, что ногами истоптана в пляске,
Чтобы плясать и поля ее тучные мерить веревкой.
Лакедемоняне, услышав ответ оракула, оставили все другие города Аркадии и пошли войной на тегейцев, взяв с собой оковы, так как твердо рассчитывали обратить тегейцев в рабство. «В битве, однако, лакедемоняне потерпели поражение, и на тех, кто попал в плен к врагам, были наложены те самые оковы, которые они принесли с собой: пленники, как рабы, должны были, отмерив участок поля тегейцев мерной веревкой, обрабатывать его», – бесстрастно заключает Геродот (I. 66).
Но впоследствии, когда определилось, что Спарта – самый сильный полис, отношение оракула к ней стало однозначно положительным. По дельфийской санкции в Спарту были перенесены из Аркадии останки древнего ахейского героя Ореста (I. 67–68), а из Ахайи – останки другого героя, его сына Тисамена (Павсаний. Описание Эллады. VII. 1. 8) {42} . Тем самым эти герои как бы брали Лаконику под покровительство.
Спартанцы страстно желали захватить Аргос – своего главного соперника на Пелопоннесе. При царе Клеомене I они начали с этим полисом очередную войну. «Клеомен ведь вопрошал Дельфийский оракул и в ответ получил изречение, что завоюет Аргос» (VI. 76). Хотя аргосцы и потерпели тяжелое поражение, но взять их город спартанскому войску не удалось. Впрочем, Клеомен и Дельфы придумали выход из очередной щекотливой для оракула ситуации: в ходе войны было захвачено святилище героя Аргоса – покровителя Арголиды; тем самым, дескать, и было исполнено прорицание.
В годину Греко-персидских войн пифия давала Спарте более благоприятные предсказания, чем прочим эллинским государствам. Однако и они были мрачноваты: «Когда спартанцы вопросили бога об этой войне (еще в самом начале ее), то пифия изрекла им ответ: или Лакедемон будет разрушен варварами, или их царь погибнет» (VII. 220). Судя по всему, не в последнюю очередь по этой причине спартанский царь Леонид добровольно обрек себя на героическую смерть при Фермопилах: ею он хотел спасти свой полис. А позже, после разгрома персидского царя при Саламине, «из Дельф пришло лакедемонянам изречение оракула, гласившее: они должны требовать от Ксеркса удовлетворение за убийство Леонида» (VIII. 114). Да, дельфийцы чутко улавливали изменения в военно-политическом положении…
Одним словом, всё, что известно о дельфийском жречестве, определенно рисует его как совершенно беззастенчивую, циничную корпорацию прожженных дельцов и обманщиков, при случае не брезговавших даже прямыми подделками прорицаний. Создается впечатление, что если кто в Греции в ту эпоху не верил в богов, так это жрецы «срединного храма». При этом их политический кругозор был довольно узок, интересы – мелочны, направлены прежде всего на обогащение святилища {43} .
Но как же тогда объяснить колоссальный авторитет Дельф в греческом мире? Поток паломников к святилищу на склоне Парнаса не оскудевал, сокровищницы продолжали полниться богатыми дарами, эллинские полисы и частные лица снова и снова обращались к оракулу за разрешением встававших перед ними проблем. Скажем честно и откровенно: объяснения этому нет. Что заставляло греков – глубоко критичный, пытливый народ, постоянно занятый напряженным поиском истины и никакого суждения не принимавший без убедительных доказательств, – в данном случае быть такими легковерными?
Почему, скажем, высокообразованный интеллектуал Геродот так полюбил Дельфы? Ведь Иония, где он обосновался, сама была богата славными святынями, окруженными народным почитанием: это и храм Геры на Самосе, и храм Артемиды в Эфесе, и храм Аполлона в Дидимах близ Милета, и Панионий – святилище Посейдона на мысе Микале, и святилище Аполлона и Артемиды на острове Делос… При некоторых из них имелись и собственные оракулы. Во всех перечисленных местах Геродот побывал – но и только. А «дельфийская мудрость» оказала на него самое серьезное влияние. В чем же заключалась эта мудрость, которая считалась столь важной и значимой, что за нее жрецам прощалось очень многое? А Дельфы в архаическую эпоху действительно встали во главе мощного религиозно-этического движения, фактически реформирования древнегреческой религии.
Лучше всего можно понять, чему учили в Дельфах, ознакомившись с одним эпизодом из «Истории» Геродота.
Спартанцу по имени Главк его друг из Милета оставил на длительное хранение крупную сумму денег. Прошло много лет, и к Главку явились сыновья милетянина, к тому времени уже покойного, с требованием возвратить деньги. Тот заявил, что о деньгах ничего не ведает.
«Печально возвратились милетяне домой, думая, что лишились уже своих денег. А Главк отправился в Дельфы вопросить оракул. Когда же он вопросил оракул, должен ли он присвоить деньги ложной клятвой, то пифия грозно изрекла ему в ответ такие слова:
Сын Эпикида, о Главк: сейчас тебе больше корысти
Клятвою верх одержать, вероломной, и деньги присвоить.
Ну же, клянись, ибо смерть ожидает и верного клятве.
Впрочем, у клятвы есть сын, хотя безымянный, безрукий
Он и безногий, но быстро настигнет тебя, покуда не вырвет
С корнем весь дом твой и род не погубит.
А доброклятвенный муж и потомство оставит благое.
Услышав этот оракул, Главк попросил у бога прощения за свой вопрос. Пифия же ответила, что испытывать божество и приносить ложную клятву – одно и то же. Тогда Главк послал за чужеземцами-милетянами и отдал им деньги… Не осталось теперь ни Главкова потомства, ни дома, который носил его имя в Спарте: с корнем вырван его род» (VI. 86).
Эта идея и была одним из краеугольных камней дельфийского учения и дельфийского мировоззрения – идея неизбежного божественного воздаяния за проступки. Она сформировалась на протяжении архаической эпохи, и главную роль в этом процессе сыграло именно святилище Аполлона.
В приведенном выше эпизоде ничего не говорится о том, что самого Главка постигла какая-нибудь кара за попытку обмана доверившихся ему людей. Акцент делается на том, что возмездие обрушилось на его потомство, даже несмотря на то, что Главк в конце концов раскаялся и деньги вернул. Гибельным оказалось само намерение совершить преступление.
Мысль о коллективной ответственности появилась как попытка ответить на испокон веков тревоживший людей вопрос: почему в мире совершается зло, а злодеи часто не несут никакого наказания за свои деяния? И если есть боги, то как они допускают подобную несправедливость?
Позднейшие монотеистические религии для разрешения этого затруднения вводят категорию загробного воздаяния. Эта концепция, предполагающая строго индивидуальную ответственность, возникла уже в языческой Греции, в некоторых мистических течениях, таких как орфизм и пифагореизм. Но традиционное, «магистральное» направление в эллинской религии, рупором которого выступали Дельфы, признавало возмездие, которое боги обрушат на потомков грешника, даже если они ни в чем не виноваты. Теория коллективной ответственности позволяла объяснить, почему невинные страдают, почему на человека может вдруг ни с того ни с сего обрушиться вереница горестей и несчастий. В массовом религиозно-этическом сознании в связи с подобными ситуациями бытовала идея о «зависти богов». Но представители богословской мысли (в первую очередь дельфийское жречество) старались бороться с этим примитивным представлением. Каждый случай, когда благоденствующего дотоле человека начинали преследовать бедствия, они стремились трактовать как проявление божественного воздаяния, искупление страданиями грехов – своих собственных или предков.
Когда в 546 году до н. э. царь Лидии Крез был наголову разгромлен персидским владыкой Киром, перед современниками не мог не встать вопрос: почему крайне благочестивого и богобоязненного лидийского монарха постигла злая судьба? Он ведь с огромным пиететом относился к Дельфийскому святилищу, украшал его щедрыми дарами, согласовывал каждый свой шаг с мнением тамошних жрецов. В Дельфах отвечали: да, Крез лично не совершил ничего дурного. Но он был наказан за вину своего прапрадеда Гигеса, который незаконно захватил власть в Лидии, убив предыдущего царя. Боги пытались предотвратить кару, которая должна была обрушиться на Креза, но отвратить веление Рока не властны даже они (I. 91).
В этом мире переплетающихся преступлений и «воздаяний», должно быть, неуютно жилось древнему греку. В любой момент могла нежданно прийти беда – за то, что какой-нибудь давний предок много лет назад совершил нечестивое дело. Очень хорошо отражают этот аспект дельфийского мировоззрения переданные Геродотом слова, будто бы сказанные знаменитым афинским мудрецом Солоном тому же Крезу: «Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей, но на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончилась благополучно. Ведь обладатель сокровищ не счастливее человека, имеющего лишь дневное пропитание, если только счастье не сопутствует ему и он до конца жизни не сохранит своего богатства… Пока человек не умрет, воздержись называть его блаженным, но называй его лучше удачливым… Но тот, что постоянно обладает наибольшим количеством благ и затем счастливо окончит жизнь, тот, царь, в моих глазах вправе называться счастливым. Впрочем, во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно кончится. Ведь уже многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило» (I. 32).
Считалось, что на большее, чем эта череда постоянных превратностей, и не может рассчитывать человек. Самое знаменитое из дельфийских изречений – «познай самого себя» – было даже выбито у входа в храм Аполлона. Впоследствии этот афоризм очень любил Сократ, однако понимал его как призыв к погружению в глубины собственной индивидуальности. Изначально же, в архаическую эпоху, смысл лозунга был совсем иным, фиксировавшим некую мировую субординацию с твердо установленным местом для каждого, которое надлежит знать. По сути, «познай самого себя» в дельфийском контексте означает «познай, что ты всего лишьчеловек, и не стремись к большему», то есть «знай свое место».
Идеи умеренности, самоограничения, благочестивой справедливости – вот что провозглашала пресловутая «дельфийская мудрость». Внедрять эти воззрения было тем легче именно жрецам святилища Аполлона на склоне Парнаса, что из всех богов древнегреческой религии именно он в наибольшей степени воплощал меру, форму, гармонию, дисциплину. Подавляющему большинству античных греков эти идеи были очень близки; отсюда – авторитет и влияние Дельф, которые ничто не могло пошатнуть. Проникся дельфийскими идеями и Геродот; они в значительной мере сформировали стержень его религиозных взглядов.
Дельфы призывали к искуплению разнообразных прегрешений, совершённых самими людьми или их предками и ставших причиной несчастий. Возьмем несколько примеров из геродотовской «Истории». Жители острова Лемнос совершили грабительский поход на Аттику и захватили там много женщин, а потом своих афинских пленниц перебили. После этого «земля их вовсе перестала плодоносить. Их женщины не были так плодовиты, как раньше. А также и скот. Голод и бездетность заставили их, наконец, отправить послов в Дельфы и просить об избавлении от этих бед. Пифия же повелела им дать удовлетворение афинянам, какое те сами им присудят» (VI. 139).
В другом случае в городе Аполлонии на западе Балканского полуострова пастух Евений не уследил за стадом, и овец съели волки. По приговору суда он был ослеплен; но после этого «овцы перестали ягниться, а земля – приносить плоды. В Додоне и в Дельфах, где аполлонийцы вопрошали оракул о причине такой напасти, они получили в ответ изречение: они виноваты в том, что несправедливо лишили зрения стража священных овец Евения (ведь это сами боги послали волков), и бедствия Аполлонии не прекратятся до тех пор, пока аполлонийцы не дадут удовлетворения, какое он сам потребует и назначит за содеянное ему зло» (IX. 93).
Часто искупление мыслилось прежде всего как совершение определенных религиозных церемоний, установление новых культов. Жители этрусского города Атиллы (Цере) перебили высадившихся на их берег мореходов из Фокеи. «С тех пор у агиллейцев все живые существа – будь то овцы, рабочий скот или люди, проходившие мимо места, где лежали трупы побитых камнями фокейцев, – становились увечными, калеками или паралитиками. Тогда агиллейцы отправили послов в Дельфы, желая искупить свое преступление. Пифия повелела им делать то, что агиллейцы совершают еще и поныне: они приносят богатые жертвы фокейцам, как героям, и устраивают в их честь гимнастические состязания и конские ристания» (I. 167). Впрочем, нередко Дельфы требовали возведения храмов, алтарей, статуй богам безотносительно какой-нибудь вины – просто для умножения благочестия, активизации религиозной жизни.
…Благородные юноши из Аргоса – Клеобис и Битон – так любили свою мать, жрицу в храме Геры, что однажды в знак почтения сами впряглись в упряжку вместо быков и привезли ее из города в святилище, пробежав более восьми километров. Благодарная мать стала молить богиню, чтобы та даровала ее сыновьям «высшее благо, доступное людям. После этой молитвы и жертвоприношения и пиршества юноши заснули в самом святилище и уже больше не вставали, но нашли там свою кончину. Аргосцы же велели поставить юношам статуи и посвятить их в Дельфы за то, что они проявили высшую доблесть» (I. 31).
Красивая легенда, овеянная ореолом светлой грусти? Но… археологами при раскопках Дельф были обнаружены статуи юношей-близнецов. Выяснилось, что они датируются первой четвертью VI века до н. э. и созданы аргосским скульптором Полимедом. Статуи видели еще Солон и Геродот, а теперь вполне может узреть любой из наших современников. Не лучшее ли это наглядное доказательство живой связи веков?
В «школе Эллады»
Да ты – чурбан, коли Афин не видывал;
Осел – коли, увидев, не пришел в восторг;
Верблюд – коли покинул их, не жалуясь.
(Лисипп. Фр. 7 Коск)
К грубоватым, но выразительным словам поэта-комедиографа V века до н. э., без сомнения, присоединились бы очень многие его современники. Афины в эту эпоху преображались буквально на глазах: из большого, но рядового полиса они стремительно становились крупнейшим политическим, экономическим, а главное – культурным центром греческого мира. Знаменитейший из лидеров государства – Перикл – имел полное основание сказать в 431 году до н. э.: «Одним словом, я утверждаю, что город наш – школа всей Эллады» (Фукидид. История. И. 41. 1).
Столь разительной перемене способствовал ряд факторов. В годину Греко-персидских войн Афины сыграли одну из главных ролей в разгроме врагов. Создав для отпора «варварам» мощнейший в Греции флот, «город Паллады» резко усилился в военном отношении. Афинский морской союз еще более укрепил положение полиса-гегемона: регулярно поступавший от союзников форос позволял афинянам жить безбедно, отваживаться на реализацию крупных политических проектов, которые требовали значительных денежных затрат.
Афинская демократия, основы которой были заложены реформами Клисфена в конце архаической эпохи, на протяжении V века до н. э., пройдя путь последовательного развития, достигла максимально полной и законченной формы. В то время в Греции не было государства, где столь же велика была степень свободы: свободы слова, свободы действия, как в частной, так и в общественной жизни.
Говоря откровенно, реальная демократия – весьма дорогая вещь. Эта политическая система – в определенном смысле роскошь, которую могут позволить себе только богатые государства. Этот тезис верен во все времена, от Античности до наших дней. В Афинах развилась реальная (а не номинальная) демократия не в последнюю очередь потому, что по богатству с ними никто не мог сравниться. А одним из главных его источников являлся форос, получаемый от союзников.
В Афинах V века до н. э. была введена оплата работы должностных лиц – исключительно демократическая мера, способствовавшая тому, что широкие массы даже небогатых граждан могли избираться на различные государственные должности и тем самым активно включались в политический процесс. В других полисах такое не практиковалось {44} . Чтобы государство имело возможность совершать подобные траты (а они никак не окупали себя), необходима была какая-то компенсация этих расходов поступавшими в казну доходами. Афины могли себе позволить, в числе прочего, платить своим должностным лицам. Ведь форос был почти неисчерпаемым источником дохода. Его можно было хранить как своеобразный «неприкосновенный запас», но к нему можно было прибегнуть как к «палочке-выручалочке» в случае необходимости.
В Афины потоком хлынули видные деятели культуры из самых разных мест эллинского мира, в особенности из малоазийских полисов. Влекли их туда и возможность свободно высказывать свои взгляды, и богатство афинского общества, позволявшее рассчитывать на высокие гонорары. Не следует забывать и о том, что в ходе Греко-персидских войн Иония не раз подвергалась суровому разгрому; неудивительно, что она утратила роль авангарда древнегреческой цивилизации, которую играла на протяжении архаической эпохи, и что роль эта перешла к победоносным Афинам.
Среди интеллектуалов, которые приехали в Аттику и творили там «школу Эллады», был и Геродот. Здесь можно говорить о плодотворном взаимовлиянии: с одной стороны, «Отец истории», несомненно, оказал воздействие на культурную жизнь Афин, с другой – пребывание в этом городе стало одной из важнейших вех его жизненного и творческого пути, сильно сказалось на развитии Геродота как ученого и писателя {45} . Галикарнасский эллин был восхищен «городом Паллады», как бы впитал в себя блеск его славы. Не случайно в геродотовском труде о Греко-персидских войнах весь грандиозный конфликт Запада и Востока описан со специфически афинской точки зрения.
Тому есть много подтверждений. Выдержки из сочинения Геродота свидетельствуют о его глубокой симпатии к Афинам и афинской демократии. «Афины, правда, уже и раньше были великим городом, а теперь, после освобождения от тиранов, стали еще более могущественными» (V. 66). «Итак, могущество Афин возрастало. Ясно, что равноправие для народа… вообще – драгоценное достояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же после освобождения каждый стал стремиться к собственному благополучию» (V. 78).
Речь идет о свержении афинского тирана Гиппия в 510 году до н. э. и установлении Клисфеном демократии два-три года спустя. Как видим, отношение к этим политическим переменам у историка более чем положительное. Ведь все «прелести» тирании были знакомы ему не понаслышке – он и сам стал одной из ее жертв. Впрочем, Геродот не был бы самим собой, если бы в «бочку меда» всех похвал в адрес демократии не добавил небольшую «ложку дегтя». Когда Аристагор, вождь Ионийского восстания (к которому «Отец истории» относился отрицательно), прибыл в Балканскую Грецию просить содействия в борьбе против персов, то спартанский царь Клеомен I ему отказал, а афинское народное собрание, напротив, постановило послать на помощь эскадру кораблей. Геродот иронически резюмирует: «Ведь многих людей, очевидно, легче обмануть, чем одного: одного лакедемонянина Клеомена ему (Аристагору. – И. С.) не удалось провести, а 30 тысяч афинян он обманул» (V. 97). Оценка демократии оказывается не столь уж однозначно восторженной.
Но в рассказе о событиях, связанных с походом Ксеркса на Элладу в 480–479 годах, мы встречаем просто-таки настоящий панегирик Афинам. Это место в «Истории» настолько важно, что его необходимо процитировать полностью: «…Я вынужден откровенно высказать мое мнение, которое, конечно, большинству придется не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что признаю истиной. Если бы афиняне в страхе перед грозной опасностью покинули свой город или, даже не покидая его, сдались Ксерксу, то никто из эллинов не посмел бы оказать сопротивления персам на море. Далее, не найди Ксеркс противника на море, то на суше дела сложились бы вот как: если бы даже и много „хитонов стен“ пелопоннесцам удалось воздвигнуть на Истме, то все же флот варваров стал бы захватывать город за городом и лакедемоняне, покинутые на произвол судьбы союзниками (правда, не по доброй воле, но в силу необходимости), остались бы одни. И вот покинутые всеми, лакедемоняне после героического сопротивления все-таки пали бы доблестной смертью. Следовательно, их ожидала бы такая участь или, быть может, видя переход всех прочих эллинов на сторону персов, им пришлось бы еще раньше сдаться на милость Ксеркса. Таким образом, и в том и в другом случае Эллада оказалась бы под игом персов. Действительно, мне совершенно непонятно, какую пользу могли принести стены на Истме, если царь персов господствовал на море. Потому-то не погрешишь против истины, назвав афинян спасителями Эллады. Ибо ход событий зависел исключительно от того, на чью сторону склонятся афиняне. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады, то они вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам, поскольку те еще не перешли на сторону мидян, и с помощью богов обратили царя в бегство. Не могли устрашить афинян даже грозные изречения Дельфийского оракула и побудить их покинуть Элладу на произвол судьбы. Они спокойно стояли и мужественно ждали нападения врага на их землю» (VII. 139).
Этот отрывок привлекает внимание целым рядом нюансов. Во-первых, здесь мы имеем, пожалуй, первый в мировой науке опыт «альтернативной истории», попытку рассчитать ход событий при гипотетическом изменении исходных условий.
В эпоху господства позитивизма в исторических исследованиях (XIX и значительная часть XX века) за подобным подходом вообще не признавалось право на существование. Распространенный лозунг гласил: «История не имеет сослагательного наклонения». Ныне, в связи с развитием новых, современных методологий и методик изучения прошлого, чрезвычайно перспективным становится исследование разного рода альтернатив в истории и «точек бифуркации», в которых направление исторического процесса не является жестко предопределенным и может давать сильно разнящиеся варианты при сравнительно незначительных отклонениях от исходных условий {46} . Именно такой «точкой бифуркации» (одной из важнейших во всей истории Древнего мира) был поход Ксеркса на Элладу. Трудно даже представить, насколько иначе могло бы пойти всё дальнейшее развитие европейского человечества, если бы он увенчался успехом. Геродот прав в том, что это было не исключено, если бы в борьбу с восточным агрессором не внесли свой вклад Афины.
Во-вторых, бросается в глаза ярко выраженный про-афинский пафос «Отца истории». «Спасителями Эллады» названы здесь афиняне – высокая честь! И такую точку зрения Геродот не мог усвоить в каком-либо ином месте, кроме самих Афин. В этом полисе уже в ходе Греко-персидских войн славные победы над «варварами» стали одним из ключевых компонентов «национальной идеологии», предметом гордости.
В-третьих, нельзя не заметить, что Геродот делает здесь оговорку: его мнение «большинству придется не по душе». Под этим «большинством», скорее всего, имеются в виду не только спартанцы, которым, конечно, не слишком приятно было резкое возвышение Афин – конкурента в борьбе за гегемонию в Элладе. Неприязненные голоса по адресу афинян раздавались во времена Геродота не только с Пелопоннеса – в городах Ионии и эгейских островов, в свое время добровольно вступивших в Афинский морской союз, тоже росли оппозиционные настроения. Перикловы Афины, слишком уж жестко «закрутившие гайки» в союзе, вступившие на путь неприкрытой эксплуатации остальных его членов, регулярно выкачивавшие большие деньги в виде фороса, умудрились довольно быстро растратить былую славу и получить в греческом мире незавидную репутацию «города-тирана». Например, обитатели Коринфа говорили об Афинах – еще при жизни Геродота: «Нет сомнения, что этот город, ставший тираном Эллады, одинаково угрожает всем: одни города уже в его власти, а над другими он замышляет установить свое господство» ( Фукидид. История. I. 124. 3).
Можно, конечно, возразить, что коринфяне здесь необъективны, будучи давними конкурентами и, значит, недоброжелателями афинян. Однако и в самих Афинах те государственные деятели, которые мыслили трезво, понимали ситуацию абсолютно так же. Афинский политик Клеон обращался к согражданам: «Не забывайте, что ваше владычество над союзниками – это тирания, осуществляемая против воли ваших подданных, которые злоумышляют против вас» ( Фукидид. История. III. 37. 2). Да и Перикл, мудрый и прозорливый многолетний лидер афинской демократии, придерживался того же мнения. Однажды он обратился к народному собранию: «Ваше владычество подобно тирании, добиваться которой несправедливо, отказаться же от нее – весьма опасно» ( Фукидид. История. II. 63. 2); в другой раз предрек: «Союзники не останутся спокойными и восстанут, как только мы окажемся не в состоянии сдерживать их силой» ( Фукидид. История. I. 143. 6).