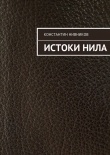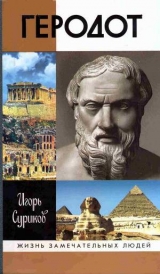
Текст книги "Геродот"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
В этом довольно обширном отрывке – весь Геродот, со всеми присущими ему качествами. Тут и умение удивляться новому, незнакомому, и сочно, ярко рассказать о нем. Шутка ли, ведь большинство греков вообще никогда в жизни не видели судоходной реки… Тут и порожденная, видимо, опытом легкая обреченность: кое-каким удивительным вещам всё равно, дескать, не поверят. Тут и наблюдательность, придающая рассказу особую достоверность: историк тонко подметил особенности кожаных судов – а ведь плавсредства такой конструкции еще в XX веке продолжали использоваться в некоторых регионах Азии.
И вот после долгого плавания на горизонте показывался сам Вавилон – «Врата бога» в буквальном переводе с аккадского, краса и гордость Востока, один из самых знаменитых городов во всей мировой истории. Наверное, почти нет людей, которые не слышали бы о Вавилоне. Впрочем, для большинства наших современников главный источник знаний о нем – библейская традиция. «Вавилонское столпотворение», «реки вавилонские», «вавилонская блудница» – все эти образы, вошедшие в плоть и кровь современных языков и культур, происходят либо из Ветхого, либо из Нового Завета.
Геродот, конечно, Библию не читал и не имел о ней никакого понятия (хотя ко времени его жизни она уже частично существовала). Но, несомненно, он с нетерпением ожидал появления на горизонте великого города, о котором был уже достаточно наслышан. Независимость Месопотамии осталась в прошлом, Вавилон теперь входил в состав владений Ахеменидов, но его процветанию это не повредило. Он являлся центром богатейшей из сатрапий. В «Истории» указано: «Вавилонская земля из двенадцати месяцев четыре месяца в году поставляет царю продовольствие, а восемь месяцев – вся остальная Азия… И наместничество в этой стране, которое персы называют сатрапией, безусловно самое доходное из всех наместничеств» (I. 192). Вавилония составляла девятую сатрапию Персидской державы. По территории отнюдь не самая обширная, она тем не менее платила ежегодной подати в царскую казну тысячу талантов (III. 92) – намного больше, чем любая другая.
Вавилон считался одной из ахеменидских столиц – наряду с Сузами, Персеполем и Экбатанами – и был самым крупным населенным пунктом колоссальной империи. Геродот, без сомнения, никогда в жизни не видел такого огромного города. Греческие полисы, даже самые большие и важные, не могли – ни Афины, ни Спарта, ни Коринф, ни Милет – даже отдаленно с ним сравниться, уступали многократно. Поэтому рассказ историка о Вавилоне полон энтузиазма. Приведем наиболее интересные выдержки из него:
«Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадиев длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадиев. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего город окружен глубоким, широким и полным водой рвом, затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царский же локоть на три пальца больше обыкновенного…
На верху стены по краям возвели по две одноэтажные башни, стоящие друг против друга. Между башнями оставалось пространство, достаточное для проезда четверки лошадей. Кругом на стене находилось 100 ворот целиком из меди…
Город же состоит из двух частей. Через него протекает река по имени Евфрат… По обеим сторонам реки стена, изгибаясь, доходит до самой реки, а отсюда по обоим берегам реки идет стена из обожженных кирпичей. Город же сам состоит сплошь из трех– и четырехэтажных домов и пересечен прямыми улицами, идущими частью вдоль, а частью поперек реки. На каждой поперечной улице в стене вдоль реки было столько же маленьких ворот, сколько и самих улиц. Ворота эти были также медные и вели к самой реке.
Эта внешняя стена является как бы панцирем города. Вторая же стена идет внутри первой, правда, ненамного ниже, но уже нее. В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части – царский дворец, окруженный огромной и крепкой стеной; в другой – святилище Зевса Бела [59]59
Бел (Баал, Ваал), от «владыка», «повелитель», «господин» ( семит.) – одно из наиболее употребительных именований главных богов и богов-покровителей отдельных городов в семитской мифологии. ( Прим. ред.)
[Закрыть]с медными вратами, сохранившимися еще и до наших дней. Храмовой священный участок – четырехугольный, каждая сторона его длиной в два стадия. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня шириной и длиной в один стадий. На этой башне стоит вторая, а на ней – еще башня, в общем восемь башен – одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть, для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме стоит большое, роскошно убранное ложе и рядом с ним золотой стол. Никакого изображения божества там, однако, нет. Да и ни один человек не проводит здесь ночь, за исключением одной женщины, которую, по словам халдеев, жрецов этого бога, бог выбирает себе из всех местных женщин. Эти жрецы утверждают (я, впрочем, этому не верю), что сам бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе…
Есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя сидящего Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейка для ног и трон – также золотые. По словам халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь… Была еще в священном участке… золотая статуя бога, целиком из золота, 12 локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть… Ксеркс… похитил статую, повелев умертвить жреца, который не позволял прикасаться к статуе и двигать ее с места» (I. 178–183).
Информация, содержащаяся в этом рассказе, просто бесценна. Как видим, Геродот не просто побывал в главном вавилонском святилище. Это святилище верховного бога Мардука (который в «Истории», по принятому у греков обыкновению называть чужие божества эллинскими именами, фигурирует как Зевс Бел) называлось Эсагила. Жрецы разрешили галикарнасцу даже подняться на самую знаменитую культовую постройку – зиккурат Этеменанки (в переводе с аккадского – «Дом соединения неба и земли»), колоссальное ступенчатое сооружение – то самое, которое вошло в историю как Вавилонская башня.
Месопотамские зиккураты во многом напоминали египетские пирамиды, но в отличие от последних совершенно не сохранились до нашего времени. Ведь пирамиды возводились из прочных пород камня, а в междуречье Тигра и Евфрата камень практически отсутствовал. Зиккураты поэтому строили из кирпича, далеко не столь долговечного. Немало их было на месопотамской земле, а теперь на месте каждого из них – лишь бесформенный оплывший холм из глины, в которую со временем превратились кирпичи. Зиккураты и по своим функциям принципиально отличались от пирамид.
Пирамиды – это монументальные гробницы. Самые крупные и известные принадлежат фараонам, те, что поменьше, – их приближенным, вельможам. В зиккуратах же никого не хоронили. Они являлись храмами или, точнее, грандиозными «подставками» для храмов, сооружавшихся на самой верхней ступени. Принцип прост и вполне понятен: чем выше располагалось святилище, тем ближе к небу и небожителям, тем легче им было спускаться, чтобы побыть в своем земном жилище.
Вавилонский зиккурат был крупнейшим в Месопотамии. Геродот описывает «покои бога», располагавшиеся наверху. Их, по вавилонским представлениям, посещал Мардук, чтобы вступить в «священный брак» со смертной женщиной-жрицей. Геродот, как видим, относится к этой храмовой легенде со скептицизмом, типичным для просвещенного ионийца. А ведь ритуал «священного брака» был широко распространен в Месопотамии; об этом известно и из местных – шумерских и аккадских – источников. Считалось, что такой брак обеспечивает единение бога и народа, приносит стране благополучие, земле – плодородие и т. п. Подобные обряды, кстати, были характерны чуть ли не для всех архаических обществ Востока и Запада. Даже в Афинах классической эпохи сохранялись пережитки чего-то похожего. Как пишет Аристотель, в здании под названием Буколий «еще и теперь… происходят соединение и брак жены царя (одного из архонтов. – И. С.) с Дионисом» ( Аристотель. Афинская политая. 3. 5).
Конечно, в первую очередь Геродота в Вавилоне поражали колоссальные размеры всех строений и – роскошь, роскошь, роскошь… Обратим внимание на то, как он скрупулезно констатирует: такой-то предмет целиком из золота, такой-то – тоже… Для греков, в земле которых золото было большой редкостью, читать об этом, конечно, было увлекательно.
От огромных размеров города у историка, можно сказать, голова пошла кругом. И нет ничего удивительного в том, что порой в его описании встречаются явные преувеличения. Если верить Геродоту, толщина внешней оборонительной стены Вавилона составляла 25 метров, а высота – аж 100 метров, что, конечно, совершенно невероятно. То же самое касается и протяженности стен: если пересчитать стадии на современные меры длины, выйдет, что каждая из сторон вавилонского «четырехугольника» (кстати, позволительно усомниться и в том, что город имел в плане строго квадратную форму) – более 20 километров, а периметр – более 80. Однако, по данным археологических раскопок, общий периметр Вавилона не превышает 16 километров. Руины Вавилона были открыты на рубеже XIX–XX веков немецкой экспедицией Р. Кольдевея. Ныне они находятся на территории Ирака, а эта страна уже много лет, к величайшему сожалению, является «горячей точкой» и ареной почти постоянных военных действий. Оттуда доходят смутные известия, что в результате налетов американской авиации вавилонское городище сильно пострадало…
Повсюду, где бывал Геродот, в том числе и в Вавилоне, он отмечал также удивительные традиции местных народов – например, такие: «Есть у вавилонян… весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь недугом они выносят на рынок (у них ведь нет врачей). Прохожие дают больному советы о его болезни (если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у другого). Затем прохожие советуют больному и объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или видели исцеление других. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено: каждый должен спрашивать, в чем его недуг… Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу» (I. 197–199). В последнем случае речь идет о распространенном на Древнем Востоке обычае храмовой проституции, которая считалась священной (под Афродитой имеется в виду вавилонская богиня любви Иштар).
Забирался ли Геродот на восток далее Вавилона? На сей счет среди ученых единое мнение отсутствует, но скорее всего, восточнее он не бывал. Мы уже видели, что по «Царскому пути» он не ездил и в персидской административной столице – эламских Сузах – не был. Есть мнение, что «Отец истории» посетил еще одну столицу Ахеменидов – Экбатаны, располагавшиеся в Западном Иране и являвшиеся главным городом Мидии до того, как это государство подпало под власть персов.
У Геродота есть довольно красочное описание Экбатан. «Деиок (первый мидийский царь. – И. С.) воздвиг большой укрепленный город – нынешние Экбатаны, в котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были построены так, что одно кольцо стен выдавалось над другим только на высоту бастиона. Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству стен, однако местность была еще немного изменена искусственно. Всех колец стен было семь; внутри последнего кольца находятся царский дворец и сокровищница. Длина наибольшего кольца стен почти такая же, что и у кольцевой стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, второго – черные, третьего – желто-красные, четвертого – темно-синие, пятого – сандаракового (светло-красного. – И. С.) цвета. Таким образом, бастионы всех этих пяти колец пестро раскрашены. Что же до двух последних колец, то бастионы одного были посеребренные, а другого – позолоченные» (I. 98).
В описании даже имеется сравнение этого места с другим (Афинами); а мы уже имели возможности убедиться, что сравнения задействуются Геродотом обычно в тех случаях, когда он сам видел обе местности. Но здесь, похоже, перед нами исключение из правила. В приведенном рассказе есть сомнительные детали. Так, например, получается, что по территории Экбатаны даже чуть меньше Афин, а в это трудно поверить. Ведь сравниваются один из крупнейших городов Персидской державы – и всего лишь греческий полис, хотя и из числа самых знаменитых. Да и в целом слишком уж сказочная картина предстает мысленному взору читателя: холм, окруженный вздымающимися друг над другом разноцветными кольцами стен… Словом, вопрос о посещении Геродотом Экбатан – и вообще Ирана – приходится оставить открытым.
Что же касается сатрапий Персии, лежавших еще дальше на восток, то в них галикарнасец заведомо не бывал. Совершенно точно, например, не добирался он до далекой Индии, северо-западной частью которой тоже владели Ахемениды. А между тем сведения об Индии в «Истории» имеются. Но информация эта, конечно, получена автором из чужих рук и даже, скорее всего, через целый ряд посредников. Научная ценность подобных сообщений невелика; они переполнены откровенно легендарными и сверхъестественными элементами.
Вот характерный их образчик из индийского логоса Геродота: «В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьев, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок… Вырытый же ими песок – золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам – верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине – самку-верблюдицу… Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того, могут нести гораздо более тяжелые вьюки… В такой верблюжьей упряжке индийцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей… Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их золотым песком и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню. Ведь ни одно животное не может сравниться с этими муравьями быстротой бега, так что если бы индийцы не успели опередить их (пока муравьи соберутся), то никто бы из них не уцелел. Так вот, верблюдов-самцов (те ведь бегут медленнее самок и скорее устают) они отвязывают в пути и оставляют муравьям (сначала одного, потом другого). Самки же, вспоминая оставленных дома жеребят, бегут без устали. Таким-то образом индийцы, по словам персов, добывают большую часть золота, а некоторое гораздо меньшее количество выкапывают из земли» (III. 102–105).
Геродотовский рассказ о золотодобытчиках и огромных муравьях, несомненно, имеет главным своим первоисточником персидский купеческий фольклор. Среди купцов разных эпох и цивилизаций циркулировали такого рода истории, особенно сильно тяготевшие к фантастике и нагнетанию ужасов. Вспомним арабские сказки о Синдбаде-мореходе, точно так же возникшие в купеческой среде. Чего в них только нет: и чудовища, и великаны…
Рассказывалось всё это в первую очередь с целью отпугнуть потенциальных конкурентов, чтобы у слушателей не возникло желания самим ехать в Индию за золотом и иметь там дело с чудовищными кровожадными муравьями. «Отец истории», по своему обыкновению, аккуратно записал все разговоры купцов-персов, следуя своему, уже знакомому нам базовому принципу – «передавать всё, что рассказывают».
Индия, как видим, уже ко времени Геродота обрела в глазах европейцев столь привычный впоследствии ореол таинственной страны чудес, баснословно богатой, но наполненной всяческими опасностями. Такой облик она потом сохраняла долго – на протяжении всей Античности, Средних веков, вплоть до эпохи Великих географических открытий в начале Нового времени.
На юг, в страну фараонов
Египет точно так же, как Индия, всегда представал в глазах греков страной таинственной, загадочной, необычной и чрезвычайно интересной. И это несмотря на то, что в отличие от очень далекой, труднодоступной и уже поэтому экзотичной Индии долина Нила находилась довольно близко к Элладе – достаточно было переплыть Средиземное море.
Греко-египетские контакты были активными уже во II тысячелетии до н. э., в период существования микенской цивилизации на юге Балканского полуострова {135} . После ее крушения, в так называемые «темные века» (XI–IX) эти связи прервались – если не полностью, то почти полностью – из-за кризиса и упадка, который переживала Греция. А когда в эллинском мире наступила архаическая эпоха, сопровождавшаяся возрождением и бурным развитием всех областей жизни, одним из результатов стало восстановление связей с цивилизациями Древнего Ближнего Востока {136} и в частности с Египтом. С последним общение стало особенно активным с VII века до н. э. {137}
Египет тоже как раз тогда оправился от далеко не лучших времен, когда страна переживала политическую раздробленность и неоднократно попадала под власть иноземных завоевателей – то эфиопов с юга, то ливийцев с запада, то ассирийцев с востока… На престол взошла XXVI династия фараонов (664–525), называемая также Саисской по тогдашней столице – городу Саис в дельте Нила. Последний расцвет египетской государственности был прерван захватом Египта персидским царем Камбисом и превращением его в одну из сатрапий Ахеменидской державы. Но до того, как это произошло, страна фараонов, казалось, вернулась к прежнему блеску славы.
Цари из Саисской династии сознательно вели внешнеполитический курс на сближение с греками, прежде всего потому, что те уже в архаическую эпоху имели заслуженную репутацию великолепных воинов. Собственно, именно воины стали первыми эллинами, которых египтяне увидели после длительного перерыва. Нам уже знаком этот эпизод: ионийские гоплиты (в компании с карийцами) были случайно занесены бурей к египетским берегам. Эти «медные люди» глубоко поразили местное население, а Псамметих I – основатель Саисской династии – тут же нанял их к себе на службу и с их помощью сумел, победив соперников, объединить Египет под своим владычеством.
Фараоны и впредь активно пользовались услугами греческих наемников, а также предоставляли гостям с севера торговые привилегии, позволив им основать в дельте свою факторию – Навкратис. Установились взаимовыгодные отношения: египетских правителей Греция интересовала как источник вооруженной силы, а грекам Египет был нужен в качестве очень выгодного торгового партнера. Оттуда в первую очередь импортировали зерно, которым Эллада была столь бедна. Среди других важных статей ввоза был конечно же папирус: в греческом мире всё большее распространение получала грамотность, развивалась литература и самый удобный на тот момент писчий материал не мог не быть востребованным.
Греки, оказавшиеся в архаическую эпоху в долине Нила, были зачарованы необычным видом новых мест, грандиозностью памятников, отражавших уходящую вглубь тысячелетий египетскую историю. Ярким свидетельством их восхищенного удивления является упоминавшаяся выше серия надписей, вырезанных воинами-эллинами на ноге колоссальной статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле (на юге Египта).
Разумеется, этих наемников нельзя еще назвать путешественниками в собственном смысле слова. Но вслед за солдатами и торговцами в Египте появились и настоящие туристы из Эллады. Впрочем, чтобы избежать современного слова, будем называть их паломниками. По этому поводу Геродот, в частности, пишет: «Когда Камбис, сын Кира, отправился в египетский поход, много эллинов также прибыло в Египет. Одни приехали, вероятно, для торговли, другие – как участники похода, а третьи, наконец, просто хотели посмотреть страну» (III. 139). Кстати, обратим внимание на то, что персидское завоевание страны фараонов отнюдь не пресекло визиты туда греков, а похоже, даже наоборот – способствовало им.
Этот бескорыстный интерес к чужой земле, вызванный чистой любознательностью, – в высшей степени характерный признак античного греческого мировоззрения. Проявился он еще задолго до похода Камбиса. Не случайно сохранились предания о пребывании в Египте ряда выдающихся деятелей интеллектуальной культуры эллинского мира.
Фалес Милетский – один из «семи мудрецов» и первый в мире философ – «ездил в Египет и жил там у жрецов… Он измерил высоту пирамид по их тени, дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами» ( Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 27). Другой знаменитый мудрец – афинянин Солон – тоже бывал в Египте, при дворе фараона Амасиса. Причем «Отец истории» специально оговаривает, что Солон отправился туда, «чтобы повидать чужие страны» (I. 30).
Очень похожие вещи сообщаются и о еще одном выдающемся философе – Пифагоре с Самоса: «Он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом свел его с Амасисом, он выучил египетский язык… Он явился… в Египте в тамошние святилища и узнал о богах самое сокровенное» ( Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VIII. 3). В рассказах о поездках эллинских мудрецов в долину Нила многое совпадает, все они написаны по одной общей схеме. Поэтому иногда считается, что вся эта традиция не исторична, выдумана. Даже визит Солона в Египет современные ученые порой отрицают {138} . Но для подобного чрезмерно критического отношения к источникам нет никаких серьезных оснований, тем более что сам Солон упоминает в стихах о своем пребывании в этой стране, «в устье великого Нила, вблизи берегов Канобида [60]60
Канобид – египетский город на самом западном рукаве Нильской дельты.
[Закрыть]» ( Солон. Фр. 6 Diehl).
Во всяком случае, совершенно несомненно, что Египет посетил главный предшественник Геродота на ниве исторического исследования – логограф Гекатей Милетский. Греческих историков, конечно, не могло не тянуть в страну, которая была в их глазах сокровищницей вековой мудрости. Преклонение перед египетскими древностями звало их туда. Поэтому не только не удивительно, а скорее вполне закономерно, что в один прекрасный момент в ряду эллинских интеллектуалов, устремлявшихся в страну фараонов, оказался и галикарнасец. Уже один только интерес к самому Египту мог бы служить достаточным основанием для такого путешествия. А к этому интересу у Геродота прибавлялись и иные мотивы.
Ведь он, занимаясь Греко-персидскими войнами, намеревался очень подробно осветить расширение Ахеменидской державы, завоевание ею новых земель. Соответственно, ему было не уйти от рассказа о присоединении к Персии Египта, которое свершилось при Камбисе, сыне Кира. А если принять во внимание излагавшуюся нами выше весьма вероятную гипотезу, согласно которой Геродот выполнял еще и роль своеобразного агента Афин – то ли по разведывательным, то ли по дипломатическим делам, а может быть, по тем и другим сразу, – то его поездка в Египет обретает новые, неожиданные обертоны. Афиняне в середине V века до н. э. чрезвычайно интересовались египетскими событиями. В их широких внешнеполитических интересах страна в долине Нила занимала заметное место.
По вопросу о целях поездки «Отца истории» в Египет – какая из них была главной – в науке сломано немало копий. Может быть, однозначный ответ так никогда и не будет найден. Ибо чтобы дать его, необходимо знать, во-первых, ситуацию в Египте и вокруг него, во-вторых – как можно более точную датировку пребывания там Геродота.
Первую «величину» мы знаем неплохо. Египет, попав под персидское владычество, в сущности, так и не смог с этим смириться. Его обитателей ни в малейшей мере не устраивало, что они живут теперь всего лишь в одной из рядовых провинций обширной империи, а не в собственном независимом государстве. Особенно если учесть, что это государство было одним из древнейших в истории человечества (а может быть, даже самым древним), могучим, богатым, процветающим, знавшим периоды грандиозного культурного расцвета, создавшим, в частности, такие архитектурные памятники, как Великие пирамиды – самые монументальные постройки Древнего мира (не считая разве что Великой Китайской стены), во всяком случае, самые высокие.
Гордясь своей долгой, богатой историей и высокой культурой, египтяне издавна отличались ксенофобией, неприязнью ко всему чужому. Геродот не устает это подчеркивать. «Придерживаясь своих местных отеческих напевов, египтяне не перенимают иноземных» (II. 79). «Эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа» (II. 91). «…Ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла. Они даже не едят мяса „чистого“ (в ритуальном смысле. – И. С.) быка, если он разрублен эллинским ножом» (П. 41).
В этом нет ничего удивительного. С высоты своей древности относясь довольно пренебрежительно ко всем прочим этносам, египтяне считали их грубыми, невежественными варварами. И каково им теперь было сносить подчинение одному из таких «варварских» народов? Когда персы, еще совсем дикие, кочевали в степях, Египет уже блистал всеми атрибутами развитой и утонченной цивилизации. Не раз уже прежде страна в долине Нила освобождалась от власти захватчиков. Сколько их было! Но все – одни за другими – канули в бездну небытия, а Египет как стоял, так и стоит, и нет ему конца…
Вполне закономерно, что египтяне регулярно восставали против ахеменидского владычества. И нередко их попытки увенчивались временными успехами. Как раз в то время, когда Геродот бороздил воды Эгеиды и Средиземноморья, около 461 года до н. э., произошло очень крупное восстание. Его возглавил, провозгласив себя фараоном, Инар – один из североегипетских вождей. Персидские гарнизоны удалось вытеснить из Египта, и Инар обратился за военной помощью в Афины. Афинский полис, несмотря на свои размеры – ничтожные по сравнению и с Персией, и с Египтом, – уже зарекомендовал себя как одна из самых могущественных держав тогдашнего мира. У всех на слуху были недавние славные победы афинян над персами.
Афинское народное собрание с энтузиазмом отнеслось к просьбе Инара. Ведь перед эллинами открывались новые, необычайно заманчивые перспективы сотрудничества с Египтом: расширить сферу своего влияния, потеснить Ахеменидов и окончательно унизить их, отторгнув от их державы одну из богатейших сатрапий. Особенно важно было то, что Египет с его плодородными почвами являлся подлинной житницей Средиземноморья, крупнейшим экспортером зерна, ведь Афинам постоянно не хватало собственного хлеба и они нуждались в его импорте. Как же было не откликнуться на предложение, исходящее от столь выгодного партнера?
В 459 году до н. э. сильный флот Афинского морского союза – до двухсот кораблей – отбыл в дельту Нила. Общими усилиями Инар и афиняне около пяти лет сдерживали постоянные атаки персов, не желавших примириться с утратой Египта. Но в конце концов удача оказалась на стороне неприятеля: в 454 году персидский полководец Мегабиз нанес тяжелейшее поражение противнику, и лишь жалким остаткам присланных эллинами морских сил удалось вернуться в Афины. Это была одна из самых громких побед Ахеменидов за все время Греко-персидских войн. А еще пять лет спустя был подписан Каллиев мир, завершивший эти войны, и по его условиям Афины обязались отказаться от попыток военного проникновения в Египет.
Всё это хорошо известно. Со второй же «величиной», необходимой для решения нашего уравнения, – датой египетского путешествия Геродота, – напротив, полная неясность. Теоретически возможны четыре варианта: Геродот посетил Египет либо (а) до восстания Инара, либо (б) в период этого восстания, то есть в 461–454 годах до н. э., либо (в) между восстанием и Каллиевым миром, то есть в 454–449 годах, либо, наконец, (г) после Каллиева мира.
Обратим внимание на то, что Египет, описанный Геродотом, находился под персидским владычеством. «Во времена царя Псамметиха египтяне выставили пограничную стражу в городе Элефантине против эфиопов, в Дафнах, что в Пелусийской области, – против арабов и сирийцев и в Марее – против ливийцев. Еще и в наше время стоит персидская стража в тех же самых местах, как и при Псамметихе» (II. 30). «Для персов и наемников, занимавших Белую крепость в Мемфисе, доставляется 120 тысяч медимнов хлеба» (III. 91). «Еще и поныне персы весьма заботятся об… огражденной плотиной излучине Нила и каждый год укрепляют ее» (И. 99).
Таким образом, вариант б сразу можно отбросить: во время восстания Инара персы, естественно, Египет не контролировали и их гарнизоны там не стояли. На первый взгляд весьма вероятным оказывается вариант а. Ведь до восстания власть персов над долиной Нила была уже достаточно долговечной и казалась прочной. Тогда мы должны допустить, что Геродот посетил Египет еще довольно молодым человеком, на первом этапе своих многолетних странствий. Ничего необычного в этом не было бы, ведь страна фараонов, как мы видели, давно уже являлась объектом постоянных паломничеств греческих интеллектуалов.
Есть, однако, один нюанс, который заставляет отказаться и от этого варианта. В 459 году до н. э. у местечка Папремис состоялось крупное сражение между повстанцами Инара и присланным из Персии карательным войском под командованием знатнейшего вельможи Ахемена – сына Дария I и дяди находившегося тогда на престоле Артаксеркса I. Египтяне одержали победу. Геродот был на месте этой битвы, рассматривал многочисленные останки убитых и сделал следующее интересное наблюдение: «Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египетские черепа были столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями… Таковы эти черепа. Такие… черепа я видел в Папремисе, где лежали тела персов, павших во главе со своим вождем Ахеменом, сыном Дария, в борьбе против ливийца Инара» (III. 12). Инар назван здесь ливийцем, поскольку он происходил из Северо-Западного Египта, граничившего с Ливией. Обратим еще внимание на то, как вольно историк обращается с человеческими костями, проводя с ними своеобразные эксперименты. Но самое главное здесь – то, что Геродот, судя по приведенному сообщению, побывал на египетской земле после 459 года – и, очевидно, не сразу после сражения, а спустя какое-то время: за это время трупы успели истлеть, и остались голые кости.
Стало быть, остаются два варианта – в и г. Как правило, в исследовательской литературе выбор делается в пользу последнего. Так, в довольно старом, но до сих пор весьма авторитетном комментарии к Геродоту сказано, что его египетская поездка имела место, скорее всего, около 440–438 годов до н. э., уже после того, как историк участвовал в основании Фурий {139} . Однако совершенно неясно, почему именно эта дата считается наиболее вероятной.